Левит С.Я. (сост.) Антология исследований культуры. Т 1. Интерпретации культуры
Подождите немного. Документ загружается.

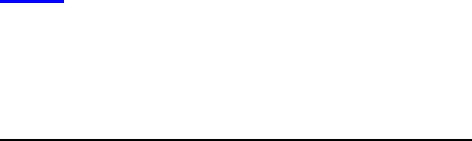
The Science of Custom // In The Making of Man V F Calverton, ed
New York Random House, 1931, pp 805-817
Anthropology and the Humanities American Anthropologist, 1948, N
41,pp 465-468 Boas Franz
The Study of Geography Science, 1887, N 9, pp 137-141
[1888]The Aims of Ethnology // In Race, Language and Culture
(1940) New York Macmillan, pp 626-638
Dissemination of Tales amond the Natives of North America Journal
of American Folklore, 1891, N 4, pp 13-20
==586
Л Уайт Три типа интерпретации культуры
The Limitations of the Comparative Method of Anthropology
Science, 1896, N 4, pp 901-908
The History of Anthropology Science, 1904, N 20, pp 513-24
Anthropology Lectures on Science,Philosophy and Art New York
Columbian Umv , 1908
Ethnological Problems in Canada //Journal of the Royal Anthropological
Institute of Great Britain and Ireland, 1910, N 40, pp 529-539
The Mind of Primitive Man New York Macmillan, 1911
The Methods of Ethnology // American Anthropologist, 1920, N 22, pp 311-321
The Aims of Anthropological Research // Science, 1932, N 76, pp 605-613
The Mind of Primitive Man rev ed New York Macmillan, 1932 Bryan, William Jennmgs, and
Mary Band Bryan
The Memoirs of Wiham Jenrungs Bryan Philadelphia John С Wmston, 1925 Chappie Eliot D
and Carleton S Coon
Principles of Anthropology New York Holt, 1942
Chicago, University of
A Syllabus of Anthropology Mimeographed copy, 1937 Childe V Gordon
Social Evolution London Watts, 1951 Einstein Albert and Leopold Infeld
The Evolution of Physics New York Simon and Schuster, 1938 Gamow George
The Birth and Death of the Sun New York Viking Press, 1940 Goldenweiser Alexander
Four Phases of Anthropological Thought an Outline // Papers and
Proceedings, American Sociological Society, 1921, N 16, pp 50-69
Anthropological Theories of Political Origins // History of Political
Theories С E Mernman and H E Barnes, eds New York Macmillan, 1924, pp 430-456
History, Phsychology and Culture New York Knopf, 1933 Graebner Fntz
Kulturkreise and KulturschichteH in Ozeanien // Zeitschnft fur
Ethnologic, 1905, N 37, pp 28-53 Gumplowicz Ludwig
The Outlines of Sociology F W Moore, trans Philadelphia American
Academy of Political and and Social Science, 1899 Hale George Ellery
The Study of Stellar Evolution an Account of Some Recent Methods
of Astrophysical Research Chicago Umv of Chicago Press, 1908 Herskovits Melville J
Man, the speaking Animal // Sigma Xi Quaterly, 1933, N 21, pp 67-82
The Significance of the Study of Acculturation for Anthropology //
American Anthropologist, 1937, N 83, pp 259-264
The Economic Life of Primitive Peoples New York Knopf, 1940
Economics and Anthropology a Rejoinder // Journal of Political
Economy, 1941, N 49, pp 269-278
Man and His Works New York Knopf, 1948 Hoebel E Adamson
Man in the Primitive World New York McGraw-Hill, 1949 Hoernie Mrs A W
New Aims and Methods in Social Anthropology // South African
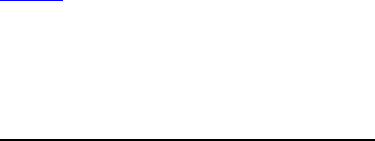
==587
Методы интерпретации культуры
Journal of Science, 1933, N 30, рр 74-92 Jeans Sir James H
Cosmogony and Stellar Evolution // Nature, 1921, N 107, рр 557-
560, 588-590 Kroeber A L
The Superorganic // American Anthropologist, 1917, N 19, рр 163-213
The Possibility of a Social Psychology // American Journal of
Sociology, 1918, N 23, рр 633-650
Anthropology New York Harcourt-Brace, 1923
So-called Social Science // Journal of Social Philosophy, 1936, N 1, рр 317-340
History and Evolution //Southwestern Journal of Anthropology, 1946, N2,pp 1-15 Kroeber A L
and Clyde Kluckhohn
Culture A Critical Review of Concepts and Definitions Papers of the
Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, 1952, N
47 Cambridge Harvard Umv Press Laufer Berthold
Review of Culture and Ethnology by R H Lowie // American
Anthropologist, 1930, N 20, рр 87-91 Levi-Strauss Claude
Histoire et ethnologie // Revue de Methaphysiquc ct de Morale, 1949, N 58, рр 363-391 Linton
Ralph
TheSudyofMan New York Appleton-Century, 1936
The Present Status ofAnthropology//Science, 1938, N 87, рр 241-248 Lowie Robert H
Culture and Ethnology New York Douglas С McMurtie, 1917
Primitive Society New York Bony and Liverhght, 1920
Review of Die Anfange des menschliclien Gemeinschaftslebens im
Spiegel der neuren Volkerkunde by Wilhelm Koppers // The
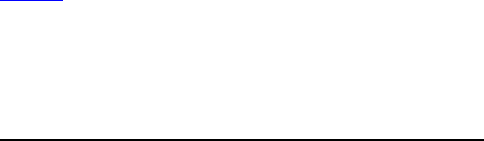
Freeman, 1921, N 3, рр 595-596
Cultural Anthropology a Science // American-! Journal of Sociology, 1936, N 42, рр 301-320
Introduction to Cultural Anthropology/ 2nd ed New York Farrar and
Rinehart, 1940
Evolution in Cultural Anthropology a Reply to Leslie White //
American Anthropologist, 1946, N 48, рр 223-233
Social Organization New York Rinehart and Co , 1948
Primitive Religion rev ed New York Liverhght, 1948 Malinowski Bronislaw
Argonauts of the Western Pacific New York E P Dutton, 1922
Coral Gardens and their Magic 2 vol New York American Book, 1935 Mead Margaret
Anthropology Bntannica Book of the Year, 1939 Mekeel Scudder
Review of Lamps of Anthropology by John Murphie // American
Sociological Review, 1943, N 8, p 747 Millikan Robert A
Science and the New Civilization New York Scnbner's, 1930 Morgan Lewis Henry
Indian Migrations// North American Review, 1869-1870, NN 109,
==588
Л. Уайт. Три типа интерпретации культуры
110,рр 391-442, 33-82
Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family Smithsoman Contributions to
Knowledge, 1871 N 17 Ancient Society New York H Holt, 1877 On the Ruins of the Stone
Pueblo on the Animas River in New Mexico With a Ground Plan Cambridge Peabody Museum
of American Archaeology and Ethnology 12th Annual Report, 1880 Houses and House-Live of
the American Aborigines United States Geographical and Geological Survey of the Rocky
Mountains Region Contributions to North American Ethnology, N 4, 1881 Muntsch Albert and
Henry S Spaldmg
Introductory Sociology New York D С Heath, 1928 Murdock George Peter
Social Structure New York Macmillan, 1949 Park Robert Ezra
Sociology and the Social Sciences // Introducton to the Science of Sociology by Robert E Park
and Ernest W Burgess Chicago Umv of Chicago Press, 1921, рр 1-63 Radcliffe-Brown A R
Some Problems of Bantu Sociology// Bantu Studies, 1922, N 1, рр 38- 46
The Methods of Ethnology and Social Anthropology // South African
Journal of Science, 1923, N 20, рр 124-147
The Mother's Brother in South Africa // South African Journal of
Science, 1924, N 21, рр 542-555
The Sociological Theory ofTotemism // Proceedings, Fourth Pacific
Science Congress, vol 3, Biological Papers, 1929, рр 295-305
The Present Position of Anthropological Studies // Proceedings, British Association for
Advancement of Science, 1931, рр 141-171
On Social Structure // Journal of the Royal Anthropological Institute
of Great Britain and Ireland, 1940, N 70, рр 1-18 Radm Paul
Primitive Man as a Philosopher New York Appleton, 1927
The Method and Theory of Ethnology New York McGraw-Hill, 1933 Redfield Robert
Tepoztlan, A Mexican Village A Study of Folk Life Chicago, Umv
of Chicago Press, 1930
Introduction Social Anthropology of North American Tribes Fred
Eggan ed , Chicago Umv of Chicago Press, 1937, рр VII-XII Rivers W H R
The History of Melanesian Society 2 vol Cambridge Cambridge
Umv Press, 1914 Sapir Edward
Review of Primitive Society by R H Lowie // The Freeman, 1920, N
1, рр 377-379
Anthropology and Sociology // The Social Sciences and Their
Interrelations William F Ogburn and Alexander Goldenweiser, eds
Boston Houghton Mifflm, 1927, рр 97-113 Schmldt Wilhelm
Primitive Man // European Civilization Its Origin and Development

I Edward Eyre, ed London Humpfrey Milford, 1934, рр 5-82
Primitive Revelation St Louis В Herder Book Co , 1939
==589
Методы интерпретации культуры
Schrodinger Erwin
Science and Human Temperament. London, 1955. Sieber Sylvester A and Franz H Mueller
The Social Life of Primitive Man. St Louis: B.Herder, 1941.
Spencer Herbert
The Principles of Sociology, vol.111. New York: Appleton, 1897.
Steward Julian H
Cultural Casuality and Law: A Trial Formulation of the Development ot Early Civilizations.//
American Anthropologist, 1949, N 51, pp.1-27. Theory of Culture Change: The Methodology of
Multilinear Evolution. Urbana: Umv. of Illinois Press, 1955. Cultural Evolution.// Scientific
American, 1956, N 194, pp. 69-80.
Strong William Duncan
Historical Approach in Anthropology // Anthropology Today, an Ecyclopedic Inventory.
Prepared under the Chairmanship ofA.L. Kroeber. Chicago. Umv. of Chicago Press, 1953, pp.
386-397.
Swanton John R.
Some Anthropological Microconceptions // American Anthropologist, 1917, N 19, pp 459-470.
Tax Sol
Some Problems of Social Organization.// Social Anthropology ot
North American Tribes. Fred Eggan, ed. Chicago: Umv. of Chicago
Press, 1937, pp. 3-32. Thurnwald Richard
Economics in Primitive Communities London. Oxf.Umv.Press, 1932.
Tozzer A.M.
Social Origins and Social Continuities New York: Macmillan, 1925.
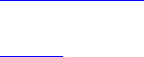
Tyior Edward Bumett
Researches into the Early History of Mankind. London; John Murray, 1865.
Primitive Culture, 2 vol. London. John Murray, 1871.
On the Game of Patolh in the Ancient Mexico and its Probable
Asiastic Origin.// Journal of the Royal Anthropological Institute of
Great Britain and Ireland, 1879, N 8, pp.. 116-129.
Anthropology. London: Macmillan, 1881.
On the Method of Investigating the Development of Institutions //
Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and
Ireland, 1889, N 18, pp.245-269.
White Leslie A.
Science is Sciencmg.// Philosophy of Science, 1938, N 5, pp.369-389
Diffusion vs. Evolution an Anti-Evolutionist Fallacy.// American
Anthropologist, 1945, N 47, pp. 339-356
Evolutionism in Cultural Anthropology, a Rejoinder.// American
Anthropologist, 1947, N 49, pp.400-413.
The Science of Culture. New York Farrar, Straus, 1949.
Williams Joseph J.
Boas and American Ethnologists // Thought, 1936, Nil, pp. 194-209
Young Kimball
Sociology. New York American Book Co., 1942.
Перевод М.В. Тростникова
К оглавлению
==590

00.htm - glava28
Эдмунд Лич
Введение. [Структурное исследование мифа и тотемизма] *
Издатели потенциально клеветнических романов иногда пытаются спасти свою шкуру и
предваряют текст уведомлением о том, что «все действующие лица данного произведения
полностью вымышлены». Почти то же самое можно сказать о главном закулисном герое
этой подборки критических эссе: каждый из авторов является носителем своих весьма
определённых идей о сути творчества Леви-Стросса и готов отстаивать их на своем
собственном поле. Но различные отображения Леви-Стросса, которые тем самым
обращаются в подобие старой грымзы тети Салли, на мой взгляд, имеют мало общего
между собой; однако не мне судить, как они соотносятся с реальным, живым Леви-
Строссом, профессором Коллеж де Франс. Если эта книга сможет пролить хоть какой-то
свет, то произойдет это скорее благодаря свету, который она проливает на основные
воззрения и подходы отдельных британских социальных антропологов, нежели по
причине наличия сколь-нибудь последовательного анализа трудов наиболее известного из
ныне живущих антропологов континентальной Европы.
Идея проведения симпозиума возникла весной 1963 г., когда члены Ассоциации
социальных антропологов на встрече в Оксфорде решили посвятить следующую встречу
серии докладов, посвященных деятельности Леви-Стросса. К тому времени как я оказался
вовлеченным в это мероприятие в качестве руководителя семинара, большинство
основных участников уже согласились подготовить доклады. На этой стадии я расценил
свою роль как чисто каталитическую и разослал участникам копии английского перевода
«La Geste d'Asdival», подготовленную для меня м-ром Николасом Мэнном. Я особо
благодарен профессору Леви-Строссу и м-ру Мэнну за раз-
" Introduction//The Structural Study of Myth and Totemism. L., 1971 P. VII - XIX
==591
Методы интерпретации культуры
решение напечатать этот перевод в качестве заставки к сборнику материалов симпозиума.
Многие авторы целиком переработали свои сообщения, и напечатанные здесь тексты в
некоторых случаях значительно отличаются от оригинальных. Особенно это относится к
докладам Барриджа и Уорсли. В этом издании отзыв д-ра Ялмена на «Le Cm et le cuit»
Леви-Стросса помещено непосредственно после доклада
д-ра Дуглас, но читатель должен
помнить, что эта книга в момент проведения симпозиума еще не вышла в свет. Если бы
она была опубликована раньше, доклады и дискуссии на семинаре могли принять совсем
другой оборот. К примеру, д-р Дуглас выражает удивление и недоумение по поводу того,
что Леви-Стросс настаивает
на том, что миф абсолютно не похож на поэзию, поскольку
«поэзия есть разновидность речи, которая не может быть переведена иначе как ценой
серьезных искажений, в то время как мифическая значимость мифа сохраняется в самом

отвратительном переводе». Д-р Дуглас считает, что этот аргумент некорректен, поскольку
сам Леви-Стросс сделал структурный анализ стихотворения Бодлера, используя ту же
самую методику, что и при анализе структуры мифов. Здесь явное непонимание. Д-р
Дуглас сумела бы лучше понять точку зрения ЛевиСтросса, если бы прочитала «Le Cru et
le cuit», где весьма ясно объясняется, что способ, при помощи которого миф передает
значение (или, скорее, опыт), идентичен способу, при помощи которого музыка передает
опыт. Леви-Стросс, судя по всему, считает, что мы воспринимаем узорчатую структуру
мифа так же, как воспринимаем повторения контрапункта и гармонические сочетания.
Согласно этой аналогии, детали отдельных мифологических историй подобны мелодии
отдельной музыкальной фразы, а мелодия является сравнительно простым элементом в
общении, который достигается при слушании музыки. Напротив, в поэзии значение слова
в данном употреблении всегда имеет первостепенное значение.
Но хотя я считаю, что в данном конкретном случае критика д-ра Дуглас несправедлива,
есть другие места в ее докладе, к которым я отношусь с большей симпатией. К примеру,
она отмечает, что, по мнению Леви-Стросса, мифическое качество мифа может распознать
каждый, и обращает внимание на замечание Рикёра о том, что Леви-Стросс рассматривает
лишь те мифы, которые взяты из географических регионов, где распространен тотемизм,
но нет ни одного примера из семитских, доэллинистических или индо-европейских
мифов». Это важное замечание. В самом деле, единственные мифы, которые
рассматривает Леви-Стросс, это мифы, в которых не-
==592
Э. Лич. Введение. Структурное исследование мифа и тотемизма____
которые или все действующие лица являются животными, наделенными человеческими
свойствами. Подобное ограничение позволяет Леви-Строссу достаточно просто
подтвердить тезис Руссо о том, что различие между Человеческим и Животным, или
между Культурой и Природой является одним из основных в мышлении первобытного
человека.
Те же из нас, кто подходит к проблеме интерпретации мифа с других позиций,
зачастую сталкиваются с тем, что вопрос «Что есть миф и что не есть миф» весьма
сложен. Первыми различие между мифами и историей провели древние греки, но сделали
это настолько неуверенно, что по сей день различия вызывают сомнения. Поскольку
произвольность содержания вербальных категорий — основная тема работы Леви-
Стросса, касающейся первобытного сознания (La Pensee sauvage), мне кажется
удивительным, что он столь уверен в том, что миф является естественной категорией.
С другой стороны, мне совсем не нравится, что д-р Дуглас в последних параграфах своего
доклада обрушивается на представление Леви-Стросса о том, что
человек — творец
культуры подобен самоделкину, выводящему свое коллективное представление о
культуре из найденного в самом захламленном углу лавки старьевщика мировой истории
и останков физической среды обитания человека. В отличие от д-ра Дуглас я не вижу
принципиальной разницы между этим выражением и формулировками типа «культура
Ветхого Завета» или «культура австралийских аборигенов».
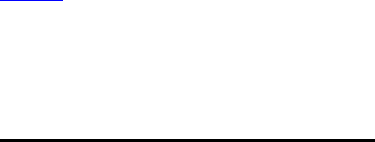
Хотя лично я являюсь гораздо большим поклонником методов Леви-Стросса, чем
большинство моих коллег, чьи работы представлены в этой книге, я, разумеется, не стану
утверждать, что техника анализа мифа и тотемизма, выработанная Леви-Строссом,
является единственно верной и что следовать можно только ей, и я более чем убежден,
что сам Леви-Стросс никогда бы такого не предположил. Дорога аналитического
прогресса не проходит через раболепное копирование признанных методик, будь то
методики ЛевиСтросса или кого бы то ни было еще. Мы сможем достичь новых земель
только в том случае, если будем систематически пытаться видоизменить или даже
вывернуть наизнанку ранее сформулированные доказательства. В этой
связи хотелось бы
отметить, то с моей точки зрения работа д-ра Барриджа распадается на две
приблизительно равные части. Первая часть в значительной степени посвящена
демонстрации значимости гегельянских категорий в мышлении Леви-Стросса. Вторая,
которая меня лично вдохновляет гораздо больше, посвящена анализу мифа, который сам
д-р Барридж записал в
==593
Методы интерпретации культуры
одной из экспедиций. Д-р Барридж отмечает, что «используемая им процедура анализа
нахально взбирается на широкую спину Леви-Стросса, но больше по части содержания,
чем по части формы». Очевидно, что полученные результаты далеки от тех, что получил
бы сам Леви-Стросс, но без революционных работ последнего они вообще не могли бы
быть получены.
Я думаю, что ответ на критику, которая содержится в конце доклада д-ра Барриджа,
опять-таки можно найти в области музыки. Д-р Барридж сожалеет о том, что в руках
ЛевиСтросса «все мифы становятся одинаковыми, поскольку он одинаково поступает с
одними и теми же вещами». Насколько справедливо это замечание, станет ясно в
зависимости от уровня, на котором был произведен анализ. К примеру, некая истина
содержится в утверждении «вся музыка одинакова», если сравнивать ее с другими типами
коммуникации, к примеру с человеческой речью. В то же время в лингвистике
существуют универсалии, справедливые для любого языка, к примеру, бинарная
оппозиция
между дифференциальными признаками. Однако и в музыке, и в человеческой
речи можно найти весьма значительное разнообразие проявлений. Справедливо, что на
одном уровне все работы Леви-Стросса посвящены тому, чтобы выделить и описать
общий язык всех мифов в том же смысле, в каком можно говорить об общности всей
музыки. Но я считаю
себя обязанным поинтересоваться у д-ра Барриджа, что позволяет
ему быть столь уверенным в том, что это «единообразие» «иллюзорно».
В любом случае, это не единственный уровень, на котором «работает» анализ Леви-
Стросса. Доклад д-ра Мендельсона главным образом посвящен критическому разбору
книги Леви-Стросса «Тотемизм сегодня». В отличие от двух предыдущих авторов, он
более склонен объяснять идеи ЛевиСтросса, нежели критиковать их, но он привлекает
внимание к тому, что вызывает наибольшие трудности у большинства англоязычных
читателей. Леви-Стросс в нескольких словах говорит об огромных этнографических
пространствах. И зачастую оказывается, что его подход к отбору фактов весьма
