Левит С.Я. (сост.) Антология исследований культуры. Т 1. Интерпретации культуры
Подождите немного. Документ загружается.

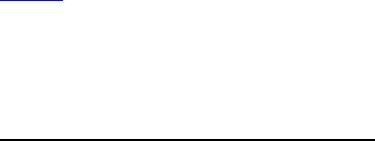
Стюард, разумеется, имеет полное право заниматься любым аспектом культуры по своему
выбору и решать наиболее интересные ему проблемы. Тем не менее, термины, в которых
он определяет свои интересы, вновь демонстрируют смешение истории и эволюции.
Очевидно, что Стюарда интересуют и эволюция, и история, с особым упором на
последнюю. Но, будучи не в силах различить исторические и эволюционные процессы, из
которых первые конкретизируют, а вторые обобщают, он стремится определить
эволюцию в терминах истории. Так, он пишет, что «эволюция в области культуры может
быть рассмотрена...как особый тип исторической реконструкции»(1955:27). Обсуждая
«Методы многолинейной эволюции», он утверждает, что «методология изучения
культуры остается главным образом в сфере исторического конкретизирования, а не
научного обобщения» (там же: 19-20). Стюард запутывает теорию эволюции и в другом
пункте своих рассуждении. Он определяет «эволюцию в области культуры...как поиски
культурных регулярностей или законов»(1955:14). Значит, когда он изыщет регулярности,
он будет считать, что нашел примеры эволюции. Ошибка здесь скрыта в предположении о
том, что если параллельные линии эволюции приводят к возникновению одинаковых
регулярностей, то сходные события в области культуры, или регулярности, должны
означать эволюцию. С таким же успехом можно утверждать, что, поскольку все коровы —
млекопитающие, все млекопитающие — коровы.
Стюард приводит нам два примера кросс-культурных регулярностей, каждый из которых
он называет «линией эволюции». Первый касается двух достаточно различных культур:
овцеводческих алгонкинских племен Канады и занимающихся добыванием каучука
племен мундуруку в Бразилии, которые одинаково отреагировали на влияние европейских
торговцев. В каждом случае племя «утратило самостоятельность
==553
Методы интерпретации культуры
в сфере обеспечения средств к существованию» и попало в зависимость от торговцев,
снабжавших их пищей, одеждой, мануфактурой в обмен на меха алгонкинов и каучук
мундуручи (1956:75). Во втором случае Стюард считает, что индейцы, живущие на
равнинах Северной Америки и в пампасах Южной Америки, одинаково отреагировали на
вторжение белого человека: получив в свое распоряжение лошадей, они сформировали
бродячие банды грабителей, которые оказывали сопротивление захватчикам.
В обоих случаях перед нами одинаковые события, случившиеся в весьма далеко друг от
друга расположенных регионах. Согласно Стюарду, это и есть «кросскультурные
регулярности». Но что позволяет назвать их «линиями эволюции»? Мы наблюдаем всего
лишь одинаковые причины, породившие одинаковые последствия
. Если появление виски
возымело определенный эффект на социальную жизнь эскимосов и апачей, можно ли это
назвать «линией эволюции»? Следуя рассуждениям и доводам Стюарда, ответ должен
быть положительным. Важно, однако, отметить, что, когда Стюард говорит о книге
Редфилда, он отказывается приравнивать регулярности к эволюции. «Не все параллели
обязательно базируются на сходстве развития, — пишет он. — Так, изменения в жизни
сельского общества под воздействием урбанизации вряд ли можно назвать «эволюцией»,
как то утверждает Редфилд» (1955:27) Однако, очевидно, что регулярности Стюарда, под
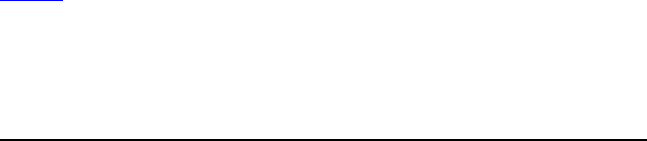
которые подпадают и трапперы, и трактирщики, в корне отличаются от тех процессов,
которые он описывает, говоря о таких регионах, как Египет, Месопотамия и северный
берег Перу (1956:75). В этом случае он вскрывает сходство в развитии, которое
подразделяет на три стадии. Первая стадия: земледелие, оседлая жизнь в деревнях.
Распространение земледелия в связи с ирригацией обозначает начало второй стадии, когда
увеличивается население, происходит профессиональная дифференциация в обществе,
появляется правящий класс, достигается значительный технологичекий прогресс. На
третьей стадии национальные государства, достигнув пределов возможного
водоснабжения, начинают войны с соседями, «государства вырастают в империи» и т.д.
Здесь перед нами действительно эволюционный процесс, направленный характер
перемен, хронологическая последовательность форм культуры, одна из которых
вырастает из другой. Это нечто большее, чем простое сходство, как в случае с трапперами
и трактирщиками. Таким образом, он все-таки описывает некоторые, по крайней мере,
одну, «линию эволюции» (1956), и она действительно является настоящим эволюционным
процессом, остальные же никакого отношения к эволюции не имеют.
==554
Л. Уайт. Концепция эволюции в культурной антропологии_____
Полевые исследования и теория эволюции
Убежденность в том, что полевые исследования подорвали и практически опровергли
теорию эволюции культуры, достаточно распространена среди антропологов. «Как только
социологи оторвались от книг и теорий и обратились к живым людям, чтобы собрать
нужные им сведения, — заметил Кимбелл Янг, — вся однолинейная теория обрушилась
под собственным весом»( 1942:99). Стюард замечает, что «полевые исследования...
антропологов XX в. проверили и подвергли сомнению значимость... особых
эволюционных формулировок таких авторов как Морган и Тайлор» (1949:1, он повторяет
это замечание в 1955:15). Эта точка зрения поддерживается также Херсковицем
(1933:67,72;1937:259), Сепиром (1920а:377), Гёбелем( 1949:485) и др.
Тезис о том, что «полевые исследования подорвали и опровергли теорию эволюции
культуры», прекрасно служил антиэволюционистам в течение десятилетий. Для людей
некритичных он был не только правдоподобным, но и убедительным: эволюционисты
были «книжными червями», по выражению Сепира (1920а:377); культурный
эволюционизм стал «охотничьим угодьем для натаски образного мышления»
(Голденвейзер,1921:55); Радклиф-Браун отнес реконструкции эволюционистов к
категории «предположительной истории», а Малиновский назвал их «ломбардом вольных
построений». Таким образом, теория эволюции была представлена в виде чистой
спекуляции, граничащей с фантазией. А затем пришла полевая работа, эмпирика, и факты,
факты, факты...
Как ни правдоподобен на первый взгляд этот тезис, он, тем не менее, необоснован и
способен ввести в заблуждение. В первую очередь он предполагает наличие
непреодолимой пропасти между теорией и фактами, что есть бессмыслица. Кроме того, он
разделывается с теорией эволюции как следствием первоначальной аксиомы.
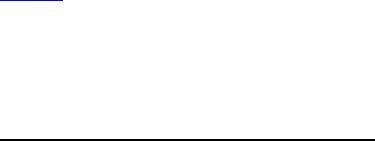
Разумеется, между теорией и практикой нет никакой несовместимости; без теории факт
мертв и бессмыслен; теория есть дыхание жизни науки. Что же касается непосредственно
теории эволюции, то сложно назвать какие бы то ни было результаты полевых
исследований с 1881 г., когда была опубликована «Антропология» Тайлора, которые бы
не состыковывались с общей теорией эволюции культуры. И, что характерно, ни один из
адептов тезиса о полевых работах и теории эволюции, насколько нам известно, не указал
ни единого примера того, как именно полевые исследования опровергли теорию
эволюции; они использовались лишь как предлог.
==555
Методы интерпретации культуры
Справедливо, что Морган, когда в 1864 г. писал «Системы кровно родственные и взаимно
склонные», не знал, что большинство примитивных народов в XIX в. были
преимущественно моногамными — факт, который противоречил его теории о об
эволюции семьи от промискуитета к моногамии. Но его теория была частной теорией
эволюции, а не общей, и её поддерживали далеко не все эволюционисты; Тайлор, к
примеру, считал, что человек имел семью с самого начала. Во-вторых, теория
первобытного промискуитета Моргана была вовсе не плодом его «богатого воображения»,
она вытекала из большого количества фактов и базировалась на них — на родословных,
которые он сам составил в процессе полевых исследований.
Полевые исследования могут показать, по какой линии происходит наследование у
данного народа: по материнской или по отцовской, но они не скажут вам, какая из них
предшествовала другой в процессе социальной эволюции. Полевые исследования могут
прояснить, есть у народа кланы или нет, но они не скажут вам, как образовалась клановая
структура. Факты, интерпретированные в «
Происхождении видов», были известны за два
столетия до Дарвина. Полевые исследования снабжают ученого фактами, человеческий ум
— его «образное воображение» — должен выработать теорию. Утверждение о том, что
полевые работы опровергли теорию эволюции — хороший пример отношения членов
группы Боаса к «классическим» эволюционистам и к самим себе: они представляют в
ложном свете предшественников,
они превращают в достоинства собственные недостатки.
Остановимся вкратце на этих двух пунктах.
Если этнология Моргана была ложна, то отнюдь не из-за отсутствия полевых
исследований. Сам Морган был усердным и неутомимым полевым исследователем. Он
проводил месяцы и годы с ирокезами. Он совершил четыре экспедиции в районы Канзаса
и Небраски, в Канаду, в верховья Миссури в 1859-1862 гг. (Уайт, 1951). А в 1878 г. он
совершил археологическую и этнологическую поездку на Юго-Запад США (Уайт,1942а).
Согласно Кларку Уисслеру, Морган был «пионером, если не основателем полевых
исследований феноменов культуры» (1929'340) И Лоуи, один из самых ярых критиков
Моргана, отдает ему дань как полевому исследователю (19366:169). О Тайлоре Лоуи
пишет, что он «хотя и не был полевым исследователем, был весьма далек от кабинетного
антрополога» (1937:69, выделеноУайтом). Молодым человеком он в изобилии наблюдал
примитивные общества и останки доисторических культур в Мексике, а в 1884 г. он
предпринял путешествие к индейцам хопи, живущим в пуэбло. И никто из антропологов

не был более скрупулезен и осторожен в использовании фактов, чем Тайлор. Так что
совер-
==556
Л. Уайт. Концепция эволюции в культурной антропологии_____
шенно очевидно, что мысль о том, что классические эволюционисты были кабинетными
учеными, что их теории были ложными из-за отсутствия фактического материала и
результатов полевых исследований, абсолютно неверна.
Мы предполагаем, что группа Боаса отвергала теорию эволюции не потому, что она
противоречила результатам полевых исследований, но потому, что ее члены были против
теории в целом С легкой руки Боаса среди его учеников, пишет Радин, установилось
отношение «резкого отторжения каких бы то ни было теорий вообще»( 1933:253).
Бертольд Лофер в рецензии, восхваляющей одну из книг Лоуи, провозгласил, что «никому
не даст и гроша ломаного за новую теорию» (1930:162). Отвращение к теориям среди
боасианцев было настолько велико, что Клакхон заметил: «Сказать о чем-то
«теоретический» равносильно обвинению в некоторой непристойности» (1939:333). Как
это часто отмечалось, для Боаса факт был чем-то высшим: «С Боасом антропология стала
на фундамент эмпиризма» (Гёбель, 1949:485). «Боаса прежде всего следует воспринимать
как полевого исследователя» (Лоуи,1937:131). «Суть метода [Боаса], — пишет Радин
(1939:301), — заключается в том, чтобы... собрать факты, и еще больше фактов... и дать
им говорить самим за себя». Но факты не говорят и не могут говорить сами за себя;
необходим творческий ум, чтобы сделать их доступными и осмысленными. Многие
почитатели Боаса восхищались им за его отвращение к теории, философским системам,
склонному к размышлениям уму в принципе. Иначе говоря, ошибки и недостатки
этнологии Боаса, его антинаучность — поскольку без теории и философских систем нет
науки — были обращены в достоинства (см. Уайт,1947в:406-08 и 19466:91).
Заключение
Таковы основные события в истории эволюционной теории в культурной антропологии с
тех пор, как 100 лет назад вышла в свет книга «Происхождение видов». Вряд ли кто ныне
осмелится отрицать фундаментальную значимость теории эволюции в биологических
науках. Эволюционная теория все шире и шире используется в астрофизике и космогонии.
Было время, когда теория эволюции в науках о культуре также была общепризнанной и
приносила свои плоды. Образованному и мыслящему биологу, астроному, философу
будет непросто объяснить, почему целая школа культурантропологов отвергла одну из
наиболее фундаментальных и плодотворных концепций в истории науки. Мы постарались
объяснить некоторые причины этого и указать на
==557

Методы интерпретации культуры
методы, которые она использовала в своих попытках выполоть эту концепцию со своих
полей и изгнать ее из своих рядов.
В настоящее время существуют некоторые признаки того, что эпоха антиэволюционизма в
культурной антропологии завершается. Это подобно выходу из темного тоннеля или
пробуждению после кошмарного сна. Драгоценное время было потеряно в
противостоянии
этой плодотворной научной концепции, но теория эволюции вновь
займёт свое место и докажет свою значимость в культурной антропологии, как это уже
произошло в других областях науки. Древняя дихотомия история/наука не может более
отрицать ее или затуманивать. И здание эволюционизма не будет более искусственно
расчленено по живому на однолинейность и многолинейность
. Мы снова вернемся к
старой и простой мысли, так прекрасно выраженной Тайлором: «...основной принцип,
который твердо должен себе усвоить каждый ученый, если он имеет желание познать или
мир, в котором он живет, или историю прошлого» (1881:20).
Перевод М.В. Тростникова
Библиография: см. стр. 586-590
==558
00.htm - glava27
Лесли А. Уайт
История, эволюционизм и функционализм как три типа интерпретации культуры'
Введение
Идея написать эту статью родилась так: меня пригласили выступить на семинаре перед
студентами Чикагского университета. В ходе нашей дискуссии я ощущал, что никак не
мог определить, откуда взялось это затруднение. Когда семинар закончился, мы
переместились в тихое и
непринужденное местечко — закусить и продолжить наш
разговор. Перед этим меня осенило, что мешало мне вести дисуссию со студентами: они
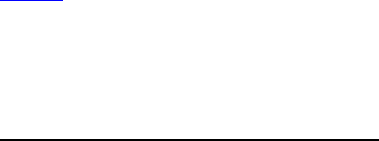
предполагали, или считали само собой разумеющимся, что если бы я был
эволюционистом, то должен был бы противопоставлять себя функционалистам. Судя по
всему, они также пребывали в уверенности, что человек, занимающийся историей
культуры, обязательно резко отрицательно относится к функционализму. Вкратце их
воззрения сводились к следующему: если человек поддерживает один из трех типов
анализа культуры, он обязательно отрицает остальные два. Возможно, подобные
воззрения будут казаться невероятными в 1975 г., но в 30-е годы они преобладали,
поскольку узы, соединяющие учителей и учеников различных «школ», были весьма
крепки.
Для таких воззрений у студентов были все основания. Между функционализмом
(особенно Радклифа-Брауна) и этнологией Франца Боаса и его учеников существовал
весьма сильный антагонизм. А культурный эволюционизм отвергался и подвергался
поношениям со стороны большего числа американских антропологов. Для студентов было
ясно, как день, что, если ты принадлежишь к одной школе, ты обязан отвергать остальные
две.
Я пришел домой и написал эту статью. Я считал (и до сих пор
" History, Evolutionism, and Functionalism: Three Types of Interpretation of
Culture//Southwcstern Journal of Anthropology :1:2:221-248. 1945.
==559
Методы интерчрешции ку.иш.уры
считаю), что история, эволюционизм и функционализм суть три различных четко
отграниченных друг от друга способов интерпретации культуры, каждый из которых
одинаково важен
Профессор Кребер отозвался на мою статью в «Истории и эволюции»(1946). Он
продемонстрировал резкое нежелание согласиться с моей троичной классификацией
интерпретации культуры. Он предпочитает дихотомию «история/наука» и замечает, что,
«если эта дихотомия справедлива, места для эволюционизма Уайта не остается» (с. 13).
«Иногда то, что Уайт называет эволюционизмом является историей, иногда — наукой» (с.
15). Но если «эволюционизм Уайта окажется действительно ясным методом, его
признание будет жизненно важно» (с.5; выделеноУайтом.)
Профессор Кребер адресовал свою реплику «эволюционизму Уайта», не признавая того,
что теория эволюции была весьма хорошо разработана — и плодотворна — задолго до
того, как в конце XIX в. стало развиваться антиэволюционистское направление. Он
трактует мою статью так, словно она является аберрацией. Но его пророчество о том, что
признание значимости культурной эволюции было бы «чрезвычайно важным», родилось
спустя десятилетия после наших статей по этому вопросу.
В современной антропологии широко распространена точка зрения, согласно которой
существуют всего два, только два, не более чем два способа интерпретации культуры:
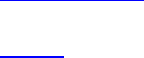
«исторический» и «научный». Исторические штудии, согласно этой точке зрения,
занимаются описанием хронологического ряда отдельных имевших место событий.
Историческое объяснение культурной данности должно заключаться в воспроизведении
предшествующих релевантных событий. Как об этом писал профессор Р.ГЛоуи
(1917а:82), «объяснение культурного феномена будет заключаться в соотнесении его с
тем, что произошло ранее». Таким образом, употребление табака эскимосами Аляски
должно быть «объяснено» посредством истории распространения табака и трубок по
всему миру до тех пор, пока они не достигли эскимосов Азии, а впоследствии Аляски.
«Научная» интерпретация, согласно вышеуказанным воззрениям, не связана ни с
временной последовательностью событий, ни с их уникальностью, но лишь с их общей
схожестью. Эти схожести описываются посредством обобщения. Культурная данность
«объясняется», таким образом, если удается показать ее отнесенность к более широкому
классу явлений. А.Р.РадклифБраун говорит об этом следующее: «К жизни человека в
обществе применим обобщающий метод естественных наук, призванный сформулировать
общие законы, лежащие в ее основе,
К оглавлению
==560
и объяснить любое данное явление в любой культуре как отдельный пример общего
вселенского закона» (1931 а: 154).
Следовательно, так называемые брачные группы арунты, кланов хопи, и «кукурузные»
группы isleta pueblo могут быть объяснены посредством демонстрации того, что они суть
конкретные примеры общего процесса сегментации в человеческом обществе.
Основной тезис данной работы заключается в
следующем: в культуре существуют три
четко разграниченных и вычленимых процесса и, соответственно, существовали и должны
существовать три соответствующих способа ее интерпретации. Эти три процесса вместе с
соответствующими им способами интерпретации культуры суть: 1) временной процесс
является хронологической последовательностью единичных событий; его изучает
история; 2) формальный процесс представляет явления во вневременном, структурном и
функциональном аспектах, что дает нам представления о структуре и функции культуры;
3) формально-временной процесс, представляющий явления в виде временной
последовательности форм; его интерпретацией занимается эволюционизм. Таким образом,
мы различаем исторический, формальный (функциональный) и эволюционный процессы в
отличие от просто исторического (временного) и «научного» (вневременного).
Разумеется, справедливо и имеет право на существование разграничение временных и
вневременных аспектов различных явлений. Но назвать изучение одних «историей», а
других — «наукой» необоснованно и неверно. Мы не говорим, что астрономия является
«наукой», когда изучает вневременные повторяющиеся процессы поведения небесных
тел, и что она не является наукой, когда изучает уникальные временные процессы,
приведшие к образованию солнечной системы.
Астрономия — наука, изучающая и
интерпретирующая небесные явления в их временном, неповторяющемся (историческом)
аспекте; в их вневременном повторяющемся (формально-функциональном) аспекте и в их
формально-временном неповторяющемся (эволюционном) аспекте. Точно так же
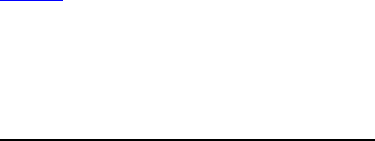
изучение культуры интерпретирует или должно интерпретировать культурные явления в
тех же трех аспектах.
«Научное» изучение культуры, согласно вышеуказанной точке зрения, связано с
вневременным аспектом явлений; «историческое» — с временным аспектом. Но, как мы
только что продемонстрировали, в культуре существуют два отдельных четко
отграниченных процесса, каждый из которых носит временной характер: исторический
процесс и эволюционный процесс. Антропологи, которые различают лишь «историю» и
==561
Методы интерпретации культуры
«науку», различить эти два временных процесса не смогли. Так, Боас (1904:515) считает
«идею о том, что современные явления развились из предыдущих форм, с которыми
связаны генетически», чисто эволюционистскую концепцию, примером «исторической
точки зрения». Он называет эволюционистский подход Дарвина «историческим» (там же).
В другой работе (1908:20) он приравнивает эволюционизм к истории: «эволюционисты и
Бастиан представляют, таким образом, исторический подход (первые) и психологический
подход (второй). Он также говорит о работах Спенсера, Тайлора и Моргана как об
«иллюстрирующих историю цивилизации» (там же: 15)». В то же время Радклиф-Браун
(1923: 125) пишет: «Первое, что я предлагаю назвать историческим методом, объясняет
данные установления...прослеживая стадии их становления». Для миссис А.У.Эрнле
(1933:78) эволюционные теории Спенсера и Дарвина — «исторические»: «историческими
являются обе концепции, поскольку они изучают временной ряд событий».
Смешение налицо. Два совершенно различных процесса, два различных типа
интерпретации называются «историческими» лишь потому, что они «оба изучают
временной ряд событий». Точно так же можно назвать черепах «птицами», потому что и
те, и другие откладывают яйца. «Принципы социологии» Спенсера и «Древняя история»
Моргана в той же степени «истории цивилизации», как и трактат по истории эволюции
человека — история рас или трактат об эволюции денежных единиц — история
коммерции и банковского дела, или монография о росте — биография человека. Но
следует отметить, что при смешении эволюции и истории эти процессы все-таки
трактуются по-разному: наиболее вероятно, что исторический процесс не назовут
«эволюцией», в то время как эволюцию историей назовут. Соответственно, при смешении
истории и эволюции последняя оказывается затуманенной и сокрытой, в то время как
«история» выдвигается на передний план; эволюция и эволюционистский подход к
интерпретации исчезают. Это крайне значимо. Это — выражение, как мы убедимся в
дальнейшем, реакционных антиэволюционных тенденций, начавших доминировать в
антропологии с 1890 г. Прежде чем обсуждать наш тезис, приведем некоторые факты из
истории этнологической теории.
Точка зрения, согласно которой существуют лишь «исторический» и «научный» подходы,
доминировала в антропологии не всегда. В американскую антропологию она была введена
Францем Боасом и развита его учениками. Она — неотъемлемая часть воззрений группы
функционалистов, возглавляемой А.Р.Радклифом-Брауном. До 1890 г., однако, в

==562
Л. Уайт. Три гипа интерпретации культуры
работах ведущих антропологов были представлены все три типа подходов к
интерпретации культурных явлений, — исторический, функциональный и эволюционный
— все они применялись свободно и без каких бы то ни было предрассудков. Только после
воцарения с легкой руки Боаса философии антиэволюционизма эволюционистский подход
начал отвергаться или отбрасываться, в результате чего остались лишь «история» и
«наука». Но обратимся сперва к работам ранних антропологов.
Работы Э.Б.Тайлора имеют отношение ко всем трем типам культурных процессов,
выделенным нами выше. «Исследования по ранней истории человечества» (1865) и
многочисленные статьи Тайлора в основном посвящены историческому процессу; он
пытается проследить хронологическую последовательность отдельных событий,
реконструировать историю. Его статьи о piston bellows и патоли являются классическими
образцами подобного рода исследований. Он также интересуется формой и функцией в
культуре, во вневременных, функциональных взаимоотношениях различных культурных
особенностей или комплексов. Его статья «О методе исследования развития
институтов»(1889) — замечательный пример функционального анализа. И, конечно,
Тайлор весьма интересовался эволюционными процессами в культуре, в которых его
внимание привлекали не хронологическая последовательность отдельных частных
событий, но общий процесс хронологических перемен, временная последовательность
форм, перерастание одной формы из предшествующей в последующую. Его трактовки
эволюции технологии, социальных форм, языка, письма могут служить примерами
исследований в этой области.
Хотя Льюис Морган занимался, в основном, эволюционистскими процессами, в
распространении культуры он признавал и исторический процесс, и много внимания
уделял вневременным, формально-функциональным аспектам культуры. По отношению к
истории, в «Системах кровного и духовного родства» Моргана читатель обнаруживвает
богатую россыпь отсылок к процессам диффузии (1872, см. с.62, 181, 188, 198, 198, 471).
В «Древнем обществе» он решительно утверждает принцип, согласно которому «где бы
ни существовала континентальная связь, все племена должны были
в какой-то степени
содействовать прогрессу друг друга» (1877:40). А большая часть его труда по
американской этнологии была посвящена реконструкции истории миграции народов и
истории культуры американских индейцев (см. Морган 1869-70, 1877:108 и далее;
1880б:551;1881:196-97). «Дома и домашняя жизнь» Моргана дышит духом
функционализма. В этой
==563

Методы интерпретации культуры
работе он в основном касается взаимоотношений между культурными тенденциями и со
значимостью одной тенденции с точки зрения других или с точки зрения культурного
целого. «Архитектура жилища северных племен [говорит он] сама по себе имеет весьма
небольшое значение, но как результат социальных условий их проживания...весьма и
весьма значима»(с.105). Ярко и доказательно Морган показывает, как домашний уклад,
способ существования, система землевладения, способ приготовления пищи из общих
запасов, застольные традиции и архитектура жилища взаимосвязаны и
взаимопереплетены в единой культурной структуре.
Таким образом, мы установили, что антропология в Европе и Америке, представленная
двумя наиболее значимыми учеными XIX в., работавшими в этой области, признавала
наличие
трех типов культурных процессов; антропологические исследования 70— 80-х
годов, были историческими, эволюционистскими и функционалистскими. Ни Морган, ни
Тайлор не подытоживали свои теоретические воззрения в философских работах;
очевидно, они не считали это нужным. Но они сознавали различие этих трех процессов, и
их работы написаны с учетом этого.
Все переменилось со времен Моргана
и Тайлора. Сейчас признается лишь два типа
культурных процессов: антропология может быть либо «наукой», либо «историей». В
одной из своих самых ранних теоретических статей «Изучение географии» (1887:138)
Боас обсуждает «старое противоречие между историческими и физическими
[«научными»] методами». Но это различие, сформулированное более четко, мы
обнаруживаем в его поздней статье «История антропологии» (1904:514): «В антропологии
четко выделяют два метода исследования и целей изыскания: первый, исторический
метод, пытается реконструировать реальную историю человечества; второй, обобщающий
метод, старается установить законы их развития».
Эта дихотомия в явном или неявном виде присутствует во всех теоретических работах
Боаса.
То же различие обнаруживается в трудах АЛ.Крёбера. Он говорит, что существуют «два
пути интеллектуального освоения действительности в истории и в науке, каждый со своей
отдельной целью и набором методов»( 1917:208). Это главная тема его статьи «История и
наука в антропологии», равно как и других работ (см. Крёбер 1918а и 1936). Эта
дихотомия выделяется профессором Р.Г.Лоуи в «Примитивном обществе» (1920а) и в
других работах (напр., Лоуи 1936а).
В «Методе и теории этнологии» (1933) д-р Пол Радин неоднократно проводит
разграничение между «историческим подхо-
==564
Л. Уайт. Три типа интерпретации культуры
