Герчук Ю. Советская книжная графика
Подождите немного. Документ загружается.


«прекрасная мисс Дженни* — наездница и грубовато-мясистая
«мамзель Фрикасе на одном колесе»...
Художник своего времени, Лебедев отдал дань и детской
«производственной» книжке. «Вчера и сегодня». — это гимн новым,
умным вещам, которые современная техника создает на смену
отживающим старым. Новые изображены в бодрой манере плаката,
старые — насмешливыми приемами карикатуры. Старый быт
нуждается не в
26
27
улучшении, он отвергается и должен быть целиком заменен новым.
Волевым, деятельным отношением к миру проникнута книжка «Как
рубанок сделал рубанок». Крупно, чуть ли не в натуральную
величину вычерчены на ее страницах рубанки, молотки и стамески.
Лебедев по-конструкторски обнажает структуру предмета.
Некоторые инструменты изображены в разрезе, показано, как они
устроены, для чего служат, как работают. Они собраны из деталей
разного характера, цвета и фактуры. Именно фактура придает им
вопреки чертежному, плоскостному способу изображения
необычайную, даже для Лебедева, осязаемость и весомость. Это
тяжелые, крепкие, рабочие вещи.
Любопытно, что на обложке этой образцовой «производственной»
книжки написано «сказка»! Адресуя свое стихотворение самому
маленькому читателю, Маршак «оживил» инструменты, заставил их
самостоятельно действовать, разговаривать... Однако не в
принципах Лебедева было пририсовать предметам глазки и ручки.
Поэтому он превратил сказку в деловую, без всяких уступок
занимательности, но от этого не менее увлекательную повесть о
настоящей работе и настоящих инструментах.
Вместе с Лебедевым создавала в Ленинграде убедительный
графический язык для «производственной» книжки-картинки целая
плеяда талантливых художников.
В немногие годы этот новый язык буквально преобразил детскую
книгу. В 1925 году вышел сборник загадок С. Маршака,
посвященных технике,— «Чудеса» с подробными и нарядными,
чисто бытовыми по характеру иллюстрациями Б. Кустодиева. Через
год другой художник—Михаил Михайлович Цехановский (1889—
1965) — ту же книжку превратил из бытовой в производственную
(«Семь чудес», 1926). Текст тот же, а книжка другая, не только по
облику, но и по смыслу. Отпали бытовые подробности, множество людей, переполнявших
рисунки Кустодиева. Даже тех, кого необходимо было изобразить по сюжету — мальчишку-
газетчика, барышень-машинисток,— художник превратил в детали рекламных плакатов,
чтобы единственными героями книжки остались вещи. Все они изображены звонкими
чистыми красками, четко и точно. Детали упрощены, но так, что со- .
храняется и даже усиливается ощущение их конструктивной связи друг с другом. Паровоз,
трамвай развернуты на плоскости листа, как на чертеже, но плотность цветовых силуэтов,
слегка офактуренных по изгибам формы, не дает им потерять материальность, превратиться
в невесомые схемы. Особенно любит Цехановский вещи плоские, которые можно прямо
наложить на страницу, совместить с ней. Монеты и трамвайные билеты, спичечные и
чайные этикетки, рекламы и конверты, кажется, не нарисованы в книге, а просто
присутствуют, живут на страницах.
То же сочетание предельной предметности с лаконизмом, декоративной яркости с
технической деловитостью сохранил художник и в своей лучшей, бесконечно
переиздававшейся работе — в «Почте» С. Маршака (1927), где повторяется, чередуясь с
изображениями почтальонов разных стран, с пароходами и почтовыми вагонами, один и тот
же осязаемо натуральный конверт, постепенно обрастающий наклейками, печатями,
поправками в адресе.
Почти целиком было посвящено технике творчество Владимира Александровича Тамби
(1906—1955). Он не только иллюстрировал, но и делал состоящие из одних картинок
книжки о кораблях, самолетах, автомобилях. У него было своеобразное и острое чувство
механизма — его подвижности и угловатой жесткости, его составной, из отдельных деталей
собранной структуры. Плотные цветные страницы этих книжек густо, до предела заполнены
разнообразными движущимися механизмами — летающими, едущими или плывущими.
Кажется, художник коллекционирует все разновидности машин, как страстный биолог
собирает бабочек и жуков, пораженный и увлеченный многообразием форм и видов, их
сложной специализацией и хитрой механикой. Выразительная и точная графическая
техника, в которой деловитая чертежная графика тогдашних инженерных журналов
претворена в художественно осмысленную систему, кажется, одухотворяется у Тамби по-
мальчишески простодушной любовью к машине.
В литографических книжках-картинках, адресованных дошкольникам и младшим
школьникам, графический рассказ играл основную или, по крайней мере, равную с текстом
роль. Рисунки же Николая Федоровича Лапшина (1888—1942) в научно-популярных книгах
для подростков кажутся лишь скромным, не навязчивым еопро-
28
29
вождением текста, вполне деловым, не претендующим на самостоятельное значение
комментарием. Художник не прерывает течения рассказа, не рисует лишних подробностей.
Как будто мимоходом он набрасывает свободным, легким штрихом
старинные часы или свечу, гончара за работой или схему газового
завода. В знаменитых книгах М. Ильина, посвященных истории
изобретений, эти крошечные, беглые картинки, густо рассыпанные
по страницам, не только дают зримую форму тому, о чем говорит
писатель. Незаметно вводят они читателя и в ощущение эпохи,
истории, сдержанно, но всегда точно откликаются на стиль
изображаемого времени и не только в передаче облика предметов,
но и в столь же лаконичных миниатюрных сценках. В рисунках
вполне делового содержания, например в изображениях
светильников, еле раздвигающих тьму коптящими язычками
пламени, художник умеет создать и определенное настроение.
Лапшин на удивление свободен от какой-нибудь предвзятой манеры
рисунка. Он пользуется то пластичной и сочной линией, свободным
мазком туши, то зернистой фактурой шероховатой бумаги,
позволяющей получать в книге при помощи обычного штрихового
клише выразительные переходы тона. Послушно следуя за автором,
он легко переходит от рассказа о случаях и событиях к деталям
технических устройств. И притом вся книжка, наполненная
разнохарактерными изображениями, сохраняет безусловное
единство стиля. Создает это единство сам тип миниатюрных
рисунков-комментариев, воспроизводящих не только детали, но,
кажется, также и интонацию рассказчика, разговорно-свободную, то
деловую, то ироническую.
Н. Лапшин не был исключительно «детским» художником. К
несколько более позднему времени, уже к 1930-м годам, относятся
его виртуозные акварельные миниатюры к «Путешествиям Марко
Поло» — легкие, беглые, будто сам художник ездил вместе с
путешественником XIII века и на ходу почти стенографическими
знаками набрасывал боевых слонов или буйволов, далекий
город,схватку воинов, танец.
Конечно, в Ленинграде работали не одни лишь мастера
производственной темы в детской книжке. Выходили книжки
Алексея Федоровича Пахомова (1900—1973), не только обращенные
к детям, но и посвященные детству, очень живо входящие в радости
и заботы своих малень-
кнх зрителей. Крестьянин по происхождению, знаток сельского
быта, Пахомов много рисунков посвятил деревенским ребятишкам.
Он живо схватывал и всегда несколько преувеличивал характерную
детскость поз и жестов, что придает его маленьким героям
определенный сентиментальный оттенок («Мяч» С. Маршака, 1933;
«Как Саньку в очаг привели» Л Будогоской, 1933). Опытный живописец, Пахомов и
литографскую цветную печать заставлял загореться сочными красками живописи («Лето»,
1927).
Красочностью и упрощенным, почти по-детски непосредственным рисунком отличались
иллюстрации Веры Михайловны Ермолаевой (1893—1938). Вот, например, ее «Собачки»
(1929) — большие и маленькие, меньше, меньше — с ноготь, с блоху, их множество и все
живые, с повадкой и характером, скачут, движутся... Живая детскость этих рисунков — не
подражание, а чувство, умение опытного художника жить детскими ощущениями и
рассказывать о них на языке высокой художественной культуры.
В иллюстрациях Николая Андреевича Тырсы (1887— 1942) проявился яркий талант
рассказчика. Вероятно, поэтому его главные удачи в книгах для подростков — в рисунках
сюжетных, построенных на столкновении характеров. Не перечисляя подробностей, без
нажима концентрируя внимание на главном, он делает зримыми кульминационные моменты
повествования (Г. Белых и Л. Пантелеев «Республика Шкид», 1927).
Однако кругом Лебедева, его единомышленниками и последователями не исчерпываются
достижения детской книжной графики 20-х годов. Крупнейшим, наряду с Лебедевым, и
притом необычно плодовитым иллюстратором детских книжек был тогда В. Конашевич. Но
его рисунки оставались ветвью совсем иной книжной и графической традиции. Изящные,
подвижные, легкие, они окружали стихи С. Маршака и К. Чуковского, народные прибаутки
(а нередко и какие-то случайные, очень слабые тексты) множеством забавных подробностей.
Он мог изобразить любую, самую нелепую «Путаницу» Чуковского и добавить к ней еще
десятки своих собственных забавных подробностей. Но при этом он всегда умел
подчеркнуть, выразить уже в самой манере рисунка, что ситуация эта все же сказочная,
выдуманная «для смеха», нелепая. Чувство юмора и увлекающее детей активное
30
31
игровое начало были в высшей степени свойственны его графике.
Конашевич предпочитал рисовать пером, упругой, каллиграфически точной и
орнаментально нарядной в своих изгибах линией, обычно легко подцвечивая свои рисунки в
две-три краски. Так же нарядно подвижны и его шрифты, где капризные изгибы штрихов
приобретают
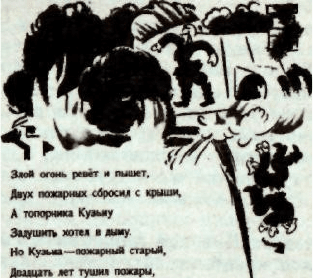
Сорок душ от смерти спас, Падал с крыши десять раз. Ничего он не
боится, Бьёт огонь он рукавицей, Смело лезет по стене. Каска
светится в огне.
В. Конашевич. Иллюстрация.
С. Маршак. Пожар. 1923.
порой упругую подвижность вибрирующей часовой пружинки. В
отличие от сурово-конструктивных лебедевцев он не отказывался и
от орнаментальных рамок (особенно в ранних своих книжках), столь
же вычурно-нарядных и вибрирующих.
Представителем еще более традиционного способа
иллюстрирования был московский скульптор-анималист и
рисовальщик Василий Алексеевич Ватагин (1883— 1969). Знаток
анатомии и повадок самых разных животных, он был
иллюстратором бесчисленных детских книжек и чисто
познавательных, и художественных. Его ри-
сунки точны, хорошо передают характерные движения зверей, но
все-таки обычно суховаты и напоминают натурные зарисовки в
зоопарке. Пожалуй, только в лучшей своей работе, много раз
переиздававшихся затем иллюстрациях к «Маугли» Р. Киплинга
(1926), он сумел очень тонко подчинить это знание реальной натуры
условиям сказочного сюжета и преобразить анималистические
штудии в живые портреты персонажей-животных, превратить их
безличную повадку в индивидуальные, по-человечески
выразительные жесты.
Иными были детские книжки другого московского скульптора-
анималиста Ивана Семеновича Ефимова ч( 1878—1959). Они
остроумны и нарядны, живой, подвижный рисунок смело обобщен.
Звери Ефимова, как и в его очень изобретательных, часто
неожиданных по пластическому решению скульптурах, не из
зоопарка. Они забавно придуманные, пожалуй, сказочные. Но
Ефимов (а он был создателем вместе со своей женой, художницей Е. Симонович-Ефимовой,
очень интересного кукольного театра) прекрасно умел оживлять своих условных героев,
делать их едва ли не более убедительно живыми и подвижными, чем настоящие звери.
Увлечение народным искусством обогатило книжки И. Ефимова сочным декоративным
цветом и узорчатостью. Но он вовсе не был при этом стилизатором. И узоры, и сочетания
красок — его собственные, ниоткуда не заимствованные, но притом родственные духу
разрисованных крестьянских изделий. В иллюстрациях к народной побасенке «Мена» (1929)
деревья и травы превращаются в нарядные цветные орнаменты, которые обрамляют
силуэтные, черные изображения людей и животных. Эти лаконичные и мощные упруго
пластичные силуэты пришли в книжку прямо из теневого театра (еще одно творческое
увлечение семьи
Ефимовых).
Наряду с конструктивизмом и новой детской книгой одним из самых ярких и
принципиальных художественных явлений для книги и графики 20-х годов был расцвет
ксилографии — гравюры на дереве. Отчасти он объяснялся внешними, техническими
причинами. В условиях разрухи, вызванной иностранной военной интервенцией и
гражданской войной, деревянное рукодельное клише обходилось дешевле цинкового и
позволяло сохранять высокое качество печати. Гравюра пришлась в это время очень кстати
и потому, что несла с собой важные стиле-
32
зз
3 Ю. Герчук
вые, выразительные возможности. Она вернула в книгу осязательное, материальное чувство
обрабатываемой твердой поверхности. Если работы мирискусников были, по мнению
художников нового поколения, «лишены пластической жизни материала» \ то теперь упор
делался на активную выразительность самой графической техники. Гравюрный штрих давал
ощущение четкой объемности и весомости фигур и предметов. Важна стала сама упругость
этого штриха, плотность и тяжесть его черного цвета, укрепляющего, а не размывающего
«воздухом» плоскость страницы.
Гравюра же помогала придать книге особое единство. Графика объединялась с набором,
осуществляя единый принцип высокой печати — оттиска с рельефной формы. Графическая
четкость и пластичность гравюрного штриха были близки к качествам типографского
шрифта. Художники добивались этого единства, подбирая и шрифт соответствующего
рисунка и насыщенности. А на обложках и титульных листах надписи нередко
гравировались вместе с изображениями. Такое объединение шрифта и рисунка,
выполняемых одной рукой, в единой и притом пластически очень активной технике, на
одной доске, заставляло художников не просто переносить в свои композиции
традиционные, веками отработанные начертания знаков. Они искали новую форму, особую

пластику, характерную именно для этого материала. Притом строгая
гравюрная техника дисциплинировала руку художника, не
допускала начертаний размашистых, неконструктивных, манерных.
Так создавались необычные системы построения шрифта,
характерные, легко узнаваемые «шрифтовые почерки» В.
Фаворского, Н. Купреянова, А. Кравченко.
Открыто и тесно связанные со своим материалом, формы этих
шрифтов, так же как и характер изображений, наглядно воплощали
художественный язык ксилографии, твердость материала, нажим
резца, бороздящего плотную поверхность.
Гравюра входила в книгу как ее органическая часть, как
организующая сила. Очень часто иллюстрация создавалась не как
замкнутая в своей раме картинка, но как открытая в книжное
пространство динамическая и
конструктивная форма. Герои книги жили как бы прямо на ее
страницах, а не где-то в глубине пространства.
Создание нового стиля книжной гравюры, до сих пор оказывающего
заметное воздействие на развитие нашего искусства, было в первую
очередь заслугой Владимира Андреевича Фаворского (1886—1965).
Он решительно пересмотрел опыт своих ближайших
предшественников, отверг принципы книжного искусства и XIX и
начала XX века. Но в отличие от конструктивистов, принципиально
разрывавших традиции, отрицавших красоту ради
целесообразности, Фаворский не отказывался от всего
исторического опыта, от наследия мировой культуры. Уже сама
обновленная им древняя техника гравюры связывала этого
художника с давними эпохами расцвета книжного и графического
искусства, с Германией XVI века, с аллегорической графикой эпохи
барокко и классицизма. От этих корней идут не только приемы
гравирования, но и монументальные ритмы гравюр Фаворского, их
возвышенный язык, сложная символика.
Этот древний язык зазвучал в гравюрах Фаворского не
подражательно, а неожиданно свежо и молодо. Он помог художнику
разрешить новые задачи, выдвинутые временем. Вместо уже
привычных с конца прошлого века вялых фотомеханических
репродукций в книгу вернулась ювелирно-тонкая и чеканно-четкая
графика. И даже по сравнению с деревянной же репродукционной
гравюрой XIX века, старательно воспроизводившей светотень
живописного оригинала или тонового рисунка, в гравюрах
Фаворского совсем по-новому зазвучала выразительность этого
материала, упругость дерева, преодолеваемая уверенным ходом
резца. Весь строй и ритм работы художника над доской здесь не прятался, а становился
наглядно ощутимым в отпечатке с нее, в готовой гравюре.
Для Фаворского книга была строгой и стройной вещью, разумно организованной для
определенной цели, а не просто вместилищем его гравюр. «Художник «Мира искусства»
делает серию рисунков на ту же тему, па которую написана поэма. Рисунки эти йогом могут
войти в книгу. Лебедев или Фаворский начинают с того, что строят книгу и делают
иллюстрацию только как часть, подчиненную целому»',— пояснял другой художник это-
1 Купреянов Н. Н. Советская графика за десять лет.— Журналист, 1928, № 2, с. 38.
1 К у п р е я и о в Н. Н. Советская графика за десять лет.— Журналист, 1928, № 2, с. 39-
34
35
3*
го же поколения Н. Купреянов. При всем внешнем несходстве это было не так уж далеко от
задач, которые иными средствами решали конструктивисты, превращая книгу из предмета
роскоши в целесообразную, четко построенную, активно работающую вещь.
Но для Фаворского книга не только предмет. Это и целый мир, в который должен войти
читатель. И художник организует для него этот мир, определяет ритм и
В. Фаворский. Фронтиспис. Книга Руфь. 1924.
паузы движения по книге, добивается зримого выражения стиля автора, передавая
характерное для него соотношение героев с окружающим их пространством.
Так, воплощая в современном издании библейскую «Книгу Руфь» (1924), художник делает
видимой монументальную поступь древнего рассказа. Рельефные, вылепленные крупными
массами фигуры движутся по листам этой книги с непринужденным
величием, их простые жесты полны значительности. Изображенные
сцены обыденны, но их герои не замкнуты в бытовом пространстве,
зримо соотнесены с далями пейзажа, с небесными светилами, с
мирозданием. Символические знаки-образы —
летящая птица, сноп, солнечный диск — включены в композицию,
но лишь отчасти соотнесены с пространством главного действия,
отделены от него. Поэтому сквозь спокойное течение рассказа все
время просвечивает его общечеловеческий, символический смысл.
Символична корона, увенчивающая дерево на фронтисписе, и само
дерево, становящееся, благодаря этому аллегорией рода царя Давида
(его истории посвящена книга). На обложке с ликом солнца
преобладают космическое ощущение темы и знаковое начало.
Фаворский в годы становления творчества был художником
возвышенных тем и отдаленных от повседневности образов. Он
иллюстрировал классику: русскую
(«Домик в Коломне» Пушкина, 1922 1925) и западную
(Мериме, 1927—1934); книги, посвященные XVIII веку («Суждения
аббата Жерома Куаньяра» Франса, 1918; «Эгерия» П. Муратова,
1921) или мифическим библейским временем («Фамарь» А. Глобы,
1923). Он оформлял (большей частью чисто символическими
средствами) издания, посвященные истории искусств. И его
художественный язык был в соответствии с этим не будничным,
порою очень условным, сохраняющим чувство отдаленности от
изображаемых событий. А при том это был язык гармоничный и
стройный, как мало у кого из его современников (если не считать
стилизаторов, пытавшихся говорить чужим, уже мертвым
классическим языком). Язык же Фаворского оставался языком
современного искусства, смелым и острым, не похожим на все, что
до него делали в гравюре да и вообще в графике.
Сейчас в мир Фаворского, в книгу, им построенную по особым, им
самим сформулированным законам, зритель входит без особого
удивления, как в хорошо знакомый дом. В ней все кажется само
собой разумеющимся, естественным. Но стоит заглянуть в статьи
его первых критиков, чтобы увидеть, с какой опаской вступали в
этот мир даже те из них, кто уже в начале 20-х годов ощутили силу и
значение этого мастера. В этом мире, говорили они, «все может
случиться»: здесь «буквы порой поднимаются вверх, вкось,
вырастают, сжимаются, оказываются заштрихованными».
Приходится «ловить сочетания правого и левого, нижнего и
верхнего» К А
• Сидоров А. А. Московская школа графики.— Печать и революция, 1925, № 5—6, с. 206.
36
37
между тем, признается другой критик, «кажущаяся произвольность и фантастичность этих
то разрастающихся, то полупрозрачных литер сразу, быть может, огорошивает, но в конце
концов покоряет и убеждает своей внутрейг ней логикой и редкой типографской гармонией»
'.
В самом деле, в своих ранних обложках художник смело нарушал традиционную
симметрию, но имеете с тем добивался впечатления строгого равновесии Поверхность листа
Фаворский воспринимал не как пустоту, а, скорее, как напряженное силовое поле, где ка>1«
we изображение, знак, символ незримо и упруго связаны со всеми другими.
Отчасти продолжая опыты футуристической книги, Фаворский объединяет в одной строке, в
одном слове буквы разной величины и конструкции, по-разному насыщенные цветом. У
каждого знака свой закон, п связывает их в цельную строку не единство начертания, ;i
ритмичность и еще наглядное выражение звуков й конструкции слова (например,
утяжеление ударного слот).
Творческие принципы Фаворского, воплощенные не только в самих его произведениях, но и
в теоретических статьях об искусстве и в лекциях, которые он читал будущим художникам,
принимали и продолжали его многочисленные ученики. Сдержанный, холодноватый М.
Пиков, энергичный, темпераментный А. Гончаров, склонный к фантастическому гротеску Л.
Мюльгаупт и буквально десятки других ксилографов использовали и расширяли
художественные принципы своего учителя.
Но кругом Фаворского не исчерпывается богатство книжной гравюры 20-х и начала 30-х
годов. Рядом с Фаворским, кое в чем перекликаясь, но во многом контрастируя с ним,
работал другой замечательный гравер —■ I Алексей Ильич Кравченко (1889-1940). Не
случайно ху- I дожественная критика тех лет любила сопоставлять и : противопоставлять их,
отдавая преимущество то одному, то другому. В самом деле, романтическая бурная графика
Кравченко противостоит отточенному, ясному, при всей его сложности, миру образов
Фаворского.
Художник нашел себя в иллюстрациях к Гофману («Повелитель блох», 1922), в гравюрах,
создающих не- 1 расчленимое сплетение реальных и фантастических планов. Ту же самую
романтическую фантастику он отыски-
' Эттингер П. Д. В. Л. Фаворский. Казань, 1926, с. 21.
вал затем в «Портрете» Гоголя (1923) и в произведениях современных писателей — Л.
Леонова («Деревянная королева», 1923), А. Чаянова («Фантастические повести ботаника X»,
1926). Его гравюры сверкают контрастами тьмы и света, рассыпаются веерами колючих,
резких штрихов, взрываются экстатическими* жестами персонажей. Пожалуй, никакому
другому художнику не удалось воплотить в трудоемкой, медленной технике гравюры на

А. Кравченко. Иллюстрация.
А. Чаянов. Фантастические повести ботаника. X. 1926.
дереве образы столь порывистые, передать состояния столь
подвижные и нервные, дать такую вихревую динамику плотному и
сочному штриху гравюры. Сквозь преграды этой медленной
техники, требующей строго обдуманной неторопливой работы,
Кравченко прорывается к живому, непосредственному выражению
страстного чувства.
Энергичный, волевой язык обновленной ксилографии перестраивал
книжное искусство, создавал, можно сказать, особый и характерный
для времени художественный тип книги с гравюрами. Он привлекал
к себе в эти годы многих талантливых художников. Павел
Яковлевич
38
39
Павлинов (1881—1966) испытал заметное влияние своего младшего
товарища Фаворского, не принадлежа к кругу его учеников. Это был
строгий и точный рисовальщик и умелый рассказчик в графике,
тяготевший к острым портретным характеристикам персонажей
(«Человек на часах» Лескова, 1925). Классицистичнее, ближе к
старым европейским образцам были гравюры Николая Ивановича
Пискарева (1892—1959). Но в «Освобожденном Дон Кихоте»
Луначарского (1922) он также использует резкие контрасты белого и
черного и энергичный острый штрих новой гравюры.
Ведущие мастера ксилографии 20-х годов работали в Москве, но и в Ленинграде
складывается своя, отличающаяся от московской гравюрная традиция. В ее фундаменте—
холодноватый академизм П. Шиллинговского, учителя многих ленинградских ксилографов.
Собственные его гравюры в большинстве своем предназначены были не для книги, но среди
учеников оказалось немало интересных книжных художников, не просто повторяющих
учителя, но придавших своим ксилографиям не свойственные его гравюрному почерку
энергию и остроту. Таковы работы рано умершего Николая Леонидовича Бриммера (1897—
1929) — лаконичные, но в то же время очень конкретные, «рассказывающие». Они были
драматичны в книге, посвященной декабристам (А. Слонимский, «Черниговцы», 1928), и
полны иронии в иллюстрациях к «Коляске» и «Сорочинской ярмарке» Гоголя (1928).
В работах Сергея Михайловича Мочалова (1902— 1957) привлекает разнообразие и
богатство гравюрного штриха, как будто условного, но так точно и осязательно
передающего самые разные фактуры — траву и древесную кору, гладь воды и движение
облачного неба.
Совсем особенную поэтичность, мягкую лирическую атмосферу сумел внести в
жестковатую, «колючую» технику гравюры Эдуард Анатольевич Будогоский (1903— 1976).
Один из немногих, он иллюстрировал гравюрами книжки для детей. «У меня не разделяется
изображение предметов и подробностей обстановки с тем ощущением, которое переживает
действующее лицо», — говорил уже в конце жизни художник. И в самом деле, в его
гравюрах к «Большим ожиданиям» Диккенса (1935) и к «Тому Сойеру» Марка Твена (1934)
и к детским книжкам современных писателей есть живая атмосфера детства —
наивная и в то же время немного таинственная, порой драматическая.
Я рассказал здесь, конечно, лишь о главных, наиболее новых и принципиальных явлениях
книжного искусства 20-х годов. Общая же картина его развития была гораздо пестрее.
Многие художники продолжали работать в эклектических или же мирискуснических
традициях предреволюционных лет, другие более или менее искусно соединяли эти
традиции с «модными» приемами
Э. Будогоский. Иллюстрация.
Марк Твен. Приключения Тома Сойера. 1935.
конструктивизма или книжной гравюры (причем гравюрный штрих
попросту имитировался для какой-нибудь обложки в рисунке
пером). Заметно стало и влияние плаката, политического и
рекламного, на книжную обложку. Книга в переплете выходила
тогда не часто, а обложка не имела обычно ничего общего с очень
скромным, чисто типографским внутренним оформлением. Она
приобрела характер бойкой и броской рекламы.
Такие «рекламные» обложки, изобразительные или орнаментальные,
резковатые по краскам, рисовали порой и видные мастера графики,
но чаще набившие на этом руку бойкие ремесленники, пробующая
свои силы
40
4!
молодежь, нередко художники различных, вовсе не книжных
специальностей — архитекторы, живописцы. Обложка была
характернейшим видом массового искусства двадцатых годов и
была у всех перед глазами — в книжных витринах, киосках,
библиотеках. Нарядные орнаментальные рамки в традициях «Мира
искусства», угловатые композиции конструктивистов и строгие
гравюры на дереве оказывались в одном ряду с крикливой пестротой
и грубым рисунком бесчисленных рядовых изданий. Но хотя
большинство обложек вовсе не были сколько-нибудь
значительными художественными произведениями, в своей массе
они очень активно воплощали дух этого времени и его подвижные,
острые ритмы.
Впрочем, общий характер энергичного и жестковатого почерка
графики 20-х годов, склонного к некоторой схематизации,
обобщению формы, отчетливо ощутим ив этих разнохарактерных и
пестроватых работах.
«Быстрый» рисунок в книге.
3
Детские книги о живой природе. Книга как художественный
ансамбль
Уже к концу 20-х годов характер и направление развития книжной
графики заметно меняется. Активное, волевое, конструктивное
искусство этого десятилетия изживает себя. Новый дух времени
требует от художника более прямого и быстрого, очень личного
отклика на меняющиеся впечатления жизни, а от художника
книжного— столь же быстрой реакции на литературную действительность, на движение
сюжета, на ритм и строй иллюстрируемого текста. Свободное рисование пером теснит
гравюру, живая непосредственность на лету схваченных впечатлений противостоит
угловатой схематичности кубизированных фигур.
Воздушнее, легче становится графика детских книжек В. Лебедева. Лирическая и теплая
атмосфера детства окутывает мягко-живописные иллюстрации к «Усатому-полосатому» С.
Маршака (1930). На смену офактуренным и геометризированным поверхностям пришла
живая линия свободного наброска пером или кистью. Такими беглыми, смело
шаржированными черными рисунками иллюстрировал Лебедев сборник стихов Маршака
«Веселый час» (1929), его же стихотворение «Прогулка на осле» (1930), рассказ О.
Берггольц «Зима — лето—попугай» (1930). И среди его соратников и последователей в
детской книжке выдвигаются теперь на самые заметные места не угловатые мастера
производственной темы, а те, кто с такой же достоверностью и конкретностью, но притом
легко и поэтично рисовали живую природу. Путешественники и охотники, они любили и
знали русский лес и всех его обитателей.
Евгению Ивановичу Чарушину (1901 —1965) было в высшей степени свойственно, можно
сказать, «чувство
43
зверя» — его неповторимой характерности, верности своей породе, его органической и
деятельной жизни в своем мире, в своей среде. И особенно детеныши, всяческие лесные
малыши, «Детки в клетке» (название книжки Маршака, которую иллюстрировал художник в
1935 г.), были его любимыми героями. Чарушин удивительно умел находить с ними
эмоциональный контакт, передавать их чуть неуклюжую подвижность, их любопытство,
озорство, испуг. А столь характерное для поколения 20-х годов (и, в частности, для
лебедевского круга) осяза-
кистью, оборачивается вдруг бесконечным снежным пространством, не соизмеримым с
человеческими крохотными фигурками, с утопающими в нем оленями или мчащейся
собачьей упряжкой (Тэки Одулок. «Жизнь Имте-ургина Старшего», 1934). Но он так же
легко может обернуться струящейся водой, где лениво шевелятся раки (В. Бианки. «Где раки
зимуют», 1930), или степью, по которой мчится во весь опор «Конная Буденного» (А.
Введенский, 1931). Очень экономно, считанными

Е. Чарушин. Иллюстрация.
Н. Смирнова. Как Мишка большим медведем стал. 1929.
В. Курдов. Иллюстрация.
Р. Киплинг. Рикки-Тикки-Тави. 1934.
тельное чувство фактуры раскрывалось в его литографиях и
рисунках необычайным разнообразием и богатством, тонкостью
оттенков пуха, лоснящейся или кудрявой шерсти, птичьих перьев.
Иной зверь мог быть изображен просто лохматым пятном, но в
одном этом пятне ощущались и чуткость, настороженность позы,
готовность к прыжку, и упругость поднятой дыбом длинной и
жесткой шерсти вместе с пуховой мягкостью густого подшерстка.
А у Валентина Ивановича Курдова (род. 1905) белый лист, кажется,
почти не тронутый карандашом или
мазками черной туши, Курдов превращал страницу в экзотический лес с удивительным
разнообразием про зрачно-перистых и мясисто-тяжелых листьев, населен ный животными и
птицами (Р. Киплинг. «Рикки-Тикки- Тави», 1934). v ' Этот же поворот к «легкому»
рисунку сделал более
активной и заметной роль в книжном искусстве конца 20-х — первой половины 30-х годов
художников, продолжавших, хотя и в преобразованном виде, графические традиции «Мира
искусства», прежде всего Д. Митрохина и В. Конашевича.
44
45
Едва ли не большинство их работ этого времени было выполнено для издательства
«Academia». Здесь издавались, в частности, многие произведения писателей эпохи
Возрождения и XVII—XVIII веков, мемуары, книги по истории русской и мировой
культуры. Научная добротность этих изданий, их литературная и историко-культурная
качественность очень органично сочетались здесь со стремлением украсить и обогатить
книгу, дать не сухую публикацию текстов, но доставить читателю полноценную радость
общения с шедевром, нарядить книгу в достойные ее одежды, соответствующие духу и
строю оригинала. Поэтому издательство заметно выделялось в ряду других своим особым
отношением к книжному искусству, тщательностью, а нередко и богатством оформления,
привлечением наиболее известных художников, самых разных направлений, которые
получили здесь очень широкие возможности комплексного, не ограниченного лишь
рисунком обложки оформления.
Основным типом книги этого издательства стали плотные, небольшого формата томики в
матерчатых переплетах с тиснением и в суперобложках. Печатались они на хорошей бумаге,
большое внимание уделялось подбору шрифтов, композиции разворотных титульных
листов. Внутри книг широко применялись рисованные или орнаментальные заставки.
Иллюстрации могли быть заимствованы из старинных книг или делались специально для
этого издания. Нарядность соединялась со строгостью. Продуманной и широкой программе
издательства была близка идея ориентации на выдающиеся образцы книжной культуры
прошлого. Для издательства работали самые интересные мастера всех поколений — от
Фаворского до палешанина Ивана Ивановича Голикова (1886—1937), который не только
оформил и иллюстрировал роскошное издание «Слова о полку Игоревен (1934), но и
написал старославянским уставом весь его текст.
Дмитрий Исидорович Митрохин (1883—1973) оформлял для «Academia» множество
изданий классических произведений русской и мировой литературы. Его графика 30-х годов
легка, прозрачна, не навязчива. Кажется, художник стремится создавать летучие образы
минимальным количеством изящных и точных штрихов. Украшая своей графикой томики
Аристофана или Гюго, Лескова или Тютчева, Митрохин вовсе не навязывает
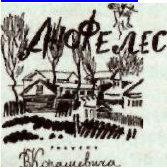
читателю свое понимание текста, свои оценки и акценты, свое
восприятие образов. Он обращается к культурному, тонкому
собеседнику, которому достаточно намека, которого нужно лишь
ввести в настроение, в самое общее ощущение стиля книги, чтобы
оставить затем с ней наедине. Поэтому он сосредоточивает свое
внимание на внешнем облике книги, разрабатывая ее как целостный
художественный ансамбль. Он рисует также шмуцтитулы, иногда
заставки, не часто покушаясь на более подробное иллюстрирование.
Как и его рисунки, надписи Митрохина на титульных листах и
суперобложках, сделанные тем же пером, в том же ритме, легки и
воздушны. Они не выстроены, но свободно и притом красиво
написаны, дают намек на стиль, но без тяжеловесной стилизации.
В начале 30-х годов и В. Конашевич, не бросая так успешно им
развиваемого детского жанра, особенно много работал в книге для
взрослых. Очевидно, его подвижная острая манера
иллюстрирования вновь попала теперь в какой-то резонанс с духом
времени, с новыми книжными задачами. Тонкий и культурный
читатель, Конашевич живо реагирует на особенности каждого
текста, ищет стиль и почерк в соответствии с характером
литературы. Близкие по времени создания, его иллюстрационные
циклы этих лет очень различны по своему облику. Это был мастер
графического изыска, изящный каллиграф. Его интерпретация
классических текстов была столь индивидуальной, что порой
вызывает поначалу недоумение, не совпадает с привычным
прочтением давно знакомых произведений. Артистичная и умная,
она часто проникнута иронией. Но если, украшая изящно-наивными
цветочками и птичками томик Гейне (1931), Конашевич
иронизирует вместе с автором, то в иллюстрациях к
«Валленштейну» Шиллера (1931) он не щадит, пожалуй, и самого
драматурга. Шиллеровский пафос передан здесь почти пародийной
широтой . жестов, шаржированной горделивостью поз и
помпезностью костюмов в сочетании с такой лихостью широко
гуляющего по бумаге легкого штриха, что почтенная классика
вправе обидеться. Впрочем, ирония художника здесь лишена
едкости. Он отлично понимает природу театра, органичность
сценических преувеличений.
Но главной удачей мастера в эти годы были иллюстрации к «Маион
Леско» Прево (1931), изысканно кра-
46
47
сивые литографии, где белый по черному фону рисунок мерцает и серебрится лунным
светом. Романтика в противоположность шиллеровской здесь понята и принята всерьез и
воплощена в этих напряженно-драматических, при всем их изяществе, таинственных ночных
сценах. Душевные терзания героев воплощены здесь не в мимике (почти неразличимой), а в
тревожной подвижности тонущего во мраке жеста, в контрастах тьмы со вспышками
неверного света, наконец, в смутно угадываемых в глубине силуэтах старого Парижа.
В этой книге, целиком оформленной Конашевичем, великолепно воплотилось и
декоративное чутье мастера,
JI.TMX0.MOB \\
В. Конашевич. Титульный лист.
Н. Тихонов. Анофелес. 1930.
очень самостоятельное, никогда не довольствующееся прекрасно ему знакомыми
историческими образцами. Чтобы передать капризное изящество культуры XVIII века, он
изобретает здесь орнаментальные мотивы, безусловно, немыслимые в то время, но очень
точно соответствующие ему по духу и настроению, хочется сказать — по их музыкальному
строю.
Но В. Конашевич — иллюстратор Прево и Фета, Лу-киана и Гейне вовсе не был
художником, замкнувшимся в прекрасную классику, чуждым ритмам и впечатлениям
окружающей жизни. Он не менее увлеченно и активно иллюстрирует современную
литературу — М. Горького и К. Федина, М. Зощенко и Л. Сейфуллину. Разно-
образие и сложность задач, которые он решал в этих работах, были, пожалуй, еще больше,
чем в классике.
Чаще всего Конашевич здесь рисует пером, немногими быстрыми штрихами на почти
пустой странице намечает характерные черты облика своих героев, а еще больше — живой
характер их движения, взаимодействие взглядов и жестов. И сразу перед нами возникает
сама атмосфера повествования. Немногие, чуть намеченные, но всегда точно выбранные
детали обстановки вводят в быт, в остро схваченную среду. Так изображает художник уже
ушедший, но хорошо ему памятный мир рассказов Чехова (1931) и Горького (1932). И еще
более свободно, иронически остро и беспощадно — еще живой, сегодняшний мир
маленьких людишек Зощенко («Сирень цветет», 1930).
Но совсем другого решения, особого приема требует от него напряженно-лирическая
атмосфера «Повести» Б. Пастернака (1934), переданная мерцающей рябью лишенного
контуров, из мельчайших мазочков кисти образующегося рисунка с трепетными переходами
от прозрачных теней к сияющему свету. И наконец, в литографиях к «Виринее» Л.

Сейфуллиной (1932) он использует тот же прием, что в «Манон
Леско» — черный фон, высветляющийся зернистыми полутонами и
сияющими бликами. Как и там, световые контрасты придают его
иллюстрациям сильную романтическую окраску. А между тем в
занимающих всю страницу, укрупненных, как бы вплотную — глаза
в глаза со зрителем — придвинутых лицах героев повести художник
во многом предвосхищает стремление следующего поколения
иллюстраторов к конкретным, социально типичным образам.
Поворот к «легкому», непринужденному рисунку, к большей
подвижности книжной страницы открыл в первой половине 1930-х
годов путь в иллюстрацию и художникам-юмористам из
сатирических и детских журналов: Кукрыниксам («Кондуит» Л.
Кассиля, 1931), Ами-надаву Моисеевичу Каневскому (1898—1976).
Он иллюстрировал веселые книжки для детей, а затем книги М.
Салтыкова-Щедрина «Помпадуры и помпадурши» (1935), «За
рубежом» (1936). Метод оставался тем же, что и в журнальной
карикатуре. Броский, энергичный рисунок пером, смелые
преувеличения, на ходу придуманные, дополняющие рассказ
забавные, сатирически заостренные подробности. У Каневского был
дар коми-
48
4 Ю. Герчук
ческого повествования, свободно выходящего за рамки того, что
предложено текстом, развивающего забавные стороны любой
ситуации до совершенно невозможных, а потому еще более
смешных пределов.
Гротескный, фантасмагорический мир Салтыкова-Щедрина получил
жутковатую достоверность и в большой серии литографий
ленинградского художника Александра Николаевича Самохвалова
(1894—1971) к «Истории одного города» (1932—1933). Уже сама
литографская техника с ее мягкой зернистостью и объемностью
способствовала этому впечатлению реальности смело
шаржированных образов. Самохвалов, известный живописец и
график, пришел в книгу еще в 20-х годах. Он делал тогда
характерные для лебедевского круга детские книжки,
преимущественно производственные. В 30-е годы он, как и многие
художники, все более тяготеет к обширным иллюстрационным
сериям.
Злободневность журнального рисунка или /натурных зарисовок на
дальних стройках перенесли в книгу участники одного из ведущих художественных
объединений 20-х годов — Общества станковистов, или «ОСТа». Кроме А. Гончарова,
ксилографа и ближайшего последователя Фаворского, никто из них не был книжным
художником по преимуществу. Но вклад, внесенный остов-цами в книжную графику рубежа
20—30-х годов, был значителен.
Одним из принципов ОСТа были поиски остро современного, энергичного языка для
воплощения ритма и духа современной жизни. Именно графика — искусство лаконичное и
четкое, давала многим из остовцев ключ к такому языку, оказывала заметное воздействие и
на их живописное творчество. Графическим же работам большинства из них была
свойственна подчеркнутая экспрессия и почти чертежная жесткость рисунка. Но в начале
30-х годов остовское рисование начинает становиться подвижнее, мягче, сохраняя в то же
время свою энергию.
Александр Александрович Дейнека (1899—1969) иллюстрировал детскую книжку Н. Асеева
«Кутерьма» (1930) подвижными кистевыми рисунками белой гуашью по черной бумаге.
Черный фон просвечивает сквозь гуашь, превращая ее белизну в сложную гамму
серебристо-серых оттенков. Он присутствует везде, крепко держит всю поверхность листа, и
там, где на него легли прозрачные мазки белил, под ними ясно чувству-
ется плотная чернота. Это книжка о зиме — и черная! Не снежная, с оттеняющими белизну
черными силуэтами. Напротив, черным здесь изображен как раз снег, и, как на негативе, по
нему движутся мягко вылепленные белым фигуры. Между тем, они очень убедительны, эти
заиндевелые силуэты.
Дело в том, что здесь черное и белое — не окраска и не светотень, а две активные,
борющиеся друг с другом
А. Дейнека. Иллюстрация.
Н. Асеев. Кутерьма. 1930.
силы. Здесь черный — скорее всего цвет мороза, охватывающего и сжимающего все живое
