Февр Л. Бои за историю
Подождите немного. Документ загружается.

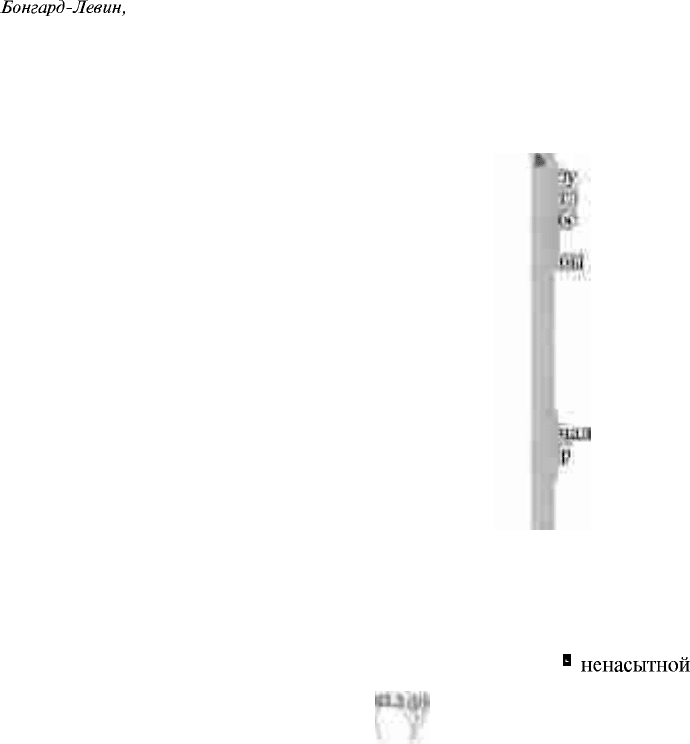
ББК 63.3(0)
Ф 31
БОИ ЗА ИСТОРИЮ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
СЕРИИ «ПАМЯТНИКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»
К. 3. Ашрафян, Г. М.
Бонгард-Левин,
В. И. Буганов (зам. председателя),
Е. С. Голубцова, А. Я. Гуревич, С. С. Дмитриев, В. А. Дунаевский,
В. А. Дьяков, М. П. Ирошников, Г. С. Кучеренко, Г. Г. Литаврин,
А, П. Новосельцев, А. В. Подосинов (ученый секретарь),
Л. Н, Пушкарев, А. М. Самсонов (председатель),
В. А. Тишков, В. И. Уколова (зам. председателя)
Ответственный редактор
А. Я. Гуревич
Ф 0503010000-369
042 (02) -90
безобъявлення
ББК
ISBN 5-02-009042-5
Издательство «Наука», 1901
ПРЕДИСЛОВИЕ
Если бы, объединяя эти статьи, отобранные среди стольких
других, я задался целью воздвигнуть себе нечто вроде памятника,
я подыскал бы сборнику другое название. Смастерив!, за свою
жизнь (и рассчитывая смастерить еще) некоторое количество
грузной мебели для меблировки истории — достаточное для того,
чтобы заслонить, хотя бы временно, иные из голых стен во двор-
це Клио,— я назвал бы «Моими стружками» эти древесные об-
резки, вырвавшиеся из-под рубанка и подобранные под верстаком
Но я затеял этот сборник вовсе не для того, чтобы похвастаться
повседневным своим ремеслом, а чтобы принести кое-какую поль-
своим товарищам, особенно самым молодым. Выбранное за-
авие, стало быть, должно напомнить о том, какие качества
йца я сохранил в течение всей своей жизни. «Мои сражения»?
Конечно, нет: я никогда не сражался ни за себя, ни против кого
то ни было, если иметь в виду определенные личности. «Сра-
жаться за историю» — другое дело. Именно за нее я всю жизнь
и сражался.
Сколько я себя помню, история всегда была для меня пред-
метом развлечения или увлечения, если не сказать — сердечной
склонности и призвания. Будучи сыном человека, который ото-
шел от занятий историей (но никогда не переставал ею интере-
соваться) лишь под влиянием Анри Вейля, подвизавшегося сна
а на филологическом факультете в Безансоне, а потом в Па
ижском педагогическом институте, и под воздействием столь
знаменитого в ту пору Тюро, философа грамматики; будучи пле
мяннйком человека, всю жизнь преподававшего историю и сыз-
мальства привившего мне любовь к этой науке; с наслаждением
листая найденный в отцовской библиотеке под регулярно выхо-
дившими выпусками Даранбера и Сальо двухтомный альбом,
на страницах которого оживала замечательная «Греко-римская
история» Виктора Дюрюи, шедевр тогдашнего издательства
Ашетт: то была вся известная к тому времени античность — ее
храмы и бюсты, боги и вазы, изображенные лучшими граверами;
в
ненасытной
жадностью проглатывая роскошно изданные Этце·
я
юм тома «Истории Франции» Мишле с иллюстрациями неисто-
К
во визионера Даниэля Вьержа — иллюстрациями, столь отве
вшими духу иных текстов великого ясновидца, что мне трудно
01
;азать, смог ли бы я перечитать их теперь в тусклом издании,
оторое — нашлись же такие знатоки! — объявлено «окончатель-
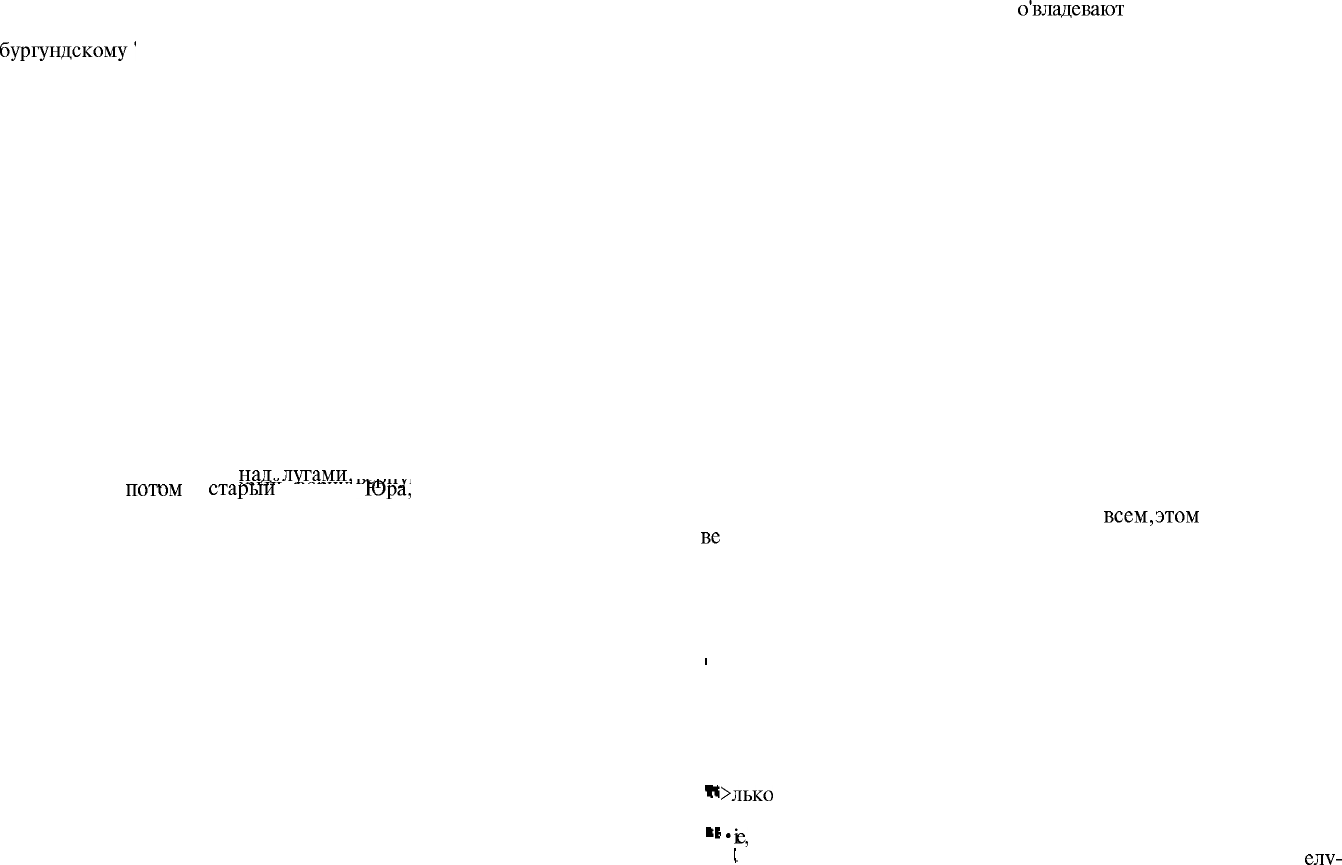
Люсьен Февр. Вой за историю
Предисловие
ным»; насыщенный всеми этими наставлениями, обогащенный
чтением всех этих книг и откликами, которые они порождали в
моей душе,— разве мог я не стать историком?
То были мои наставники, истинные наставники, к которым
присоединились позже, между шестнадцатым и двадцать пятым
годами моей жизни, и другие: Элизе Реклю и глубокая человеч-
ность его «Всемирной географии»; Буркхардт и его «Ренессанс
к Италии»; Куражо и его лекции в Луврской школе, посвящен-
ные
бургундскому'
и французскому Возрождению; затем, начи-
ная с 1910 года,— Жорес и его «Социалистическая история»,
столь богатая экономическими и социальными предвидениями, и,
наконец и в особенности, Стендаль как автор «Рима, Неаполя и
Флоренции», «Истории искусств в Италии», «Записок путешест-
венника» и «Переписки»: эти «введения в психологическую исто-
рию и историю чувств» долгие годы были моими настольными
книгами — я открыл их для себя почти случайно в те далекие
^
времена, когда они, обезображенные Коломбом, были только что
отпечатаны Кальманом на дрянной бумаге с помощью полустер-
того шрифта...
Такова моя «бумажная душа». А рядом — душа сельского
приволья, душа Земли, бывшая второй моей наставницей в ис-
тории. Двадцать первых лет моей жизни протекли в Нанси: там,
бродя среди зарослей кустарника и стволов строевого леса, от-
крывая на горизонте череду резко очерченных холмов и косого-
ров Лотарингии, я копил в душе сокровищницу воспоминаний и
впечатлений, которые пребудут со мной навсегда. Но с какой
радостью возвращался я каждый год на свою настоящую роди-
ну, Франш-Конте! Сначала — приветливая долина Соны, скром-
ное величие Грэя, царящего
надлугами,
вернувшими душевный
покой Прудону
2,
п
°™
м
стар
™
йворчун
Юра,
его
луговины
в
сосновые рощи, зеленые воды и ущелья, над которыми нависают
тяжкие пласты известняка, запечатленные героической кистью
Гюстава Курбе; вот она, провинция Франш-Конте, которую я еще
в детстве изъездил вдоль и поперек на допотопных, с желтыми
кузовами, дилижансах почтово-пассажирской компании Буве: па-
хучая старая кожа, острый запах взмыленных лошадей, веселое
звяканье колокольчиков и хлопанье кнута при въезде в каждую
деревушку; вот она, эта провинция, где не меньше, чем в Лота
рингии, заветных мест, нелюдимых и священных высот: От-Пьер
де Мутье и Пупе де Сален шлют привет Монблану через зубцы
соседних хребтов, дальше виднеется Доль, эта «литературная вер-
шина», и множество других, менее примечательных высей; эти
привольные края, где дух веет, как ветер, на всю жизнь вселяют
в человека тягу к открытиям, стремление вдохнуть в себя беско
вечную даль. Нас, уроженцев Франш-Конте, не назовешь согла
шателями и приспособленцами. Не был таким ни Курбе, когда
писал «Похороны в Орнане» и «Мастерскую», ни Пастер, когда
академические круги организовали заговор, стремясь вынести
смертный приговор открытой им истине, ни Прудон, сын бочара,
когда он с издевкой посвятил безансонским толстосумам свою
книгу «Собственность — это кража». Кстати сказать, Прудон дал
бы нам, жителям Франш-Конте, наилучшее определение: «Это
анархисты... чтущие правительство», если бы Мишле не предло-
жил своего: «Они сызмальства
о'владевают
умением взяться за
дело и умением вовремя остановиться».
Франш-Конте и Лотарингия одарили меня двойной долей
упорства и упрямства — критического, полемического, воинствую-
щего,— поэтому я не мог покорно принять участь побежденных
в войне 1870 года, не мог смириться с трусливой их осмотритель-
ностью, с их отказом от всякого синтеза, с их кропотливым, но,
в сущности, свидетельствующим лишь о лености духа культом
«фактов», с их вкусом, направленным почти исключительно на
дипломатическую историю («Ах, если бы мы лучше ее изучали,
с нами бы такого не приключилось!»), которая была сущим на-
важдением для людей, вдалбливавших нам в голову свои идеи
между 1895 и 1902 годами: начиная с полубога Альбера Сореля,
кончая Эмилем Буржуа, в котором от божества не осталось и
осьмушки; поэтому в стане историков я действовал на свой страх
и риск и, можно сказать, без всякой поддержки (которую, впро-
чем, находил среди своих друзей лингвистов и ориенталистов,
психологов и медиков, географов и германистов, таких, как Жюль
Блок, Анри Валлон, Шарль Блондель, Жюль Сион и Марсель Рей,
в то время как мои братья-историки, даже менее всего склонные
к конформизму, за редкими исключениями — упомяну Огюстена
Реноде,— чувствовали себя храбрецами, становясь под двусмыс-
ленный стяг Шарля Сеньобоса) ; поэтому я тут же зачислил себя
в ряды сторонников «Журнала исторического синтеза» и его соз-
дателя Анри Берра: ничего странного во
всем,этом
не было. Раз-
ю
ве
что одно обстоятельство, характеризующее целую эпоху:
ни смелость моя, ни горячность не смогли настроить против меня
многих искренних людей, которым я пришелся по душе и кото-
рые не упускали возможности доказать мне свое расположение:
я думаю о Габриеле Моно, Кристиане Пфистере, Камиле Жюлйа-
не, а также о Гюставе Блоке и Видале де ла Блаше (хотя он
1
ту пору уже успел совершить собственную революцию как для
себя, так и для своих преемников). Высшие университетские
ы
Фуги того времени состояли, по меньшей мере, из аристократов
сердца. Действенная благожелательность и дух братства царили
среди крупных ученых.
Итак, будучи одиноким на своем поприще, я старался, как
>лько
мог. Одни из положений, выдвинутых мною полвека на-
а
*Д, стали теперь общим местом,— а ведь когда я излагал их впер-
i
e,
они казались рискованными! Другие до сих пор находятся
t
»опросом. Незавидна участь первооткрывателя: может
елv-
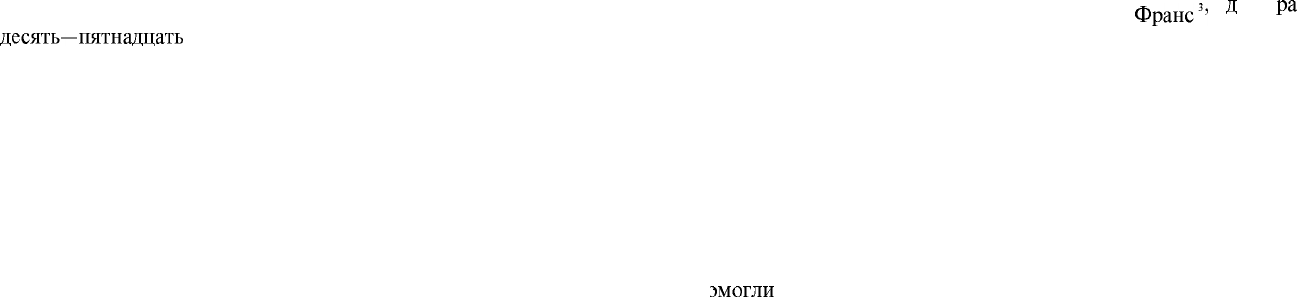
Люсъен Февр. Бои за историю
чнться, что поколение, к которому он принадлежит, почти сразу
же признает его правоту, и тогда усилия искателя-одиночки сли-
ваются с мощным потоком коллективных усилий; но бывает и
так, что современники противятся новшествам и тем самым воз-
лагают на следующее поколение заботу о вызревании семян,
слишком рано брошенных в борозды. Вот почему стойкий успех
некоторых книг, некоторых статей подчас удивляет их автора,—
а все дело в том, что они нашли свою настоящую аудиторию
лишь
десять—пятнадцать
лет спустя после публикации, когда
им была оказана поддержка со стороны.
Такой поддержкой и источником огромного удовлетворения
было для меня знакомство с трудами Анри Пиренна, начавшее«
^
в 1910 году, когда я погрузился в томик под заглавием «Старин-
ные формы демократии в Нидерландах», вышедший у Фламма
риона, затем и первые выпуски «Истории Бельгии», а еще позже,
к ожидании блестящих мемуаров, которым суждено было стать
его лебединой песней, прочел такие работы, как «Периоды со-
. циальной истории капитализма», 1914; «Магомет и Карл Вели-
кий», 1922; «Меровинги и Каролинги», 1923; и, наконец, неболь-
шую книжечку «Средневековые города», подлинную жемчужину,
появившуюся в 1927 году,— все это было для меня источником
удовлетворения, а затем и личной радости от сознания того, что,
в дружественной Бельгии нашелся сильный человек, способный
ровным и уверенным шагом обойти поля ее истории. Еще одна
радость — встреча с молодым (я был старше его на восемь лет)
историком, уже избравшим себе самостоятельно линию, несколь
ко отличную от моей: он по-братски подал мне руку, вызвав-
шись поддержать и продолжить мои усилия в области медиевис
тики: я говорю о Марке Блоке. И наконец, «Анналы», с первого
номера опиравшиеся на неизменную поддержку Лейлио, вместе
• с которым мы основали их в 1929 году не только с благослове-
ния, но и при неоценимом участии Анри Пиренна,— можно ли
забывать о том, что во всем живом и свежем, что с первого взгля-
да сквозит в этом журнале, быстро завоевавшем себе известность,
есть доля заслуги каждого из его сотрудников, сплотившихся во-
круг меня в братское и ревностное содружество? Оно существу-
ет и по сию пору: Фернан Бродель, могучий певец Средиземно-
морья, столь богатого историческими резонансами, смелый зачи-
натель обновления экономической истории; не так ли, Жорж
Фридман, проницательный аналитик человеческих душ и души
коллектива, от Лейбница и Спинозы до безымянных прислужни-
ков машины; и вы, Шарль Моразе, пытливый и неутомимый ис
следователь неведомых земель, неуклонно продолжающий упор-
ные поиски новых методов; и все вы, мои сотрудники, читатели,
ученики и собратья по Франции и за ее пределами, чья взыска
тельная любовь придает мне силы и поддерживает мой творче
окий порыв,— не так ли? Я должен был упомянуть об этом, дол-
Предисловие
жен был в самом начале настоящего сборника выразить сердеч-
ную признательность стольким людям, а также городам и учеб-
ным заведениям, которые с таким радушием меня принимали:
Парижскому педагогическому училищу (1899—1902), Фонду
Тьера в университетах Дижона и Страсбура и многим другим
учреждениям Старого и Нового Света, не забывая ни о Брюссель-
ском Свободном университете, предоставившем мне нацелый год
свои кафедры, ни о благородном Коллеж де
Франс
3,
г
д
е
я
ра
о-
тал с 1933 года. Ведь только благодаря этим высоким трибунам
мой голос мог быть услышанным так далеко.
Пусть же еще раз послужат дорогому для меня делу эти стра-
ницы, собранные воедино и от того, надеюсь, ставшие еще более
красноречивыми. В нашу тревожную годину не хочется повто-
рять вслед за Мишле: «И молодежь, и старики — все мы уста-
ли». Полно, устала ли молодежь? Надеюсь, что нет. А старики?
Не допускаю. Сквозь тучи стольких трагедий и потрясений не-
объятные зарницы блещут на горизонте. В крови и муках рож-
дается новое человечество. А стало быть, вот-вот должна родить-
ся и новая история, новая историческая наука, сообразная с
этими непредсказуемыми временами. Хочется, чтобы мои усилия
помогли
мне заранее угадать направления этой науки и следовать
И чтобы мои ручейки слились с ее потоком.
Ле Суже, Рождество 1952
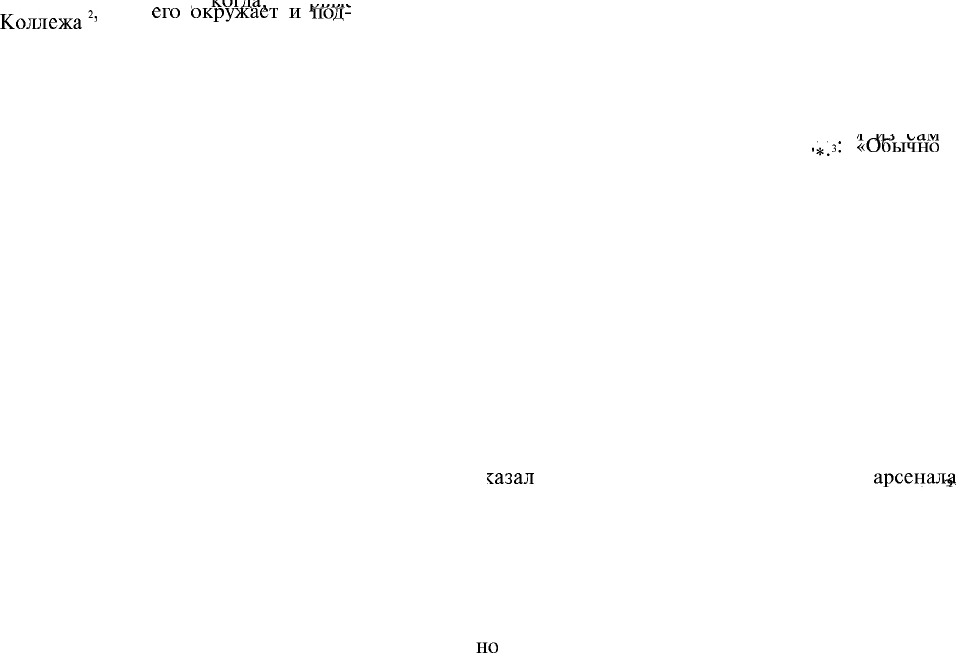
СУД СОВЕСТИ ИСТОРИИ И ИСТОРИКА
1892-1933
Нет возврата к прошлому, нет возврата к себе самому. «Do-
mine non sum dignis» [He достоен тебя, Господи] ' — вог
какие слова готовы сорваться с уст человека, когда, впервые
оказавшись в стенах этого
Коллежа
2,
где
его
ок
ружа
ет
и
*ВД"
стерегает столько незримых теней, он чувствует на плечах бремя
собственной слабости,— мне было бы стыдно не признаться в
этом. К тому же слушатели и коллеги новоизбранного лектора
вовсе не ждут от него пустопорожних излияний. Они надеются,
что он мужественно пообещает пожертвовать им свои усилия,
принести им в дар свою энергию. Ради чего? Чтобы ответить на
этот вопрос, я как историк должен прежде всего обратиться к
датам. , *
1892: после смерти Альфреда Мори Коллеж де Франс упраз-
дняет с целью преобразования кафедру всеобщей истории и при-
кладного исторического метода , просуществовавшую более века.
Кафедра истории и морали — таково было ее прежнее название;
именно она позволила ее руководителям — от классика Дону до
романтика Мишле — развить блестящую и новаторскую систему
обучения.
1933, сорок лет спустя: Коллеж добивается создания кафедры
всеобщей истории и исторического метода, приложимого к исто-
рии новейшей,— таков мой собственный вольный перевод ее офи-
циального названия (кафедра истории современной цивилизации),
которое отныне начертано на стенах Коллежа.
1892, 1933 — две даты, одна проблема: именно ее я и должен
в силу необходимости поставить перед вами. И если для ее раз-
решения я вынужден буду заняться нелицеприятным разбором
идей, воспринятых людьми моего поколения, и методов, которым
их обучали, вы не должны усматривать в этом самодовольного
высокомерия: мною движут просто-напросто неодолимое стремле-
ние к ясности и общая для нас с вами потребность осветить путь,
по которому мы теперь идем вместе.
I
Упраздняя кафедру истории и морали, Коллеж в 1892 году
имел на это свои основания. Он был создан не для того, чтобы
лететь вслед за победой
^
а для того, чтобы предшествовать ей.
Но к 1892 году история, как тогда ее себе представляли, уже
окончила битву и одержала победу. Она царила всюду: в лице-
ях, битком набитых дипломированными историками, в универси-
тетах, украшенных кафедрами истории, в специальных учебных
заведениях, где процветал ее культ. Переливаясь через край, она
растекалась оттуда по всем направлениям системы образования,
Суд совести истории и историка
U
по ректоратам и высоким постам народного просвещения. Будучи
гордой и могучей в общественной сфере, она и в сфере духовной
была так же самоуверенна — но чуточку сонлива.
А ее философия? С грехом пополам слаженная из формул,
заимствованных у Огюста Конта, Тэна и Клода Бернара, она
зияла бы дырами и трещинами, если бы их не скрывала широ-
ченная и мягчайшая подушка эволюционизма, как нельзя более
кстати пригодившаяся для этой цели. История чувствовала себя
весьма недурно, плывя по течению этих успокоительных мыслей;
впрочем, как мне уже не раз приходилось говорить, историки и
не испытывают особой нужды в философии. Я вспоминаю на-
смешливую тираду Шарля Пеги в одном из самых острых номе-
ров его «Двухнедельных записок»
'*·
3:
«Обычно
историки зани-
маются историей, не задумываясь над ее пределами и возможно-
стями; тут они, бесспорно, правы; хорошо, когда каждый зани-
мается своим делом; хорошо, вообще говоря, когда историк
начинает заниматься историей, не стремясь вникнуть в нее по-
глубже,— в противном случае он никогда ничего бы не сделал».
Боюсь, что, читая эту обманчиво благодушную фразу орлеанско-
го хитреца, многие из тогдашних историков принялись бы кивать
знак одобрения, не замечая едкого ее привкуса...
Все это касается внешней стороны вопроса. С внутренней дело
обстояло куда проще.
История — это история — такова была отправная точка для
ее определения. Если же, однако, кто-то и впрямь прилагал уси-
лия, чтобы ее определить, то странным образом исходил при этом
не из ее предмета, а из арсенала ее технических средств. Я бы
сказал
даже — всего лишь из части этого
арсенала.
«Историю изучают при помощи текстов»
4.
ла: и по сей день она не утратила всех своих достоинств,
они, без сомнения, неоценимы. Честным труженикам, законно
гордящимся своей эрудицией, она служила паролем и боевым
кличем в сражениях с легковесными, кое-как состряпанными
опусами. Но, если вдуматься, формула эта представляется опас-
ной: она как бы противостояла общему направлению различных,
но
действующих заодно гуманитарных дисциплин. Она предпола-
гала тесную связь между историей и письменностью — и это в
тот самый момент, когда ученые, занимавшиеся исследованием
доисторического периода,— как показательно само это назва-
ние! — старались восстановить без помощи текстов самую про-
странную из глав человеческой истории. Рождалась экономиче-
ская история, которая с самого начала хотела быть историей
человеческого труда, но можно ли изучать эту историю труда,
чьи особенности разбирал год назад в этих самых стфах Фран-
* Péguy Сh. De la situation faite à l'histoire et la sociologie-les temps mo-
dernes // Cahiers de la quinzaine. Sér. 8. Cach. 3. P. 28. (Здесь и далее
цифра со звездочкой означает примечание автора.)
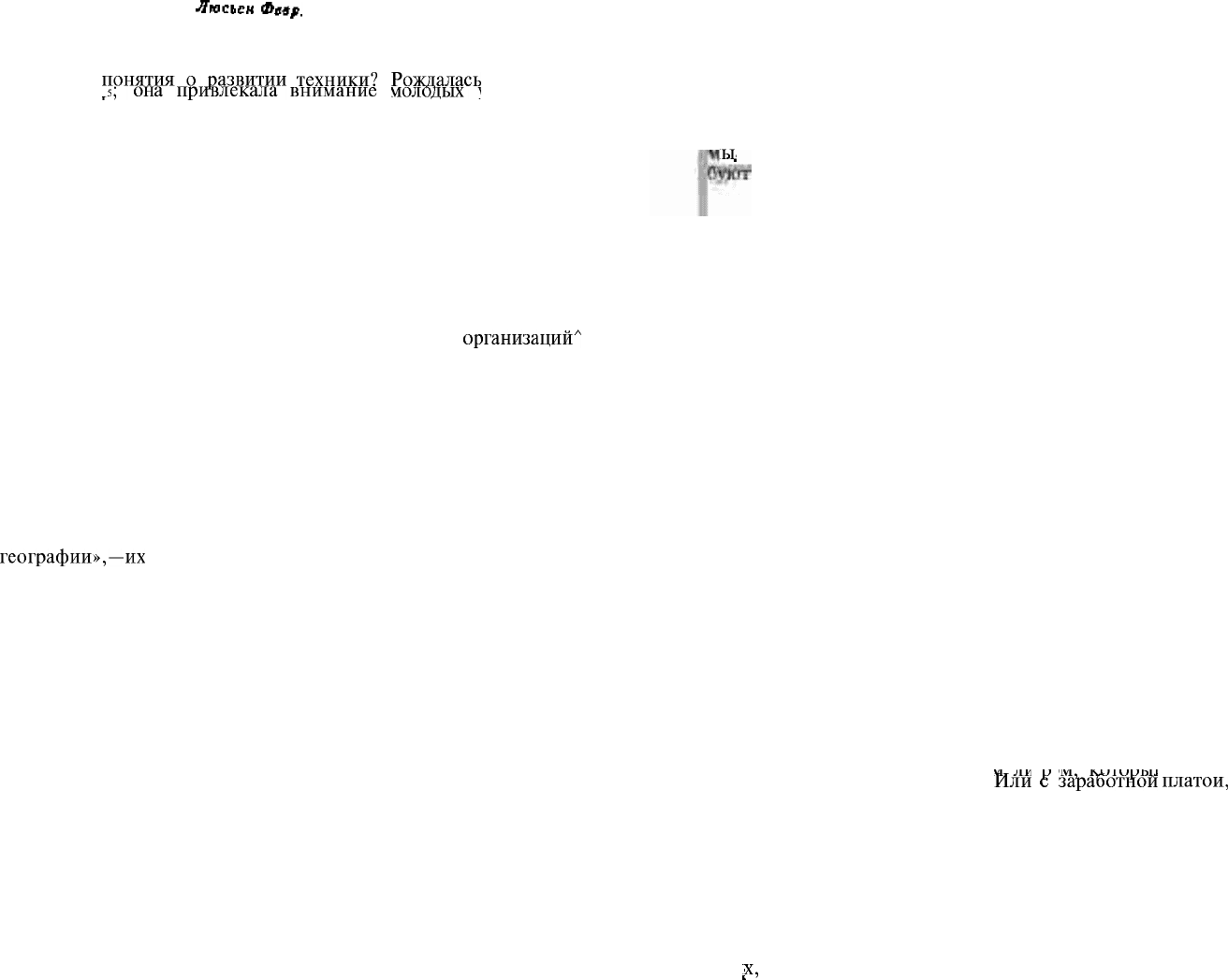
12
Люсь
ен
Фешр.
Бои за историю
Суд еовеети, истории и историка
суа Симиан, на основании одних только бумаг или папирусов,
не имея
понятияоразвитии
техники?
Рождалась
гуманитарная
география
же обращавшихся к реальным и конкретным исследованиям, бла-
годаря которым в затхлую атмосферу аудиторий сл
^
но бы втор-
гались небеса и воды, леса и деревни — словом, вся живая при-
рода. «Историю изучают при помощи текстов» — достаточно
принять эту формулу, чтобы разом покончить с тщательным на-
блюдением над различными ландшафтами, с тонким пониманием
ближних и дальних географических связей, с изучением следов,
оставленных на очеловеченной земле упорным трудом многих
поколений, начиная с людей эпохи неолита, которые, отделяя то,
что должно остаться лесом, от того, чему суждено превратиться
в пашню, устанавливали на грядущие времена первые историче-
ски известные типы первобытных человеческих
организаций
К счастью, исследователи древних обществ не попадались в
калечащие тиски этой косной формулы. Беспрестанно поддержи-
ваемые и обновляемые раскопками, находками памятников куль-
туры и предметов обихода, их исследования, связанные в силу
этого с осязаемыми и конкретными вещами — металлическим то-
пором, сосудом из обожженной или сырой глины, весами и гиря-
ми, всем тем, что можно потрогать, подержать в руках,— их
исследования, находящиеся в строгой зависимости от особенно-
стей той или иной местности, проводимые с помощью пробудив-
шегося «чувства топографии» и благоприобретенного «чувства
географии»,—их
исследования не могли рабски подчиниться
предписаниям этой строго ограниченной формулировки.
Совсем иначе обстояло дело в области изучения более позд-
ней истории. Молодые люди, чья интеллектуальная культура
была сформирована на основании одних только текстов, изуче-
ния текстов, толкования текстов, переходили, не порывая со
своими привычками, из лицеев, где принимались в расчет только
их текстологические способности, в институты, в Сорбонну, на фа-
культеты, где им предстоял все тот же труд по изучению и тол-
кованию текстов. Труд усидчивый, связанный с письменным сто-
лом и бумагой. Труд при затворенных окнах и задернутых што-
рах. Отсюда все эти крестьяне, которые словно бы никогда и не
нюхали навоза, а только и делали, что копались в старинных
картуляриях ". Отсюда все эти владельцы феодальных поместий,
о которых никому не было известно, что они делали с излишка-
ми своих запасов или что представляли для них их собственные
владения с точки зрения барщины и оброка, человеческих отно-
шений или денежных доходов. История была чем-то вроде знат-
ной дамы, а убогая экономическая действительность казалась ря-
дом с ней жалкой замарашкой. История не имела понятия ни о
деньгах, ни о кредите. Сельское хозяйство, промышленность,
торговля — все это было для нее чистой абстракцией. Тем самым
она лишний раз подчеркивала свою причастность ко всему благо-
родному и возвышенному, к идеальному и аристократическому
бескорыстию текстологических и литературных изысканий. Она
пользовалась величайшим уважением, которое снискали ей во
франции со времен Возрождения такого рода занятия. Если
ъ\
вспомним, что даже теперь, в 1933 году, университеты тре-
от своих выпускников-историков всего лишь четыре пись-
менные работы на исторические темы и столько же докладов,
по возможности «блестящих»; если мы вспомним, что, желая на-
учить их воссоздавать картину прошлого — всю его материаль-
ную и духовную жизнь, экономическую и социальную полити-
ку,— университеты не требуют от своих выпускников ни умения
читать статистические таблицы, составлять их или подвергать
разбору, ни знания права и начатков его эволюции; не требуют
не то чтобы знакомства с противоречивыми теориями политиче-
ской экономии, а и способности толково объяснить, что представ-
ляет из себя та или иная денежная единица в ее повседневном
обращении, что такое денежный курс, что фактически происхо-
дит за фасадом фондовой биржи или за окошечком депозитного
банка; если в довершение всего мы вспомним, что университеты
не требуют от своих питомцев даже критического осмысления
текста, а приучают их откупаться почти исключительно слова-
ми — датами, именами исторических деятелей и названиями
местностей,— если мы вспомним все это, то, без сомнения, пой-
мем суть формулы «история изучается при помощи текстов».
Но ведь посредством текстов постигались факты? Разумеется.
Каждый согласился бы с тем, что задача историка — установить
факты, а потом пустить их в ход. Все это было верно, все это
было ясно, но чересчур общо, особенно если смотреть на историю
единственно как на совокупность различных фактов. Такой-то
король родился в таком-то году, в таком-то месте. Там-то и там-то
он одержал решающую победу над соседями. 'Отлично; разыщем
все тексты, в которых упоминаются это рождение и эта победа;
отберем только те, что заслуживают доверия; используя лучшие
из них, составим строгое и точное изложение — разве все это так
уж трудно?
А вот что делать с турским ливром, который в течение веков
тепенно обесценивался?
7 Йли Е 3a
*
rfoH
платой,
которая
постепенно обесценивался?
7
втечение определенного промежутка времени понижается, тогда
как цены растут? Все это, бесспорно, исторические факты, при-
чем, с нашей точки зрения, куда более важные, чем смерть ка-
кого-нибудь государя или заключение непрочного договора. Но
постигаем ли мы их непосредственно? О нет! Обмениваясь опы-
том, сменяя друг друга, дотошные исследователи накапливают
такие сведения медленно, по крупице, при помощи множества
тщательно проведенных наблюдений, при помощи цифровых дан-
х,
С трудом извлеченных из всевозможных документов. Сами
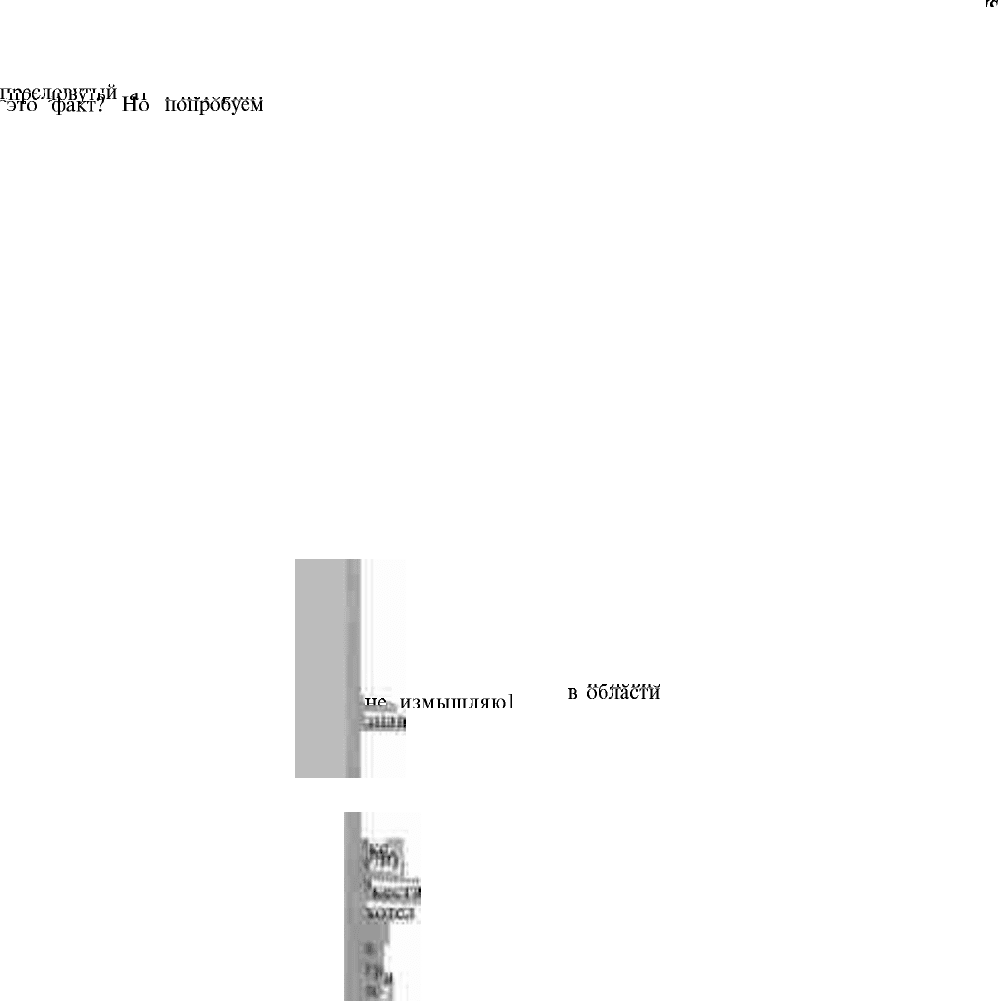
и
Люсъен Февр. Бои за историю
Суд совести истории и историка
гг
IS
собой такие факты в руки не даются. И пусть нам не возражают,
говоря, что все это не сами факты, а лишь коллекции фактов.
Ибо где взять факт как таковой, этот
пресловутый
атом истории?
Убийство Генриха IV Равальяком
8 — эй
Ф
аМ
Йо
поп
робуем
проанализировать его, разложить на составные элементы, мате-
риальные и духовные, попробуем представить его как сложный
итог действия общих исторических законов, · частных обстоя-
тельств времени и места, личных особенностей, присущих каждо-
му из безвестных или известных людей, игравших роль в этой
трагедии,— и мы увидим, как быстро начнет распадаться, рас-
ползаться, расслаиваться все это запутанное хитросплетение.,.
Фактических данных? Нет, фактов, созданных, воссозданных,
вымышленных или сфабрикованных историком при помощи ги-
потез и предположений, посредством кропотливой и увлекатель-
ной работы.
Здесь, между прочим, таится причина особой притягательно-
сти, которую представляют для исследователя начальные перио-
ды исторических процессов: сколько в них тайн, ждущих раскры-
тия, сколько забытых истин, жаждущих воскрешения. Это не-
обозримые пустыни, среди которых так и хочется — были бы
только силы — отыскать подземные источники и посредством
упорного труда породить, вызвать из небытия оазисы новых
знаний.
Л теперь попытаемся пошатнуть еще одно положение, столь
часто преподававшееся студентам в недалеком прошлом. «Исто-
рик не должен отбирать факты. Отбирать? По какому праву?
Во имя какого принципа? Выбор — это отрицание научного ме-
тода...» Но всякая история есть выбор.
Она есть выбор уже в силу случайности, которая уничтожает
одни следы прошлого и сохраняет другие. Она есть выбор в силу
особенностей человеческого мышления: как только документы
накапливаются в избыточном количестве, исследователь начинает
сокращать и упрощать, подчеркивать одно и сглаживать другое.
Наконец — и это самое главное,— она есть выбор в силу того,
что историк сам создает материалы для своей работы, или, если
угодно, воссоздает их: он не блуждает наугад по прошлому, слов-
но тряпичник в поисках случайной наживы, а отправляется в
путь, имея в голове определенный замысел, проблему, требую-
щую разрешения, рабочую гипотезу, которую необходимо прове-
рить. И сказать, что все это не имеет ни малейшего отношения
к «научному подходу»,— значит признать, что мы просто-напро-
сто не имеем отчетливого представления о науке, о ее особенно-
стях и методах. Итак, способен ли историограф, всматривающий-
ся в окуляр своего микроскопа, непосредственно различить голые
факил? Ведь суть его работы состоит в том, что он, так сказать,
сам создает объекты своего наблюдения, подчас при помощи весь-
ма сложных технических приемов. И лишь потом принимается
и «препаратов». Нелегкая
что видишь; куда труднее
за изучение приготовленных «срезов»
задача: не так уж трудно описать то,
увидеть то, что нужно описать.
Установить факты, а затем пустить их в ход... Разумеется,—
но будьте осторожны: не соглашайтесь на невыгодное разделе-
ние труда, на чреватую опасностями иерархию. Не поощряйте
тех скромных и самокритичных с "виду, а по существу пассивных
и тупоголовых деятелей, которые накапливают факты безо вся-
кой определенной цели, а потом целую вечность сидят сложа руки
в ожидании человека, способного привести эти факты в систему.
Поля истории усеяны грудами камней, кое-как отесанных добро-
хотными каменщиками и брошенных на месте без употребления...
Камни эти ждут толкового архитектора, не особенно, впрочем,
надеясь на его приход, но мне кажется, что если он и впрямь
вится, то обойдет стороной эти бесформенные завалы и начнет
роительство на свободной и пустой площадке. Здесь — механи-
ческий труд, там — творческий порыв; здесь — подсобные рабо-
чие, там — мастера-строители: такое положение вещей никуда не
годится. Творчество должно присутствовать всюду, чтобы ни кру-
пицы человеческих усилий не пропадало втуне. Установить
факт — значит выработать его. Иными словами — отыскать оп-
ределенный ответ на определенный вопрос. А там, где нет вопро-
сов, нет вообще ничего.
Все эти истины слишком часто ускользали от многих истори-
ков, воспитывавших своих учеников в духе священной ненависти
к гипотезе, на которую они, несмотря на высокопарные разгла-
гольствования о научном методе и научной истине, смотрели как
на худшее из прегрешений перед так называемой Наукой.
На фронтоне их истории красовался начертанный огненными
буквами непререкаемыйдевиз: «Hypotheses nonfingo» [Гипотез
ир
измъттттляю1
в
°бЯасти
классификации фактов они при-
али один-единственный прием: строгое соблюдение хроноло-
гического порядка... Строгое? Мишле сказал бы иначе — умелое.
Но каждому в ту пору было яснее ясного, что Мишле и история
ничего общего между собой не имеют. А что такое хронологиче-
ский порядок — не чистое ли надувательство? История, которой
нас обучали (я часто употребляю глаголы в несовершенной фор-
лением настоящего при помощи прошлого. Но сама она не
а видеть этого, не хотела в этом признаться.
История Франции — от римской Галлии, описанной Цезарем
начале его «Записок», до Франции 1933 года в ее теперешних
ь-'ну. Она не разбивалась о подводные камни, не тонула в во-
эворотах и, достигнув цели своего плаванья, могла бы сказать:

16
Люсьен Февр. Вой аа историю
«Смотрите, отбыв из Галлии, я беспрепятственно добралась до
современной Франции — это ли не доказательство поразительного
постоянства нашей национальной истории!» Все это было верно
вплоть до 1933 года, когда историки начали вновь подниматься
вверх по течению, обследуя все притоки, кроме тех, что уводили
их в сторону,— иными словами, не вели прямиком к Цезарю.
И это державное струение все больше очаровывало их по меро
того, как они придавали живой истории, сотканной из катастроф
и трагедий, недолговечных захватов и аннексий, характер наду
манной и в конечном счете мертвенной определенности.
Но попробуем, бросив свежий взгляд на истори
представить себе то поразительное многообразие столь несхожих
между собою обличий, которое являет страна, именуемая нами
Францией (не будем забывать, что название это она неизменно
носит в течение веков); постаравшись избавиться от навязчивой
формулы «что было — то и есть», вглядимся мысленным взором
в чередование парадоксальных для нас формаций, таких, как
Франция и Испания, Франция и Рейнская область или Франция
и Англия, Франция и Италия, Франция и Нидерланды... ТЗсли
хотя бы один из этих исторических сплавов существовал, исто
рия — уж будьте уверены — сумеет доискаться до его происхож-
дения. Всего не перечесть, но кто знает, насколько суше и без-
жизненней станет история, если мы не будем принимать во
внимание всех этих случайностей, бесплодных потуг, метаний из
стороны в сторону. И — будь у меня возможность, говоря с этой
кафедры, пользоваться не одним только языком науки — я до-
бавил бы: кто знает, какую опасность может представлять исто-
рия при таком к ней подходе.
4
_.
Обратимся к истории
Рейна
2
•
Вы станете
писать
эт
у
исто-
рию, простодушно исходя из иллюзорного убеждения, будто вам
предстоит спуститься вниз по течению событий, тогда как на са-
мом деле вам пришлось бы сначала подняться к их истокам. Вы
исходите из того, чем является для нас теперешний Рейн — оли-
цетворением взаимной ненависти народов, пограничной рекой,
ставкой в кровавой игре воинствующих политиканов. И вот мало-
помалу вы добираетесь до знаменитого и пророческого места из
«Записок» Цезаря, где говорится о Рейне, «разделяющем Гал-
лию и Германию». После чего поворачиваете вспять. Разумеется,
все так же простодушно. И — готов согласиться — по собственной
воле. Но теперь в продолжение всего путешествия вы будете
судорожно сжимать в руках два конца одной цепи. Сами того не
сознавая, вы перенесли жгучую современность в остывшее лоно
былых веков. И нашли ее там именно в таком виде, в каком она
была вами же привнесена. Это реакционный метод, хотя вы не
a*
Febvre L., Demangeon A. Le
probleme
historique
du
Rhin.
Strasbourg,
1930. Vol. 1, ch. 1; repr.: f'ebvre L. Le Rhin, problèmes d'histoire et d'éco-
nomie. P., 1934.
I
Суд совести истории и историка
отдаете себе в этом отчета. Метод, некогда выдвинутый Вильгель-
мом II, а вслед за ним проповедуемый теми, кто, возомнив о себе
как о перле творения, полагает, будто прошлое во всей его, сово-
купности — всего лишь подготовка и желанное оправдание их соб-
ственного существования, их замыслов
10.
Споритьс
этим не при-
ходится. Но при чем тут наука?
Таким образом свершала история свое, триумфальное шествие.
Можно было только позавидовать ее внешнему могуществу. Од-
нако мало-помалу она теряла внутреннюю силу. История, как го-
ворилось тогда, не является определенной дисциплиной со строго
определенным содержанием. Это всего лишь метод, чуть ли не
универсальный метод гуманитарных наук; метод, находящийся
в процессе становления. Словно бы этот метод, который в одном
известном тексте определяется как «средство для составления
истории», в действительности хоть чем-то отличался от одного
из методов, применяемых всеми науками,— метода опосредован-
ного познания! История не потеряла своей тени, но ради нее от-
реклась от истинного своего существа. И те, которые напоминали
ей об этом,— я имею в виду прежде всего сотрудников «Журнала
исторического синтеза» и их руководителя Анри Берра, с проро-
ческой храбростью писавшего в 1911 году в предисловии к сво-
ему критическому и теоретическому эссе «Синтез в истории»:
«Утверждают, будто история утратила связь с жизнью в силу
чрезмерной своей научности; я убежден в обратном: это произо-
шло именно потому, что она недостаточно научна»,— те, которые
напоминали ей об этом, были, без сомнения, провозвестниками
будущего, но у них, разумеется, не было власти над настоящим.
II
И вот наступило пробуждение, внезапное и тягостное. Про-
буждение в разгар кризиса, в пору сомнений.
Сомнений, порожденных
войной-
СЙмнении,
испытанных
теми, кто вновь принялся за свое мирное ремесло, но уже не
мог забыть ни на минуту, что их личная цель стала теперь не
совсем такой, какую они преследовали бы, не прокатись над ми-
ром смертоносный ураган,— что им предстоит, помимо прочего,
взять на себя задачи тех, кого уже нет на свете, задачи двух
безжалостно истребленных поколений, от которых остались
только обломки, подобные кошмарным обломкам лесов, встречаю-
щимся в прифронтовой полосе...
3
«Заниматься историей; преподавать историю; ворошить гру-
ды золы, местами остывшей, местами еще теплой,— любой золы,
хранящей мертвые следы чьих-то испепеленных жизней... К чему
все это? Разве иные задачи, более насущные и, если говорить
II
1
а* Febvre L., DemangeonA.L
e
problèmehistorique dans le monde
rique. 1920. T. 30, N 88. P. l sqq.
2 Л. Февр
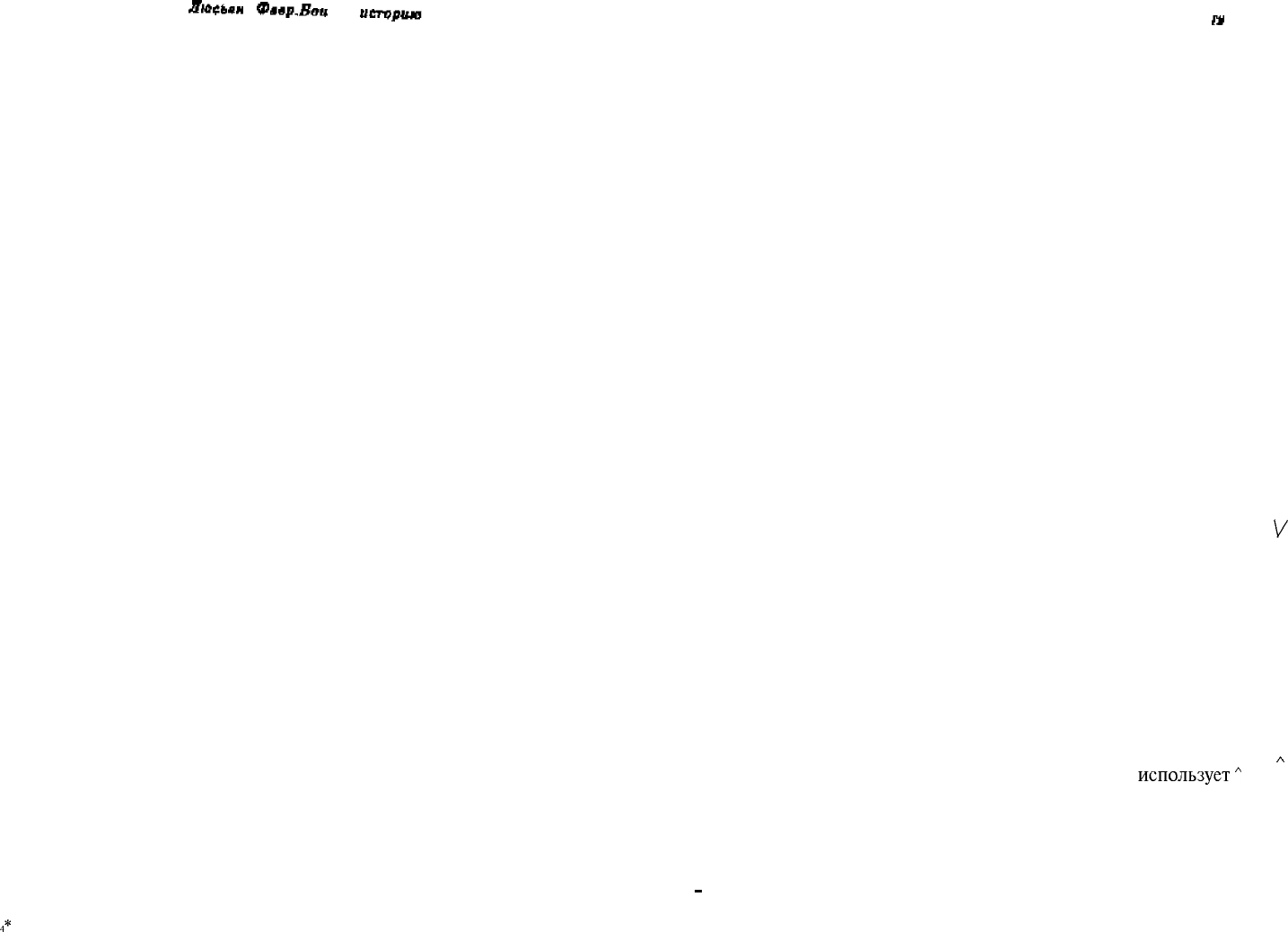
Лю$ъан
Фа
ё?
,
Sou
да
иегурию
Суд совести истории и историка
1-J
наиряшш более полезные, не требуют, чтобы мы отдали им:
остаток своих сил?»
Сомнения тех, кто потешался над «банкротством истории»
5
были более легковесными. Обвинять историю в том, что она не·
сумела ничего предвидеть и предсказать; иронизировать над
крушением выработанных ею «законов», высмеивая их несостоя-
тельность; издеваться над «экономическим спиритуализмом»,
который, как утверждал в свое время Фредерик Ро '*, скрывается
под вывеской «исторического материализма»; сомневаться в по-
тенциальных возможностях моральной энергии, чья действенная
сила никем не отрицалась; отвечать тем, кто говорит о среде и
ее воздействии на человека шутовским каламбуром Бернарда
Шоу: «Разумный человек приспосабливается к среде; неразум-
ный старается приспособить ее к себе; отсюда следует, что вся-
кий прогресс есть дело рук дураков»,— во всех этих насмешках
нет ничего непредвиденного и ничего особенно интересного для
историков. Ибо им отлично известно, что существуют две изна-
чально несхожие сферы: сфера познания и сфера действия, об-
ласть науки и область вдохновения, мир вещей, уже причастных
к существованию, и тех, что еще находятся в процессе бурного
зарождения. Разве могут достоверно установленные исторические
законы подавить человеческую волю? И кто осмелится утверж-
дать, что самостоятельный творческий порыв не является в дан-
ной среде необходимым орудием борьбы с гнетом традиций, с кос-
ностью общественных институтов, тогда как даже с точки зрения
будущего одиночные усилия новаторов несомненно должны обна-
ружиться среди наследия режима, против которого они боролись?
Куда серьезней был кризис всего, что составляло окружение ж
обрамление истории. Тот современный мир, которым мы так гор-
дились, который был удобным поприщем для нашей деятельности,
вселявшим в нас уверенность в неколебимости раз и навсегда
усвоенных убеждений; тот мир; где царила строгая математич-
ность физики, возведенной в ранг геометрии, и сама эта физика,
лишавшая материю всех ее свойств, сводившая ее к простой про-
тяженности,— сама эта наука о естественных явлениях, изо всех
сил стремившаяся к объективности, недоступной человеческому
«я», извлекавшая ценности не из качественного, а из количест-
венного; и в особенности та наука о человеческой деятельности,
которая складывалась посредством приложения к гуманитарной
сфере методов, до сей поры применявшихся лишь в области дис-
циплин, ограниченных строжайшим детерминизмом,— все это
рушилось целыми пластами под неустанным напором новых идей,
под воздействием подземных толчков, расшатывавших и потря-
савших вековые устои физики.
4*
Rauh F. Etudes de morales. P., 19И. P. 61 sqq.
Итак, банкротство старых идей, старых учений, сметенных
новыми веяниями? Ничего подобного! Нет морей, которые не ос-
тавили бы геологических отложений, свидетельствующих об их
глубине. Крушение идеалов, необходимость возврата к примитив
ному или обновленному мистицизму? Ни в коей мере! Скорее их
обогащение и расширение. И — если говорить конкретно о зани
мающем нас теперь вопросе — давно уже смутно предвидимая
возможность новых связей, взаимообогащающих отношений меж
ду двумя сферами, дотоле разделенными пропастью: объективной
сферой природы и субъективной сферой духа...
Сейчас не время рассматривать, как, в какой мере и в каких
именно частностях это грандиозное преобразование идей может
затронуть историю, едва вступившую в общую семью наук. Для
подобного рассмотрения потребовалась бы если не целая книга,
то хотя бы полный курс лекций. Ограничимся же несколькими
простыми вопросами. Можно ли среди стольких потрясений рас-
сматривать историю как нечто застывшее, скованное своими ста
рыми навыками? Можем ли мы не ощущать потребности в согла-
совании наших идей и методов с идеями и методами других
наук? Можно ли — и это главное — не стремиться к восстанов
лению истории, если все ее здание покрыто трещинами?
Восстановление, но на какой основе? Не будем искать дале-
ко: на прочной основе того, что принято называть человеч-
ностью.
История — наука о человеке, о прошлом человечества, а но \/
о вещах или явлениях. Да и существуют ли идеи вне зависимости
от людей, которые их исповедуют? Ведь идеи — это всего лишь
одна из составных частей того умственного багажа, слагающего-
ся из впечатлений, воспоминаний, чтений и бесед, который носит
с собой каждый из нас. Так можно ли отделить идеи от их
создателей, которые, не переставая питать к цим величайшее
уважение, беспрестанно их преобразуют? Нет. Существует только
одна история — история Человека, и это история в самом широ
ком смысле слова. Вспомним, с каким рвением именно здесь,
в стенах этого Коллежа, опровергал Мишель Бреаль заблуждения
Джеймса Дармстеттера, когда тот написал книгу «Жизнь слов»,
главным героем которой был не человек, а язык.
л
История — наука о Человеке; она, разумеется,
использует
^
/~
θ
факты, но это — факты человеческой жизни. Задача историка: ι/
постараться ЦОНЯ'ЕЬ людей, бывших свидетелями тех или иных
торантов, позднее запечатлевшихся в их сознании наряду с про-
-йми идеями, чтобы иметь возможность эти факты истолковать.
История, разумеется, использует тексты, но это — человече-
- тексты. Сами слова, которые их составляют, насыщены че-
зческой сутью. И у каждого из этих слов — своя история,
Дое в разные эпохи звучит по-разному, и даже те из них, что
:ятся к материальным предметам, лишь изредка полностью
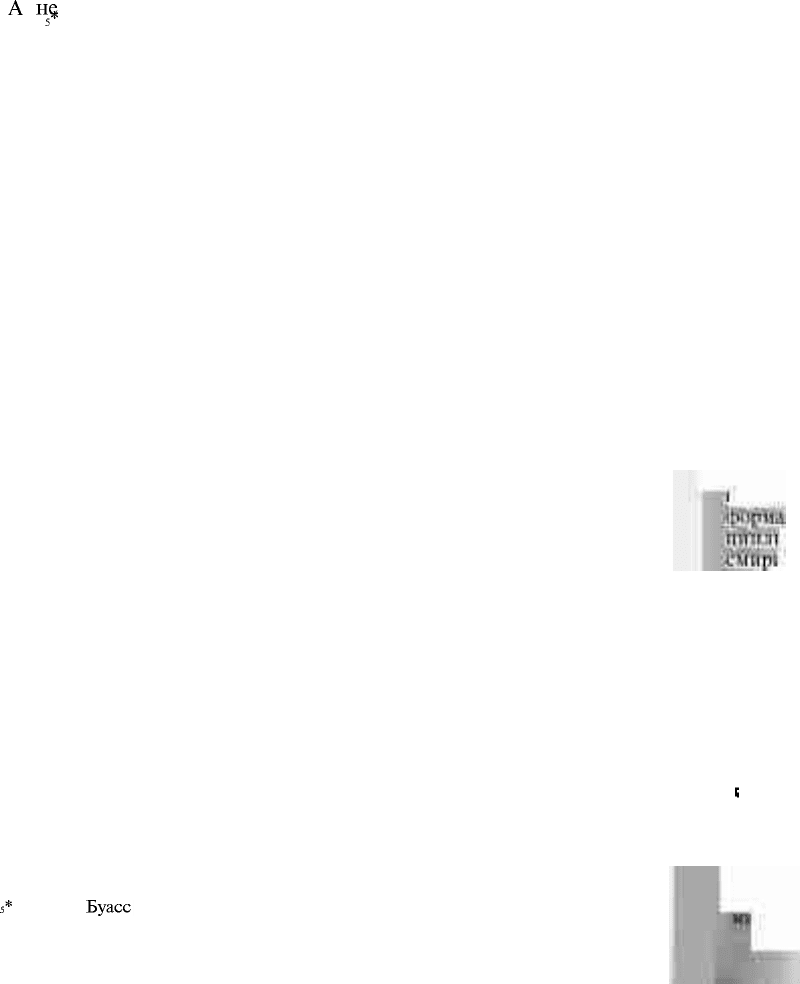
20
Люсъен Февр. Бои за историю
совпадают по смыслу, лишь изредка обозначают равные или рав-
ноценные свойства.
История использует тексты — не спорю. Но — все тексты.
А
н
е
т
тельности историкам всего их позитивного материала: имен, мест,
дат, мест, дат, имен... А и стихи, картины, пьесы: все это тоже
источники, свидетельства живой человеческой истории, пронизан-
ные мыслью и призывом к действию.
История использует тексты — это ясно как день. Но не толь-
ко тексты. А и все источники, какова бы ни была их природа.
Суд совести истории и историка
Те, что находятся в обращении издавна, и те в особенности,
что порождены бурным расцветом новых дисциплин: статистики;
демографии, заменившей генеалогию в той мере, в какой народ
сменил у кормила власти королей и князей; лингвистики, заяв-
ляющей устами Мёйе, что всякое языковое явление знаменует
собой определенный шаг в развитии общества; психологии, пере-
ходящей от исследования отдельных личностей к исследованию
групп и масс,— всего не перечесть. Тысячелетия назад пыльца
цветущих деревьев осела на поверхности северных болот. Совре-
менный ученый, рассматривая эту пыльцу в микроскоп, кладет
ее в основу захватывающих исследований о древнем населении
тех мест,— исследований, которые не могла бы должным образом
произвести историческая наука, даже присовокупляя к данным,
почерпнутым из текстов, данные топонимики и археологии. Пыль-
ца тысячелетней давности превратилась в исторический источник.
История претворила эту пыльцу в свой мед. Ничего не отвергая,
история пользуется всем тем, что только может изобрести или
предложить пытливый человеческий разум, жаждущий воспол-
нить утрату текстов и провалы забвения...
Постоянно устанавливать новые формы связей между близки-
ми и дальними дисциплинами; сосредоточивать на одном и том
же объекте исследования взаимные усилия различных наук — вот
наиглавнейшая задача из тех, что стоят перед историей, стремя-
щейся покончить с изолированностью и самоограничением,— за-
дача самая неотложная и самая плодотворная.
Речь идет не только о заимствовании понятий, хотя иногда
оно и необходимо. Но прежде всего — о заимствовании методов
и духа исследования. Сегодня это, как правило, проблема иска-
телей-одиночек, вынужденных просить поддержки у соседей.
Завтра мы станем свидетелями фактического сотрудничества
ученых разных специальностей, объединивших свои усилия в
рамках одного коллектива: физик, скажем, ставит проблему; ма-
тематик вносит вклад в ее разработку, используя свое виртуоз-
ное владение языком науки; астроном, наконец, выбирает в бес-
5*
Физик
Буасс.
крайних небесных просторах именно те светила, которые следует
избрать, и начинает наблюдение за ними. Таким, я думаю, бу-
дет положение вещей в грядущем. Оно лишит работу исследо-
вателя ее интимного характера. Работа перестанет быть глубоко
личным делом отдельного человека, его духовной сферь!. Но из-
вестная потеря личностного характера труда возместится его воз-
росшей эффективностью. Хотим мы этого или нет, времена ре-
месленничества постепенно отходят в прошлое. Подобно осталь-
ным своим собратьям, кустарь от науки — а именно таковыми
все мы и являемся,— которого мы любим даже за его пороки и
чудачества, который все делает самостоятельно и вручную: сам
вырабатывает свои методы, сам определяет область исследований,
сам составляет их программу,— этот кустарь скоро исчезнет с
нашего горизонта, примкнув к неисчислимому сонму мертвых
красот. Но иная красота уже начинает вырисовываться на земле.
Сотрудничество ученых, согласованность методов, аналогич-
ные пути развития различных дисциплин. От одной из отраслей
филологии — я говорю о филологии сравнительной, зародившей-
ся в XVIII веке в связи с открытием санскрита в Европе,— от-
почковалась новая наука, лингвистика. Но перед тем как обра-
титься к статическому изучению языковых явлений, независимо-
му от исторического языкознания, она посвятила себя почти
исключительно именно этой дисциплине. Подобная эволюция мо-
жет служить отдаленным и грубым прообразом развития, которое
наверняка предстоит истории, когда от общего исследования
исторических систем — народов и наций, если угодно,— она
перейдет (в форме, которую трудно предугадать заранее, ибо
эта будет во многом зависеть от прогресса смежных дис-
н) к статическому изучению исторических фактов... А пока
имся и не будем указывать ей иных задач, кроме постанов-
ки общечеловеческих проблем. Этого требует от нас как привер-
женность к гуманизму, так и предвидение того, чем когда-нибудь
станет история — наукой об исторических фактах.
Наукой, обладающей собственными законами? Возможно. Все
зависит от того, что называть законом. Это высокопарное слово
отягчено многими, подчас противоречивыми, значениями. Если
закон принуждает к действию, мы, как уже говорилось, против
него. Не будем подавлять свободный человеческий порыв мерт-
вящим грузом прошлого. Именно потому, что мы являемся исто-
риками, нам нужно во всеуслышание повторить: такой закон ни
J
чему не обязывает. Впрочем, о каком прошлом может идти
в>ечь? Постараемся отделаться от иллюзий. Человек не помнит
прошлого — он постоянно воссоздает его. Это касается и такой
абстракции, как отдельный человек, и такой реальности, как че-
с-°век, являющийся членом общества. Он не хранит прошлого в
«оей памяти подобно тому, как северные ледники тысячелетия-
хранят в своей толще замерзших мамонтов. Он исходит из
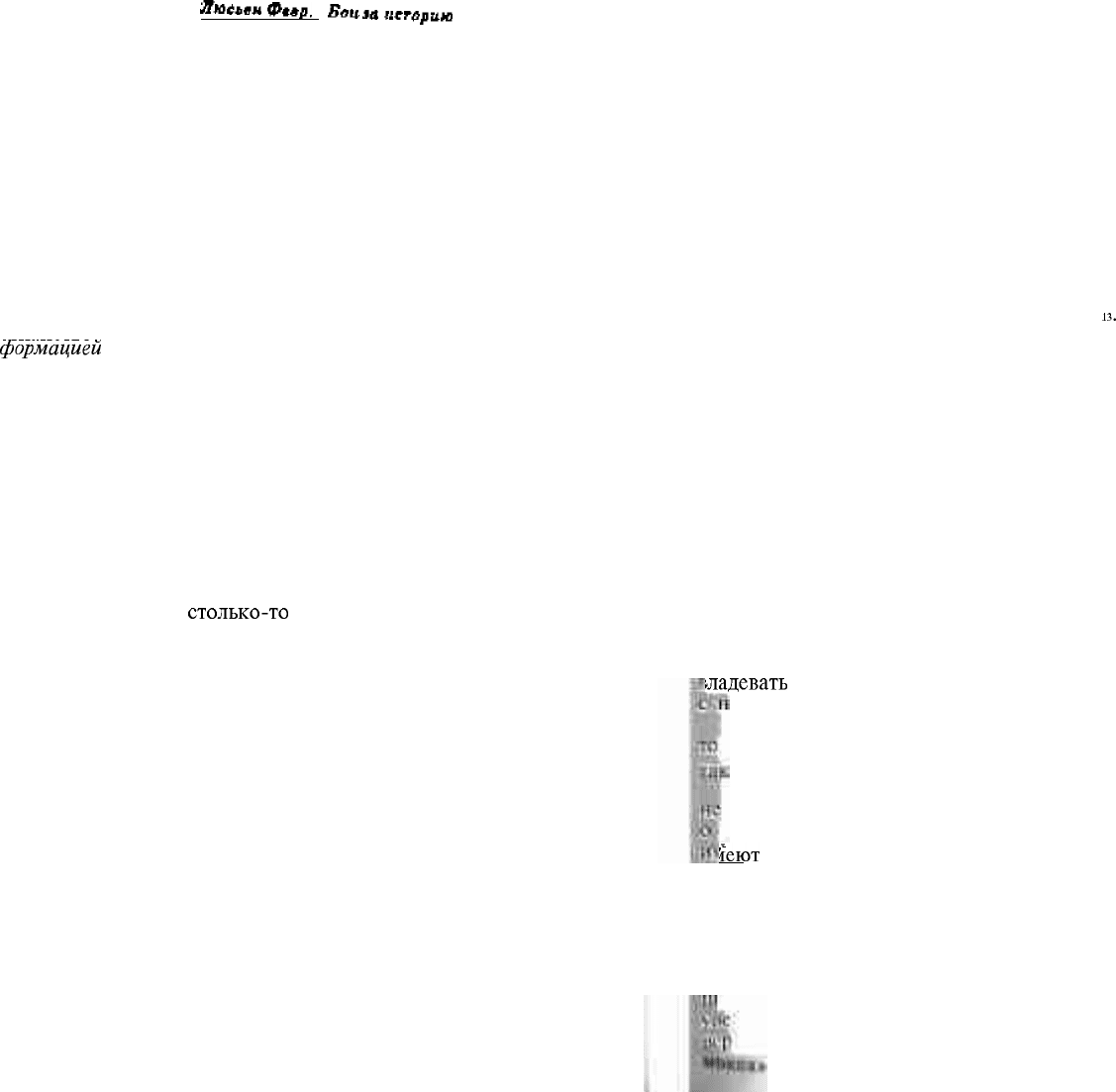
•
Люсъен
Ф*%р.
Бон
зл
истерию
Суд совести истории и историка
ί'5
настоящего — и только сквозь его призму познает и истолковы
вает прошлое.
Не угодно ли пример — самый, наверное, типичный; на него
совсем недавно и с полным основанием ссылался Марк Блок. Это
пример из области обычного средневекового права. В течение
многих веков то или иное установление, та или иная повинность
признавались законными и имеющими силу лишь потому, что
восходили к незапамятным временам, и добросовестный судья в
поисках юридической истины неизменно обращался к прошлому:
«А как в этих случаях поступали до меня? Каков обычай?»
Не следует ли из этого делать вывод, что правовые нормы сто-
летиями оставались неизменными? Вовсе нет: они не перестава-
ли развиваться, и развивались быстро. Точно так же, как хри-
стианство в промежутке между временем мира в Церкви и Ре-
формацией
и
Чем же был обусловлен такой подход к прошлому? Жизнен-
ной необходимостью. Инстинктивной защитной реакцией против
чудовищной массы отживших фактов, идей, обычаев. Наполнить
саму традицию современным содержанием — вот первый способ
борьбы с ней. Не такой, разумеется, должна быть реакция объ-
ективной исторической науки. Отбрасывая подобные методы ин-
терпретации, она прилагает героические усилия, пытаясь восста-
новить последовательные системы идей и общественных институ-
тов во всей их первозданной свежести. Но она способна измерить
и все трудности этой задачи. Она отлично сознает, что ей никог-
да не удастся найти и включить волшебный аппарат, пролежав-
ший в бездействии
столько-то
веков, который донес бы до нее
живой голос минувшего, записанный с расчетом на целую веч-
ность. Она истолковывает факты. Она группирует их. Она вос-
создает их и добивается от них ответа. И во всем этом нет ни-
какого кощунства, никакой попытки посягательства на ее вели-
чество Науку. Науку не создают в башнях из слоновой кости.
Она творится в гуще жизни, творится живыми людьми, сыновья-
ми своего времени. Тысячи тончайших и запутанных нитей свя-
зывают ее со всевозможными видами человеческой деятельности.
Иногда ей случается даже испытывать влияние моды. Варясь в
том же котле, что и остальные гуманитарные дисциплины, может
ли избежать их сомнений и тревог эта наука, о которой Пуанка-
ре говорил, что она «угадывает прошлое»? Скажем так: воскре-
шая прошлое, она касается своей магической палочкой только
отдельных его частей, а именно тех, что представляют какую-то
ценность для идеала, которому она служит, и времени, на кото-
рое приходится ее служение... Но вернемся к вопросу о законах.
Что такое законы? Если понимать под ними некие общие фор-
мулы, которые, группируя дотоле разрозненные факты, слагают
их в определенные серии, то почему нам эти формулы не при-
нять? Именно таким образом история может лишний раз ощутить
живую общность наук, именно так может она еще отчетливей
осознать себя сестрою других дисциплин, главная задача кото-
рых сегодня — достижение согласия между логикой и реальностью,
точно так же, как для истории эта задача состоит в том, чтобы со-
гласовать свое назначение со своими возможностями.
Нелегкая задача. Сейчас повсюду, среди всех наук,— сплош-
ные разногласия, конфликты, противоречия. В стенах этого Кол-
лежа тоже найдутся люди, которые не прочь позлорадствовать
над нашей беспомощностью. Пусть себе злорадствуют. Они забы-
вают об одном: в основе каждого научного достижения заложен
дух противоречия. Успехи науки суть плода раздора. Точно так
же религии питаются ересями и развиваются за счет ересей. Оро-
rtet haereses esse [Надлежит ересям быть]
в-
Начиная свою лекцию, я отдавал себе отчет в том, сколько
времени и усилий может потребоваться, чтобы должным образом
прояснить все эти идеи. Моей целью не было изложить перед
вами некую систему: я просто хотел представиться вам, поде-
литься своими намерениями, поведать о своих пристрастиях и
слабостях, но самое главное — выразить свои добрые чувства.
В превосходном юбилейном издании, которое выпустит этот
Коллеж по поводу своего четырехсотлетия, находится волнующий
Документ, воспроизведенный тщанием Поля Азара. Это автограф
Мишле — исписанная его мелким почерком страница, содержа-
щая наброски одной из последних прочитанных им здесь лекций.
Вот что можно разобрать на этом листке, пронизанном неповто-
римой ритмикой великого поэта-романтика от истории:
е«Я не принадлежу ни к какой партии... Почему? Потому что
в истории я не видел ничего, кроме истории...
У меня нет школы... Почему? Потому что я старался не за-
ладевать
умами людей, а, напротив, освобождать их, делиться
ими животворной силой, толкающей к поискам и находкам».
В свое время, когда рано или поздно подойдет к концу нача-
е мною сегодня преподавание, хотелось бы и мне заслужить ·
ую похвалу:
«В истории он не видел ничего, кроме истории... Обучая, он
стремился завладеть умами, ибо не исповедовал тех систем,
которых Клод Бернар в один голос с Мишле говорил, что они
"IST
склонность порабощать человеческий дух. Зато он инте-
ресовался идеями и теориями. Идеями — потому, что наукм
Движутся вперед лишь благодаря самобытной и творческой силе
Мышления. Теориями — потому, что все мы отдаем себе отчет в
том, что им не дано объять всю бесконечную сложность естест-
венных явлений. И тем не менее именно теории служат ступе-
нями, по которым поднимается наука в ненасытном желании рас-
ирить горизонты человеческой мысли,— поднимается, заранее
ренная в том, что ей никогда не удастся достичь вершины
шин, той выси, откуда можно видеть рождение зари из лона
