Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, проблемы законодательной регламентации
Подождите немного. Документ загружается.

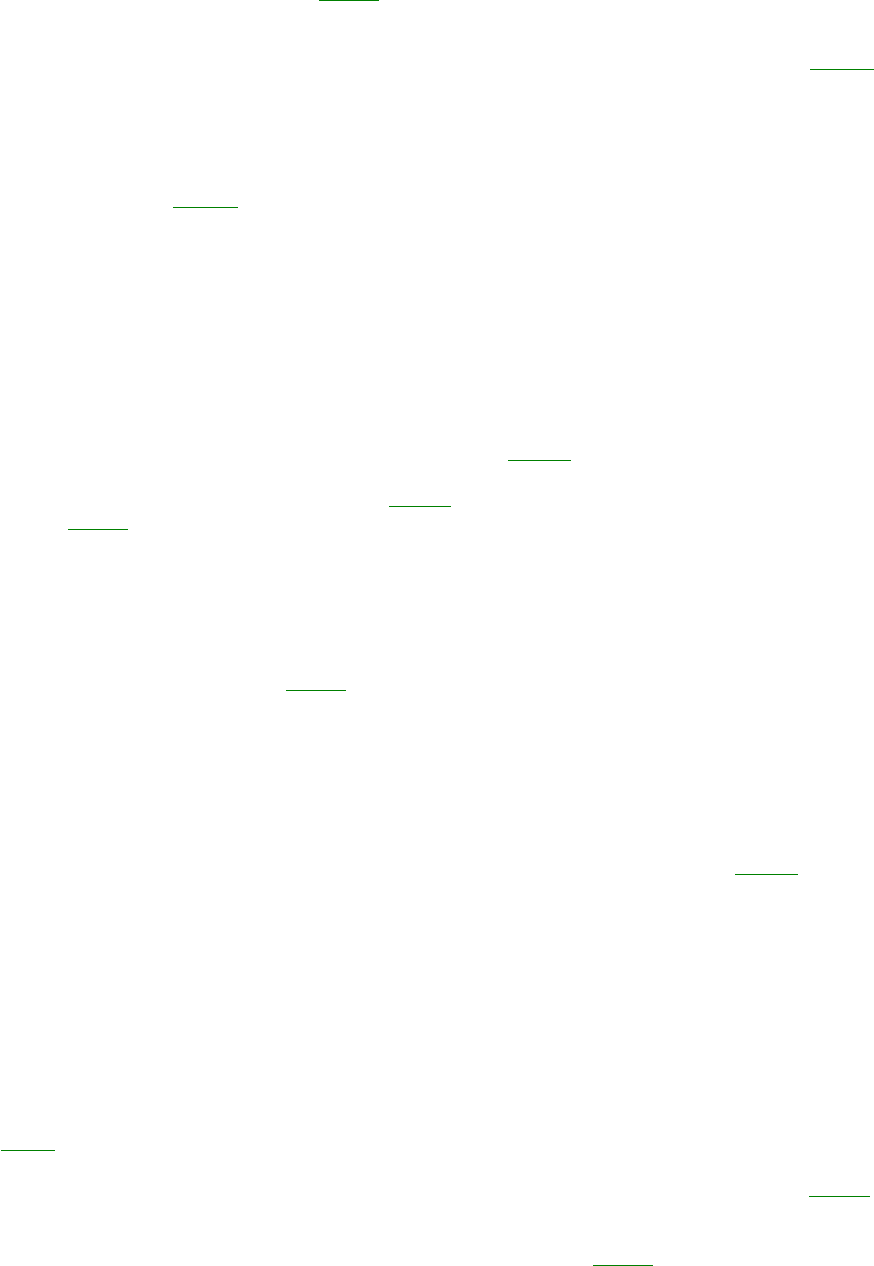
справедливо пишет А.В. Аверин, "всегда и всюду юридические законы были, есть и будут
несовершенными хотя бы потому, что они создаются (оформляются) людьми. Но даже самый
максимально совершенный закон, который на соответствующем этапе развития общества выдерживает
любую конструктивную критику, не может претендовать на абсолютную ясность для правоприменителя,
который в каждом случае применения данного закона сталкивается с конкретной жизненной ситуацией,
индивидуальной и неповторимой" *(339). Однако это еще не говорит о том, что судья может толковать ту
или иную уголовно-правовую норму таким образом, что ее смысл и содержание становились бы шире
или уже, чем ее словесное выражение.
Так, в частности, в одном из московских учебников по уголовному праву *(340) приводится
пример расширительного толкования ч. 3 ст. 81 УК РФ. Авторы полагают, что военнослужащие,
отбывающие арест либо содержание в дисциплинарной воинской части, освобождаются от дальнейшего
отбывания наказания не только в случае заболевания, делающего их негодными к военной службе (как
это указано в статье), а также и в тех случаях, когда "осужденный теряет годность к несению военной
службы и по другим обстоятельствам, например, при достижении предельного для несения военной
службы возраста" *(341). С одной стороны, данное дополнение не вызывает сомнений, оно вполне
логично и понятно. Однако, с другой стороны, остается неясным вопрос о том, а на каком основании мы
должны расширять содержание данной нормы, это согласуется с тем первоначальным смыслом,
который законодатель вкладывал в норму или нет? Мы полагаем, что ответ на этот вопрос может дать
только сам законодатель, а при необходимости он должен внести соответствующие изменения в
уголовный закон.
Кроме этого, по мнению некоторых авторов, расширительное толкование недопустимо,
поскольку оно, по сути, близко или тождественно аналогии закона, запрещенной УК РФ. Так, М.А.
Кауфман отмечает, что "поскольку вопрос о субъектах расширительного толкования не нашел своего
отражения в законе, а точки зрения ученых на само это понятие и возможности его применения
расходятся, то фактически расширительное толкование по существу представляет собой скрытую
аналогию уголовного закона, им же и запрещенную" *(342). Подобной точки зрения придерживается и
С.Ф. Милюков, который считает, что "аналогия укрылась под личину так называемого расширительного
(или распространительного) толкования" *(343). С этой точкой зрения согласны 17% опрошенных нами
ученых *(344).
Другие авторы полагают, что распространительное толкование следует отличать от аналогии
закона, так как "распространительное толкование закона, раскрывая более глубоко его смысл,
предполагает распространение его на случаи, которые вытекают из данной нормы закона, охватываются
ею, находятся в ее границах, хотя и не следуют на первый взгляд с полной очевидностью из буквального
текста закона. Аналогия же означала применение санкции определенной нормы уголовного закона к
случаю, не предусмотренному в законе, но сходному по характеру и степени общественной опасности с
тем или иным преступлением" *(345).
Более приемлемой, на наш взгляд, является все же последняя точка зрения. Хотя отметим, что,
несмотря на существующие между этими понятиями различия, они очень схожи между собой. Так же, как
и аналогия закона, необходимость расширительного толкования вызвана не чем иным, как
существующими в УК РФ пробелами и недостатками. Однако отличаются способы их устранения. При
расширительном толковании происходит уяснение смысла закона и "распространение его на случаи,
которые буквальным текстом не охватываются (как в указанном выше примере с толкованием ч. 3 ст. 81
УК РФ. - Е.Ч.). Аналогия же закона есть применение закона к случаям, прямо не предусмотренным в
законе, но сходным с ним по характеру и степени общественной опасности" *(346). Так, с нашей точки
зрения, аналогия закона существует в настоящее время при применении ст. 78 УК РФ, в которой не
указано, что сроки давности, истекшие к моменту уклонения осужденного от уголовной ответственности,
подлежат зачету. Следовательно, для того чтобы восполнить данный пробел, мы вынуждены обратиться
к ч. 2 ст. 83 УК РФ, в которой содержится аналогичное положение.
Оба указанных примера свидетельствуют о низком качестве уголовного закона и о тех его
недостатках, которые должны быть устранены законодателем путем внесения изменений или
дополнений в УК РФ, а не путем их преодоления при каждом конкретном применении закона. Это может
привести к тому, что одна и та же уголовно-правовая норма будет применяться по-разному, в
зависимости от того, кто ее применяет. Чезаре Беккариа, рассматривая данную проблему, писал: "и
жизнь несчастного приносится в жертву выводов или мимолетных капризов судьи, который уверен в
правильности принимаемого им решения на основе хаотичных представлений, витающих в его мозгу"
*(347).
Каков же выход из сложившегося положения? 30,5% опрошенных нами ученых считают, что
расширительное толкование, так же как и аналогия закона, должно быть запрещено *(348). Более того,
13,5% респондентов согласны с мнением С.Г. Келиной и В.Н. Кудрявцева, которые предлагают (как было
указано нами выше) закрепить в новой ч. 3 ст. 3 УК РФ положение о том, что "содержание уголовного
закона следует понимать в точном соответствии с его текстом" *(349). Мы полагаем, что на данном этапе
такое дополнение принципа законности вполне оправданно, хотя и связано с рядом проблем. Все мы
понимаем, что наш УК РФ далек от идеала, большое количество его норм просто невозможно применить
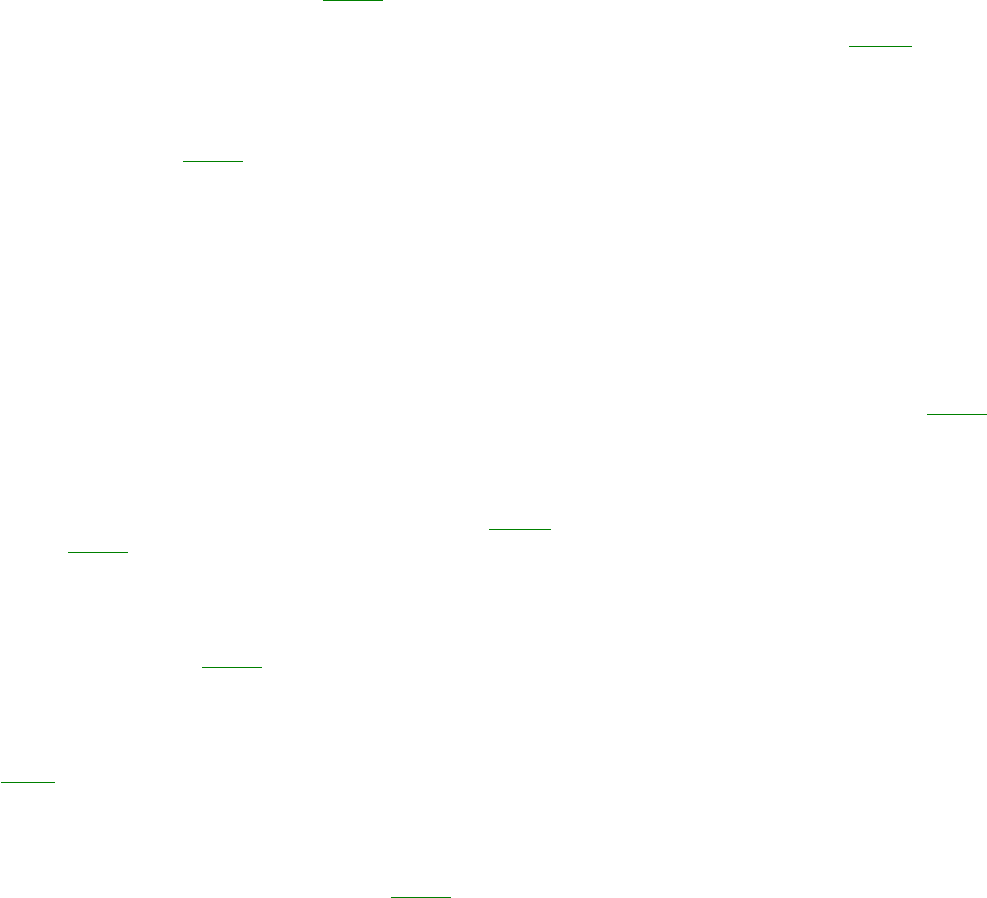
без использования расширительного или ограничительного толкования. Однако, с нашей точки зрения,
другим способом решить возникшую проблему не представляется возможным. Если в самом уголовном
законе будет указано на запрет применения расширительного или ограничительного толкования, то,
следовательно, все существующие проблемы и недостатки необходимо будет устранять только
законодательным путем. Таким образом, мы вслед за С.Г. Келиной и В.Н. Кудрявцевым видим
необходимость в дополнении ст. 3 УК РФ новой частью третьей, в которой было бы указано, что
"содержание уголовного закона следует понимать в точном соответствии с его текстом".
Есть в юридической литературе и иные точки зрения относительно изменения формулировки ст.
3 УК РФ. Так, по мнению В.В. Мальцева, ст. 3 УК РФ должна выглядеть следующим образом.
1. Содержание принципа законности образуют социально-правовые идеи равенства, гуманизма,
справедливости и вины, выраженные в уголовном законодательстве РФ через его принципы, нормы
Общей и Особенной частей. Только выраженные в настоящем Кодексе идеи признаются его
принципами.
2. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия
определяются только настоящим Кодексом.
3. Законодатель и суды РФ обеспечивают приоритет принципов настоящего Кодекса над
другими его понятиями и нормами *(350).
Первая часть, по мнению автора, основывается на том, что "принцип законности... является
формой выражения других принципов уголовного права в уголовном законодательстве" *(351). С этим
трудно не согласиться. Ранее мы уже говорили о том, что принцип законности в отличие от всех
остальных является формальным принципом и заключает в себе требования облекать те или иные
правила в юридическую форму. Однако из этого не следует, на наш взгляд, что его содержание
образуют иные принципы уголовного законодательства, так как это лишает данный принцип
самостоятельности *(352) и необходимости отдельного закрепления в нормах УК РФ.
Что же касается введения указанной выше ч. 3, то, с нашей точки зрения, это направлено
прежде всего на то, чтобы еще раз подчеркнуть важность закрепленных в УК РФ 1996 г. норм-принципов.
Но, учитывая тот факт, что принципы и так являются основными положениями Кодекса и в силу своей
специфики имеют приоритет над другими его понятиями и нормами, мы полагаем, что предложение В.В.
Мальцева выглядит несколько излишним. Хотя мы и не можем не констатировать тот факт, что, к
сожалению, требования принципов уголовного законодательства не всегда соблюдаются как
законодательными, так и правоприменительными органами. Однако предложенный В.В. Мальцевым
вариант вряд ли улучшит сложившуюся ситуацию.
Несколько схожее предложение вносит Д.В. Кияйкин. По его мнению, ст. 3 УК РФ необходимо
дополнить нормой следующего содержания: "Изменения и дополнения в настоящий Кодекс могут быть
внесены при отсутствии в них противоречий принципам уголовного права Российской Федерации" *(353).
Эта норма также представляется нам избыточной.
В свою очередь, Ю.Е. Пудовочкин и С.С. Пирвагидов предлагают в качестве ч. 1 ст. 3 УК РФ
закрепить следующее положение: "Уголовный кодекс Российской Федерации основывается на
Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и
международных договорах Российской Федерации" *(354). Этой точки зрения придерживаются и другие
авторы *(355).
В то же время есть и противоположные мнения. Так, Н.А. Лопашенко пишет: что касается
правовых требований о приоритете международного уголовного права и подконституционности
уголовного закона, то "они действительно лежат в основе принципа законности, но в то же время они
относятся не только и не столько к принципу законности, сколько к уголовному закону в целом; это его
обязательные черты" *(356).
Эта точка зрения представляется нам более приемлемой, учитывая и тот факт, что на
сегодняшний день рассматриваемое положение вполне обоснованно содержится в ч. 2 ст. 1 УК РФ.
Более того, И.Э. Звечаровский предлагает дополнить ст. 3 УК РФ, указав, что "уголовное
наказание применяется только за преступление и в порядке, установленном настоящим кодексом"
*(357). Это, по его мнению, позволит, "во-первых, ориентировать законодателя на недопустимость
установления равнозначных мер ответственности за преступления и за деяние, не являющиеся
таковыми, в различных отраслевых нормативных актах; во-вторых, исключить возможность применения
мер, равнозначных уголовному наказанию, иными субъектами, чем суд; в-третьих, исключить
предусмотренную самим УК РФ возможность назначения более строгого уголовного наказания за
деяния, не являющиеся преступлениями" *(358).
На наш взгляд, в целом автор дублирует положение, закрепленное в ст. 43 УК РФ, в котором
содержатся признаки наказания, а именно - то, что оно применяется только к лицу, признанному
виновным в совершении преступления, а не иного деяния, и назначается только по приговору суда и др.
Кроме того, трудно представить, как предложенное изменение ст. 3 УК РФ может "ориентировать
законодателя на недопустимость установления равнозначных мер ответственности за преступления и за
деяние, не являющиеся таковыми, в различных отраслевых нормативных актах".
В то же время нельзя не признать, что указанное дополнение может быть вполне оправданно,

так как оно призвано решить серьезную проблему, существующую в настоящее время в уголовном
законе и не получившую достаточного освещения в юридической литературе. Речь идет о том, как
справедливо отмечает И.Э. Звечаровский, что сейчас в самом УК РФ предусмотрена возможность
назначения более строгого уголовного наказания за деяния, не являющиеся преступлениями. Это
происходит в тех случаях, когда назначенное судом наказание заменяется более строгим вследствие
того, что лицо уклоняется от его исполнения *(359): ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50 и ч. 4 ст. 53 УК РФ.
Это действительно противоречит как принципу законности, так и ст. 43 уголовного закона. Автор
предлагает два выхода из сложившейся ситуации: исключение из текста закона положений,
закрепленных в указанных статьях, или же введение нового состава по аналогии со ст. 315 УК РФ *(360).
Есть и иные точки зрения. Д.И. Гондарь и Ф.Б. Гребенкин полагают, что необходимо внести
соответствующие изменения в саму ст. 315 УК РФ, касающиеся расширения субъектного состава,
который не должен ограничиваться только специальным субъектом. Авторы пишут: "...с целью
повышения авторитета судебных органов и удовлетворения материальных и моральных интересов
граждан, защищенных судебным решением, ч. 1 ст. 315 УК РФ должна предусматривать уголовную
ответственность за злостное неисполнение судебных актов физическими лицами, частными
предпринимателями и иными лицами, не являющимися ответственными за исполнение судебных актов в
государственных учреждениях и органах, органах местного самоуправления, в коммерческих и иных
организациях, а также в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Российской
Федерации" *(361).
Нам представляется, что последняя точка зрения выглядит более убедительной, что
подтверждается также результатами проведенного нами анкетирования по этому вопросу. Так, 84%
опрошенных работников правоохранительных органов согласны с тем, что следует расширить сферу
действия ст. 315 УК РФ, установив уголовную ответственность за совершение данного преступления не
только в отношении специального субъекта (как в действующей редакции), но и в отношении любого
физического лица *(362). Таким образом, можно будет исключить из УК РФ те нормы (ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст.
49, ч. 4 ст. 50 и ч. 4 ст. 53), которые на данный момент противоречат принципу законности, и при этом
отпадет необходимость в изменении формулировки данного принципа.
На наш взгляд, ст. 315 УК РФ могла бы выглядеть следующими образом.
1. Злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного
судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению - наказывается...
2. То же деяние, совершенное представителем власти, государственным служащим, служащим
органа местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учреждения,
коммерческой или иной организации - наказывается...
Подводя итог всему сказанному, мы считаем, что можно предложить такую редакцию ст. 3 УК
РФ:
Статья 3. Принцип законности
1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия
определяются только настоящим Кодексом, за исключением случаев, прямо указанных в нем.
2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.
3. Содержание уголовного закона следует понимать в точном соответствии с его текстом.
§ 2. Принцип равенства граждан перед законом
Принцип равенства закреплен в ст. 4 УК РФ и гласит, что "лица, совершившие преступления,
равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств". Данная норма является реализацией конституционного принципа равенства,
закрепленного в ст. 19 Конституции РФ и, следовательно, не должна ему противоречить. Однако это не
совсем так.
В отличие от ст. 19 Основного закона, в которой указывается, что "все равны перед законом и
судом", в ст. 4 УК РФ говорится только о равенстве граждан перед законом. Возникает вопрос: насколько
это обосновано? В юридической литературе существуют различные точки зрения.
Например, С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев отмечают, что "это различие не является случайным,
оно отражает своеобразие регулирования общественных отношений материальным уголовным законом,
который не касается процессуальных прав граждан при осуществлении правосудия. Комментируемая
статья имеет в виду, если можно так выразиться, "уголовно-правовой аспект" равенства граждан, т.е.
равенство привлечения к уголовной ответственности в случае совершения кем бы то ни было деяния,
содержащего признаки преступления" *(363). Такого же мнения придерживается и И.Э. Звечаровский
*(364).
Полагаем, что при решении данного вопроса необходимо отталкиваться прежде всего от сферы
действия принципов уголовного законодательства, которая, как мы уже писали ранее, распространяется

и на законодательный, и на правоприменительный процесс.
Применение права - это одна из форм государственной деятельности, направленная на
реализацию правовых предписаний в жизнь *(365). По мнению А.В. Наумова, применение норм
уголовного закона, т.е. норм, определяющих преступность и наказуемость деяний, - это исключительная
прерогатива государства *(366). В свою очередь, В.В. Мальцев справедливо отмечает, что
"правоприменительный аспект в силу ч. 1 ст. 49 Конституции реализуется только судом. Отсюда, указав
в ст. 4 УК на равенство граждан перед законом, законодатель должен был бы упомянуть и об их
равенстве перед судом" *(367). В противном случае может возникнуть подозрение, что такая
формулировка есть не что иное, как законодательное оправдание существующего на практике
неравенства при применении тех или иных уголовно-правовых норм.
Анализируя утверждение о том, что равенство перед судом носит в большей степени уголовно-
процессуальный характер, следует сказать о том, что, как известно, уголовное (материальное) и
уголовно-процессуальное право тесно связаны между собой. И при привлечении лица, совершившего
преступление, к уголовной ответственности суд применяет уголовно-правовые нормы, но действует в
рамках порядка, установленного уголовно-процессуальными нормами. И в том, и в другом случае суд
обязан обеспечивать равные права и обязанности, независимо от каких-либо обстоятельств.
Следующее несоответствие норме Основного закона, на которое не раз обращали внимание
исследователи, состоит в том, что в Конституции РФ говорится о равенстве прав и свобод человека и
гражданина, а в названии ст. 4 УК РФ упоминаются только граждане. И.Э. Звечаровский пишет:
"...название ст. 4 УК РФ противоречит не только Конституции РФ, но и реалиям уголовно-правового
регулирования. Дело в том, что в качестве потенциальных субъектов преступления (субъектов,
способных нести уголовную ответственность) по российскому уголовному законодательству выступают
не только граждане, но и лица без гражданства и иностранные граждане. Поэтому слово "граждане" из
названия рассматриваемой статьи вообще следует исключить" *(368). Отметим, что такое предложение
было высказано в Модельном уголовном кодексе для государств - участников СНГ, где ст. 6 называется
"Равенство перед законом". По этому же пути пошли Республика Таджикистан и Азербайджанская
Республика *(369).
Однако мы полагаем, что есть все основания по аналогии с другими принципами
сформулировать название ст. 4 УК РФ еще более лаконично как "принцип равенства", без каких-либо
дополнений и уточнений, которые должны быть даны в тексте статьи.
Далее, продолжая тему, нельзя не остановиться еще на одном моменте. По мнению Н.Ф.
Кузнецовой, "толкование текста данной статьи в соответствии с ее заголовком должно быть
расширительным.... Все участники уголовно-правовых отношений - лица, совершившие преступления,
потерпевшие, лица, исполняющие и применяющие законы, - обязаны следовать принципу равенства
граждан перед законом" *(370).
В связи с этим некоторые авторы предлагают внести в ст. 4 УК РФ соответствующие изменения.
Например, И.Г. Набиев указывает на необходимость дополнения данной уголовно-правовой нормы
частью второй следующего содержания: "потерпевшие от преступления имеют равное право требовать
привлечения виновного к уголовной ответственности и на возмещение причиненного им вреда" *(371).
Прежде всего следует отметить, что, к сожалению, на сегодняшний день права, свободы и
законные интересы потерпевших, нарушенные преступлением, остаются за пределами сферы действия
УК РФ. Это связано в большей степени с широко распространенной в теории уголовного права точкой
зрения на субъектов уголовно-правовых отношений, которыми, по мнению целого ряда авторов,
являются, с одной стороны, лицо, совершившее преступление, а с другой - государство *(372). О
потерпевшем же говорят "как о субъекте общественных отношений, нарушенных преступлением, либо
как об одушевленном предмете преступления" *(373).
Несмотря на это, мы не можем согласиться с изменениями, предлагаемыми И.Г. Набиевым. Во-
первых, не совсем понятно в анализируемом дополнении следующее положение: "имеют равное право
требовать привлечения виновного к уголовной ответственности". В соответствии со ст. 20 УПК РФ
существуют дела частного, частнопубличного и публичного обвинения. В двух первых вариантах
уголовные дела возбуждаются по заявлению потерпевшего, но и в этих случаях окончательное решение
принимает следователь или прокурор. Во-вторых, в настоящее время вопросы возмещения вреда,
причиненного преступлением, решаются в рамках не уголовных, а гражданско-правовых отношений, так
как в УК РФ нет для этого соответствующих нормативных предписаний. Поэтому даже если
предлагаемое автором дополнение и найдет свое закрепление в УК РФ, то выполнение его требований
будет невозможным. Для того чтобы такого рода норма начала действовать, необходимо кардинальное
изменение статуса потерпевшего в уголовном праве, а следовательно, и изменение целого ряда статей
уголовного закона *(374).
Таким образом, указание в настоящее время в ст. 4 УК РФ только на лиц, совершивших
преступления, является отражением специфики современного уголовного закона, а также
особенностями проявления конституционного принципа равенства в отраслевом законодательстве.
Следовательно, необходимо согласиться с Н.А. Лопашенко, которая отмечает: несмотря на то, что в
тексте ст. 4 УК РФ отмечен только один аспект реализации принципа равенства - равенство лиц,

совершивших преступление, этот принцип "в уголовном праве в отношении всех других категорий
граждан должен применяться в том объеме, в котором он сформулирован в Конституции РФ" *(375).
Далее, рассматривая уголовно-правовой принцип равенства, следует обратить внимание на то,
что его суть сводится к равной обязанности лиц, совершивших преступления, подлежать уголовной
ответственности, независимо от перечисленных в статье обстоятельств. Хотя с такой формулировкой
согласны не все авторы. В юридической литературе есть мнение, что "в отношении лиц, совершивших
преступление, речь должна идти только о том, что все они равны в своей обязанности предстать перед
уголовным законом и подвергнуться предусмотренному в нем воздействию.... говорить о равной
обязанности нести уголовную ответственность - неверно, поскольку это означает игнорирование фактов
законного освобождения от уголовной ответственности" *(376).
На наш взгляд, существо проблемы в данном случае состоит в том, что вслед за законодателем
многие авторы объединяют принцип равенства и принцип неотвратимости уголовной ответственности в
один. Так, Т.В. Кленова указывает на то, что принцип равенства граждан перед законом "прежде всего
предполагает равенство оснований для уголовной ответственности и ее неотвратимость" *(377).
Действительно, трудно не согласиться с тем, что рассматриваемые принципы тесно связаны
между собой. Однако мы полагаем, что каждое из этих основных положений УК РФ имеет
самостоятельное значение, а следовательно, принцип неотвратимости уголовной ответственности
необходимо сформулировать в отдельной норме, тем самым подчеркнув важность данного положения
для уголовного законодательства. Нельзя не принимать во внимание тот факт, что четко закрепленные в
тексте нормативно-правового акта принципы "оказывают значительное информационное,
ориентационное и регулятивное воздействие на сознание и поведение людей" *(378). По мнению С.Г.
Келиной и В.Н. Кудрявцева, "граждане лучше знают не конкретные уголовно-правовые нормы, а общие
положения и правовые принципы" *(379).
Мы полагаем, что в рамках данного параграфа следует сформулировать принцип
неотвратимости уголовной ответственности, который, по нашему мнению, и на это было указано ранее,
является неотъемлемой частью системы принципов уголовного законодательства.
Итак, в юридической литературе предлагаются различные варианты редакции данного
принципа.
П.А. Фефелов считает, что общее понятие неотвратимости наказания как принципа заключается
в "неуклонном осуществлении требований уголовного законодательства о своевременном и полном
раскрытии каждого преступления с тем, чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут
справедливому наказанию в целях предупреждения новых преступлений как лицом, его совершившим,
так и другими лицами" *(380).
Е.В. Благов указывает, что "принцип неотвратимости в уголовном праве выражается в том, что
каждый совершивший общественно опасное деяние, по уровню общественной опасности
соответствующее общественной опасности преступлений, должен подпасть под соответствующее
воздействие органов государства, компетентных в наложении мер взыскания" *(381).
Н.Ф. Кузнецова пишет, что рассматриваемый принцип состоит из двух аспектов: "1. Лицо,
совершившее преступление, подлежит наказанию или иным мерам воздействия, предусмотренным
Уголовным кодексом; 2. Освобождение от уголовной ответственности и наказания возможно только при
наличии оснований и условий, предусмотренных законом" *(382).
С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев полагают, что принцип неотвратимости ответственности должен
быть закреплен в уголовном законе в следующем виде: "(1) Всякое лицо, в действиях или бездействиях
которого установлен состав преступления, подлежит наказанию или иным мерам воздействия,
предусмотренных уголовным законом. (2) Никто не может дважды нести уголовную ответственность за
одно и то же преступление" *(383).
Прежде всего мы должны определиться, о неотвратимости уголовной ответственности или о
неотвратимости наказания мы будем говорить. Н.Ф. Кузнецова отмечает, что "более точное содержание
данного принципа заключается в неотвратимости именно уголовной ответственности, т.е. привлечения к
ней каждого виновного лица за каждое совершенное им преступление. Наказание может не последовать
на законных основаниях освобождения от него. Обязательно должно привлекаться к уголовной
ответственности каждое совершившее преступление лицо" *(384). И с этим трудно не согласиться.
Наказание является одной из форм реализации уголовной ответственности *(385), причем
наиболее суровой. Однако, учитывая степень и характер общественной опасности преступления,
личность виновного, состояние его здоровья, а также другие обстоятельства, назначение наказания не
всегда является целесообразным и возможным, иногда достаточно самого факта осуждения. Так, В.Д.
Иванов полагает, что "значение института освобождения от наказания определяется прежде всего тем,
что он способствует быстрейшей ресоциализации преступника при одновременной экономии мер
уголовной репрессии. Наличие анализируемого института свидетельствует также о гуманизме
российского уголовного права" *(386).
Таким образом, мы считаем, что применительно к области уголовного права необходимо
говорить о неотвратимости именно уголовной ответственности, т.е. в части первой предполагаемой
нами статьи следует закрепить положение о том, что лицо, совершившее преступление, подлежит
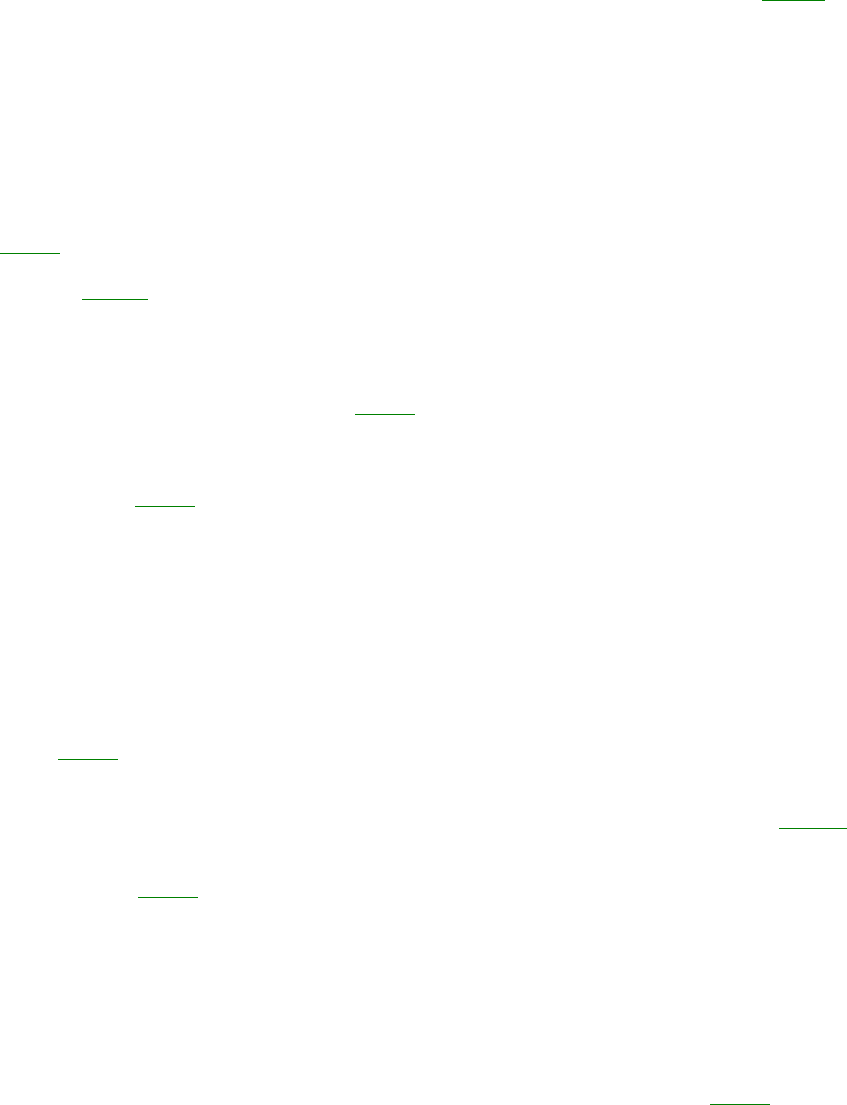
уголовной ответственности.
Безусловно, мы понимаем, что невозможно достигнуть абсолютной неотвратимости уголовной
ответственности. И это объясняется не только тем, что невозможна 100-процентная раскрываемость
преступлений, но и наличием других обстоятельств, свидетельствующих, что лицо, совершившее
преступление, утратило свою прежнюю общественную опасность в силу ряда факторов, указанных в
уголовном законе, таких как, например, деятельное раскаяние (ст. 75 УК РФ), примирение с
потерпевшим (ст. 76 УК РФ), истечение сроков давности (ст. 78 УК РФ) и т.д. Именно существование
указанных выше норм, по мнению некоторых авторов, является основной преградой на пути
законодательного закрепления принципа неотвратимости уголовной ответственности.
В.Д. Филимонов указывает на то, что "действующий УК РФ разграничивает две группы
преступлений, из которых одна (наибольшая) не допускает освобождения от уголовной ответственности
по нереабилитирующим обстоятельствам, а другая - допускает. Это дает нам право считать, что первая
из них охватывается принципом неотвратимости уголовной ответственности, а вторая - нет" *(387). В
какой-то степени В.Д. Филимонов прав, однако в этом случае неотвратимость уголовной
ответственности не соответствует понятию принципа, так как принцип не может действовать "не в
полном объеме", его действие должно распространяться на все нормы уголовного закона.
Попробуем подойти к решению этой проблемы с другой стороны, т.е. найти обоснование
законодательного закрепления норм, освобождающих лиц, совершивших преступления, от уголовной
ответственности.
Х.Д. Аликперов предлагает относить такие нормы к "компромиссным", т.е. к таким, которые, по
его мнению, гарантируют лицу, совершившему преступление, освобождение от уголовной
ответственности или смягчение наказания в обмен на совершение таким лицом поступков,
определенных в законе и обеспечивающих реализацию основных задач уголовно-правовой борьбы с
преступностью *(388). Нам представляется, что эта точка зрения заслуживает внимания.
Задачи УК РФ, которые Б.Т. Разгильдиев рассматривает как определенный "социально
позитивный результат" *(389), не всегда могут быть осуществлены именно с привлечением лица к
уголовной ответственности. Так, по мнению А.А. Магомедова, в деле выполнения такой важной задачи,
как предупреждение преступлений, важную роль играет применение в том числе норм о деятельном
раскаянии виновного, так как они "призваны создать реальные предпосылки для предотвращения
начатых преступлений, уменьшения или предотвращения общественно опасных последствий
(преступного результата) оконченных преступлений" *(390).
Необходимо отметить, что появление норм, связанных с освобождением от уголовной
ответственности, как пишут Н.Е. Крылова и Ю.М. Ткачевский, является тенденцией, наметившейся в
начале ХХ в., которую многие современные государства рассматривают как одну их эффективных форм
воздействия на преступность *(391).
Таким образом, следует согласиться с теми авторами, которые считают, что принцип
неотвратимости уголовной ответственности включает в себя два аспекта: во-первых, лица,
совершившие преступления, подлежат уголовной ответственности; а во-вторых, возможно
освобождение от уголовной ответственности при наличии оснований и условий, прямо предусмотренных
в УК РФ. Второе из положений можно рассматривать как исключение из данного принципа или как его
составляющий элемент (что более предпочтительно), без которого невозможно достижение задач
уголовного законодательства.
Кроме того, исходя из такого признака системы принципов уголовного законодательства, как
целостность, суть которого заключается во взаимосвязи принципов, основания освобождения от
уголовной ответственности прямо закреплены в уголовном законе, что в полной мере соответствует
принципу законности *(392).
Таким образом, мы полагаем, для того чтобы существование и дальнейшее применение таких
оснований не вызывало споров, необходимо указать непосредственно в норме, закрепляющей принцип
неотвратимости уголовной ответственности, как это и было предложено Н.Ф. Кузнецовой *(393),
положение о том, что освобождение от уголовной ответственности возможно, но только при наличии
оснований и условий, предусмотренных в УК РФ. С этим согласны 44,9% опрошенных работников
правоохранительных органов *(394).
Еще одним проявлением принципа неотвратимости уголовной ответственности в уголовном
законе, как мы уже указывали выше, является положение о том, что "никто не может нести уголовную
ответственность дважды за одно и то же преступление", которое на сегодняшний день является
составным элементом принципа справедливости, закрепленного в ст. 6 УК РФ.
Следует отметить, что ч. 2 ст. 6 УК РФ не в полной мере совпадает с ч. 1 ст. 50 Конституции РФ,
в которой указывается, что "никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление". Такое
разногласие вызвало спор в юридической литературе.
Так, Ю.Е. Пудовочкин и С.С. Пирвагидов считают, что норма Конституции РФ "более точно
определяет момент возникновения уголовной ответственности и субъекта ее возложения" *(395).
По мнению А.И. Бойко, употребляемый в УК РФ "модальный глагол неудачен, он оставляет
вероятность повторного преследования в силу обязательности, а равно с согласия или по просьбе
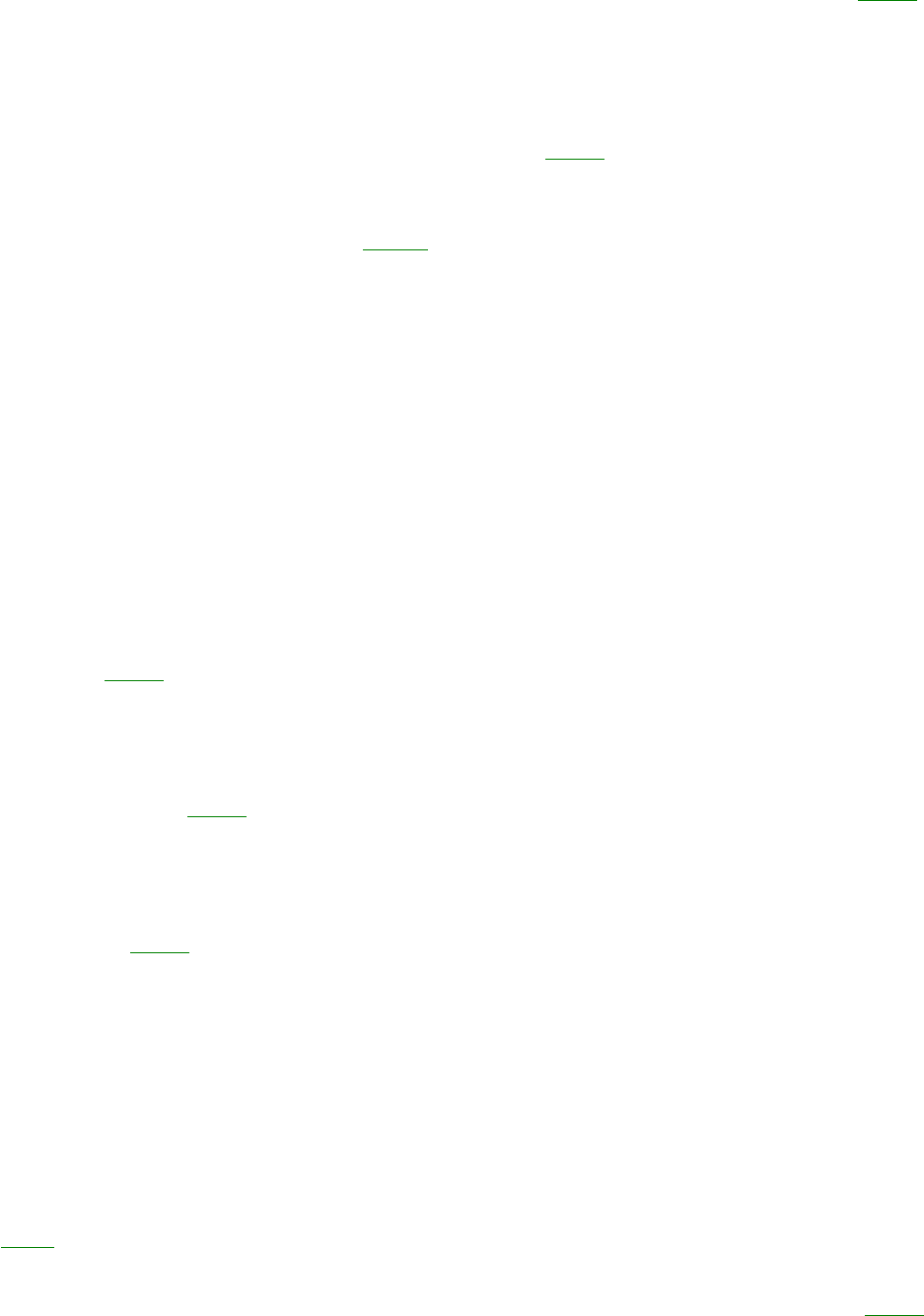
виновного. Стилистически точнее формула принципа должна быть выражена следующим образом:
недопустимо возложение уголовной ответственности дважды за одно и то же преступление" *(396).
В.В. Мальцев отмечает, что "в тексте ч. 2 ст. 6 УК должна быть отражена обязанность
законодателя по исключению всякой возможности появления уголовно-правовых норм, не отвечающих
требованиям упомянутого конституционного и международно-правового правила справедливости,
постоянному улучшению в этом плане действующих норм УК. Тогда со временем можно ожидать, что
все существующие огрехи и недостатки Уголовного кодекса будут устранены, права и интересы граждан
еще надежнее защищены, а каждый приговор суда и каждое назначаемое виновному наказание будут
соответствовать принципам справедливости и законности" *(397).
На наш взгляд, и конституционная норма, и ч. 2 ст. 6 УК РФ преследуют одни и те же цели,
кроме того, их содержание в целом совпадает. Однако следует согласиться с В.В. Мальцевым, который
считает, что проблемы уголовно-правового определения состоят в использовании в формулировке
термина "уголовная ответственность" *(398), который до сих пор как в теории, так и на практике
понимается неоднозначно.
Таким образом, исходя в большей степени из практических соображений и с целью устранения
возможных проблем, связанных с неоднозначным пониманием уголовной ответственности, думаем, что
формулировка, предложенная в ч. 1 ст. 50 Конституции РФ, является более приемлемой.
Подводя итог сказанному, полагаем, что в УК РФ должен быть закреплен принцип
неотвратимости уголовной ответственности в следующей редакции.
Статья 5. Принцип неотвратимости уголовной ответственности
1. Лицо, совершившее преступление, подлежит уголовной ответственности.
2. Освобождение от уголовной ответственности возможно только при наличии оснований и
условий, предусмотренных в настоящем Кодексе.
3. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.
Таким образом, в связи с тем что мы вводим в систему принципов уголовного законодательства
новый принцип неотвратимости уголовной ответственности, редакция существующего принципа
равенства должна быть изменена. С нашей точки зрения, в соответствующей статье должно быть
указано только на то, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и судом независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств. Схожее определение принципа равенства содержится в УК Республики
Узбекистан *(399).
В определенной степени эта норма дублирует положение ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. А по
мнению В.В. Мальцева, "конституционные нормы не следует воспроизводить в отраслевом
законодательстве. Это, во-первых, едва ли укрепляет целостность Конституции, а во-вторых, излишне -
Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие. Наконец, в-третьих, заимствование
содержания отдельных ее норм до конца не разрешает проблемы выражения принципа равенства перед
уголовным законом" *(400).
Иной точки зрения придерживаются в своей работе С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев. Авторы пишут:
"что касается соотношения со статьями Конституции, то нужно отметить, что действие конституционных
положений предполагает не только непосредственное (прямое) воздействие на общественные
отношения, но и воздействие через нормы отраслевого законодательства. Следовательно, принцип
равенства, выделяемый в уголовном праве, является не повторением, а реализацией конституционного
положения...." *(401).
Трудно не согласиться с тем, что практически все отраслевые и межотраслевые принципы
являются производными от общеправовых и иногда частично их формулировки совпадают. Но, во-
первых, следует принимать во внимание тот факт, что уголовное право - это как раз та отрасль, которая
в большей степени связана с ограничением и лишением человека прав и свобод. И мы не считаем
лишним такого рода "дублирование" положения Конституции РФ в нормах УК РФ. А во-вторых, речь идет
об основе, фундаменте уголовного законодательства. И так как система принципов уголовного
законодательства представляет собой единое целое, а принцип равенства является ее неотъемлемым
элементом, то, следовательно, он должен быть закреплен, так же как и другие принципы, в гл. 1 УК РФ.
Кроме того, предлагаемая редакция принципа равенства позволяет расширить рамки его
действия. В юридической литературе не раз указывалось на то, что применительно к уголовной
ответственности принцип равенства действует очень ограничено, "одно из его главных проявлений - для
всех лиц, совершивших преступление, установлено единое основание уголовной ответственности...."
*(402). В.В. Мальцев также указывает на то, что "действительная реализация принципа равенства
предполагает не только равную уголовную ответственность за совершение одинаковых по
общественной опасности преступлений, но и равные возможности граждан на освобождение от
уголовной ответственности при совершении ими тождественных по опасности преступлений" *(403).
Таким образом, мы предлагаем сформулировать в УК РФ принцип равенства следующим
образом.
Статья 7. Принцип равенства
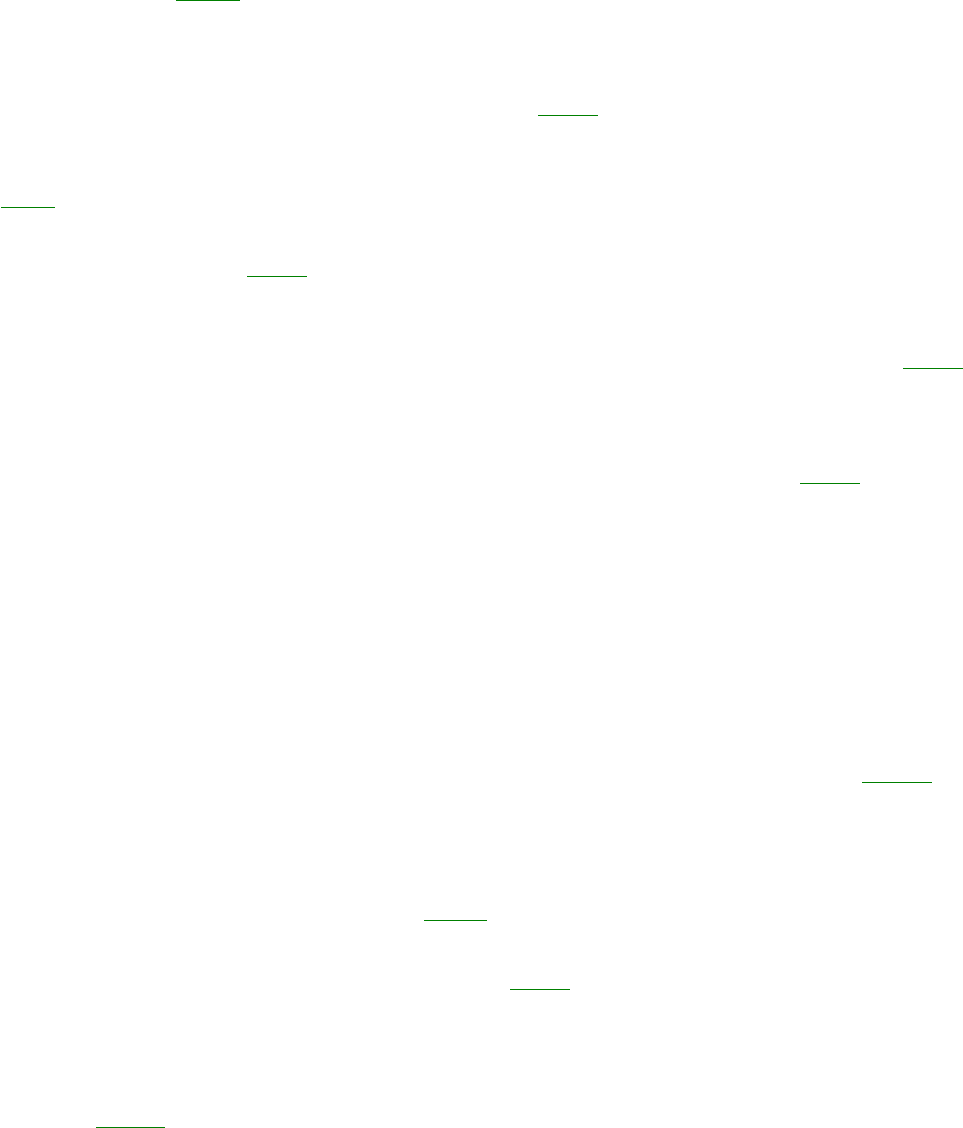
Лица, совершившие преступления, равны перед законом и судом независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств.
§ 3. Принцип вины
Статья 5 УК РФ посвящена принципу вины и состоит их двух частей: "1. Лицо подлежит
уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие
общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 2. Объективное
вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается".
Н.А. Лопашенко пишет, что принцип вины является "центральным принципом уголовного
законодательства" *(404). Однако в юридической литературе достаточно часто обсуждается вопрос о
необходимости его законодательного закрепления.
Так, В.В. Мальцев полагает, что "само же по себе указание на возможность уголовной
ответственности только за виновно совершенное общественно опасное деяние и виновно причиненные
общественно опасные последствия лишь дублирует положения ст. 8 и ч. 1 ст. 24 УК и ничего нового,
содержательного в понимании принципа вины не вносит" *(405).
По мнению А.И. Плотникова, "формула "вина - психическое отношение" не увязывается и со
статусом принципа в уголовном праве, так как становится неясным, почему вина (как элемент состава) -
принцип, а другие столь же необходимые элементы (объект, субъект и т.д.) принципами не являются"
*(406).
В.Ф. Щепельков указывает на то, что этот принцип "полностью воспроизводится в ст. 14 УК....
Поэтому наличие данной нормы в УК обусловлено исключительно содержательными, а точнее уголовно-
политическими мотивами" *(407).
В.Д. Филимонов отмечает, что "во-первых, принцип вины оказался оторванным от основания
уголовной ответственности, в то время как вина является элементом состава преступления, т.е.
составной частью основания уголовной ответственности; во-вторых, выделение принципа вины в
самостоятельный принцип привело к гипертрофированию субъективной стороны преступления" *(408).
В какой-то мере можно согласиться со всеми приведенными выше точками зрения. Хотя следует
сказать, что само закрепление принципа вины в УК РФ, несмотря на существующие недостатки его
законодательной регламентации, безусловно, является одним из достижений уголовно-правовой науки.
В.В. Мальцев указывает на то, что законодательное определение принципа вины "полезно в первую
очередь как инструмент совершенствования и применения уголовно-правовых норм" *(409).
Прежде всего необходимо отметить, что уголовно-правовой принцип вины является
своеобразным проявлением в уголовном праве презумпции невиновности, закрепленной в ст. 49
Конституции РФ. Как следствие этого, УК РФ построен таким образом, что лицо, совершившее
преступление, несет за него уголовную ответственность только в том случае, если это деяние
совершено виновно. Следовательно, ответственность лица только за деяния, совершенные виновно,
является основополагающим положением уголовного закона, как впрочем и некоторых ранее
действовавших уголовно-правовых актов, и вполне, на наш взгляд, соответствует статусу принципа
уголовного законодательства.
Указание на то, что существование принципа вины приводит к "гипертрофированию
субъективной стороны преступления", на наш взгляд, нельзя оценивать однозначно. С одной стороны,
мы полагаем, что среди элементов состава преступления нет более или менее важных, так как все они
выполняют предписанные им функции. С другой стороны, по нашему мнению, В.Д. Филимонов
отождествляет такие понятия, как "принцип вины" и "вина", что не совсем верно *(410). Нам
представляется, что эти понятия нельзя сравнивать друг с другом, так как они находятся в разных
плоскостях. Так, принцип вины представляет собой основное положение уголовного закона, которое
состоит в том, что "лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные
действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых
установлена его вина". В свою очередь, вина "представляет собой психическое отношение субъекта к
совершенному деянию и его последствиям" *(411) и является обязательным элементом субъективной
стороны состава преступления. Закрепление принципа вины не гипертрофирует значение
рассматриваемого элемента, так как речь идет о разных явлениях. Такой подход к рассматриваемой
проблеме разделяют 81,7% опрошенных нами ученых *(412).
Также нельзя безоговорочно согласиться с мнением В.В. Мальцева о том, что "указание на
возможность уголовной ответственности только за виновно совершенное общественно опасное деяние и
виновно причиненные общественно опасные последствия лишь дублирует положения ст. 8 и ч. 1 ст. 24
УК". Как указывает Е.А. Лукашева, "в любом случае полное содержание и значение всякого правового
принципа раскрывается во всех тех положениях права, которые испытывают на себе влияние данного
принципа" *(413). Мы полагаем, что есть все основания говорить о том, что приведенные В.В.
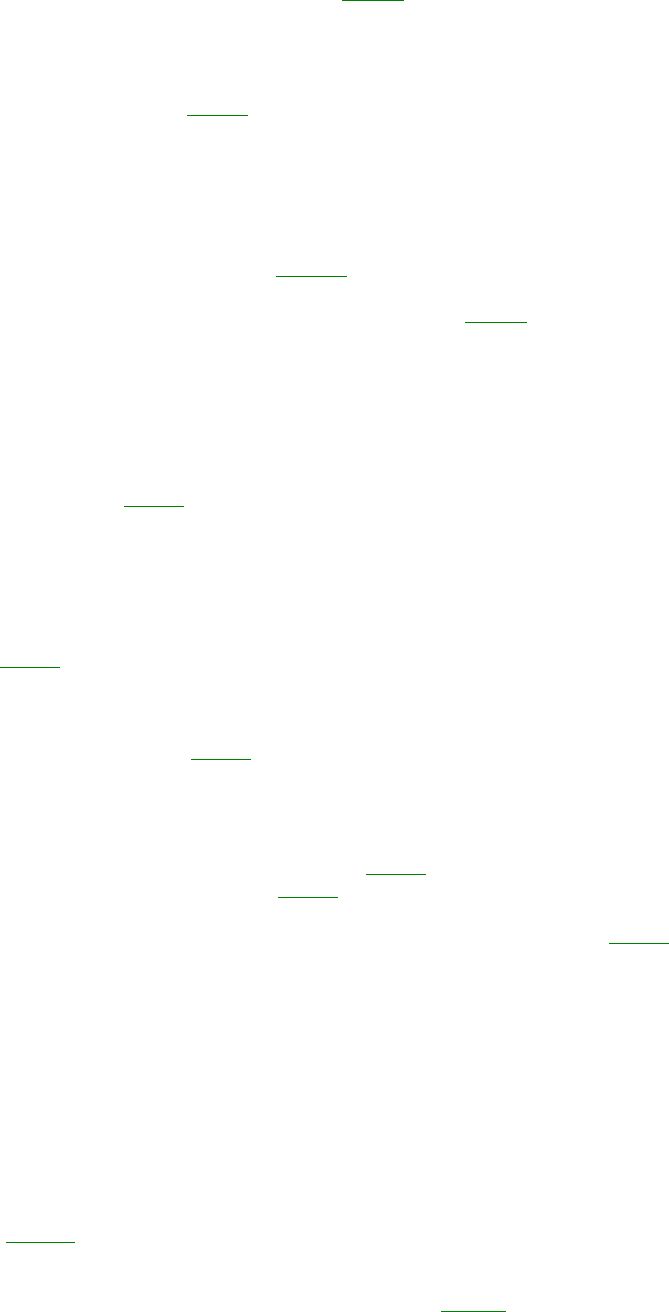
Мальцевым нормы уточняют положения ст. 5 УК РФ, а не наоборот.
Еще одним доводом, который, по мнению В.В. Мальцева, выступает против выражения
принципа вины в УК РФ, является то, что определение содержания данного принципа в законе может
оказаться и неполным, и противоречащим нормам гл. 5 УК РФ *(414). Но, на наш взгляд, в этом случае
следует говорить не столько о проблеме необходимости законодательного закрепления, сколько о
недостатках нормотворческой деятельности при описании тех или иных уголовно-правовых норм. Как
справедливо отмечает Н.А. Лопашенко, "по правилам законодательной техники одинаковые термины
должны в пределах УК или хотя бы в пределах его крупных составных образований (Общей или
Особенной частей) трактоваться одинаково...." *(415). Следовательно, положения ст. 5 УК РФ и гл. 5 УК
РФ должны представлять собой единое целое и не противоречить друг другу.
Таким образом, мы полагаем, что нет оснований для исключения принципа вины из системы
принципов уголовного законодательства. Более того, как указывают в своей работе В.Н. Кудрявцев и
С.Г. Келина, именно на установление признаков субъективной стороны приходится наибольшее число
ошибок уголовно-правового характера. Поэтому, по мнению авторов, возведение положений о виновной
ответственности в число принципов уголовного права направлено на обеспечение точного соблюдения
уголовного закона правоприменительными органами *(416). Так, несмотря на то что в своих
постановлениях Верховный Суд не раз обращал внимание на необходимость установления по каждому
уголовному делу формы вины, мотивов и целей совершения преступления *(417), суды при вынесении
приговоров допускают ошибки, касающиеся субъективной стороны. Например, приговором
Тимирязевского районного суда г. Москвы от 27 декабря 2001 г. Орлов был осужден по ч. 1 ст. 105, ч. 3
ст. 213 УК РФ. Верховный Суд РФ в порядке надзорного производства, рассмотрев материалы дела,
указал на то, что "исследованные доказательства не подтверждают наличие у Орлова прямого умысла
на совершение грубого нарушения общественного порядка и проявление неуважения к обществу при
производстве им из охотничьего ружья выстрелов в сторону машины потерпевшего и его друзей. При
таких обстоятельствах нельзя признать осуждение Орлова по ч. 3 ст. 213 УК РФ обоснованным, и
приговор в этой части подлежит отмене" *(418).
Что же касается недостатков законодательной регламентации данного принципа, то мы
полностью согласны с тем, что они существуют и избежать их при формулировании того или иного
принципа достаточно сложно. Прежде всего начнем с названия ст. 5 УК РФ.
Следует отметить, что, например, в УК Республики Узбекистан этот принцип получил название
"принцип виновной ответственности", в УК Республики Таджикистан - "принцип личной ответственности и
виновности", а в Модельном Уголовном кодексе для государств - участников СНГ - "принцип личной
виновной ответственности" *(419).
Нам представляется, что прежде всего необходимо определиться с тем, как соотносятся между
собой понятия "вина" и "виновность". По этому вопросу в юридической науке до настоящего времени
ведется дискуссия, которая, по мнению И.М. Тяжковой, "несправедливо и необоснованно была названа
схоластичной и оторванной от реальной жизни" *(420).
Некоторые авторы полагают, что понятия "вина" и "виновность" следует различать. Так, Т.Л.
Сергеева указывала, что виновность представляет собой совокупность объективных и субъективных
обстоятельств, обосновывающих применение к лицу конкретного наказания, следовательно, термином
"виновность" необходимо пользоваться для обозначения общего основания уголовной ответственности,
а термином "вина" - для обозначения субъективного ее основания *(421).
По мнению П.С. Дагеля, эти термины идентичны *(422).
Н.С. Таганцев в своем курсе лекций по уголовному праву конца XIX в. использовал термин
"виновность", полагая, что она является внутренним моментом понятия преступного деяния *(423).
В отличие от УК РФ в ст. 49 Конституции РФ отмечается, что "каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным, пока его виновность (выделено мной. - Е.Ч.) не будет доказана в
установленном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором
суда". Из этого положения можно сделать разные выводы: во-первых, если понятия "вина" и
"виновность" не совпадают, то в указанных нормативно-правовых актах речь идет о разных явлениях,
что, в свою очередь, свидетельствует о существующих между УК РФ и Конституцией РФ разногласиях.
Во-вторых, если считать, что понятия "вина" и "виновность" совпадают, то, значит, нет никакого спора о
терминах. Нам представляется, что последняя точка зрения выглядит более приемлемой, с той лишь
оговоркой, что эти термины однородны, а не тождественны. В данном случае можно, на наш взгляд,
провести параллель с понятиями "закон" и "законность".
Иначе говоря, если закон - это "принятый в особом порядке акт законодательного органа,
обладающий высшей юридической силой и направленный на регулирование наиболее важных
общественных отношений" *(424), то законность - это "принцип, метод, режим формирования и
функционирования правового государства и гражданского общества, в основе которых лежит точное
соблюдение и исполнение законов всеми государственными и муниципальными органами,
общественными объединениями, должностными лицами и гражданами" *(425). В нашем случае если
вина - это психическое отношение субъекта к совершенному действию (бездействию) и его
последствиям, то виновность - это принцип привлечения лица к уголовной ответственности, в основе
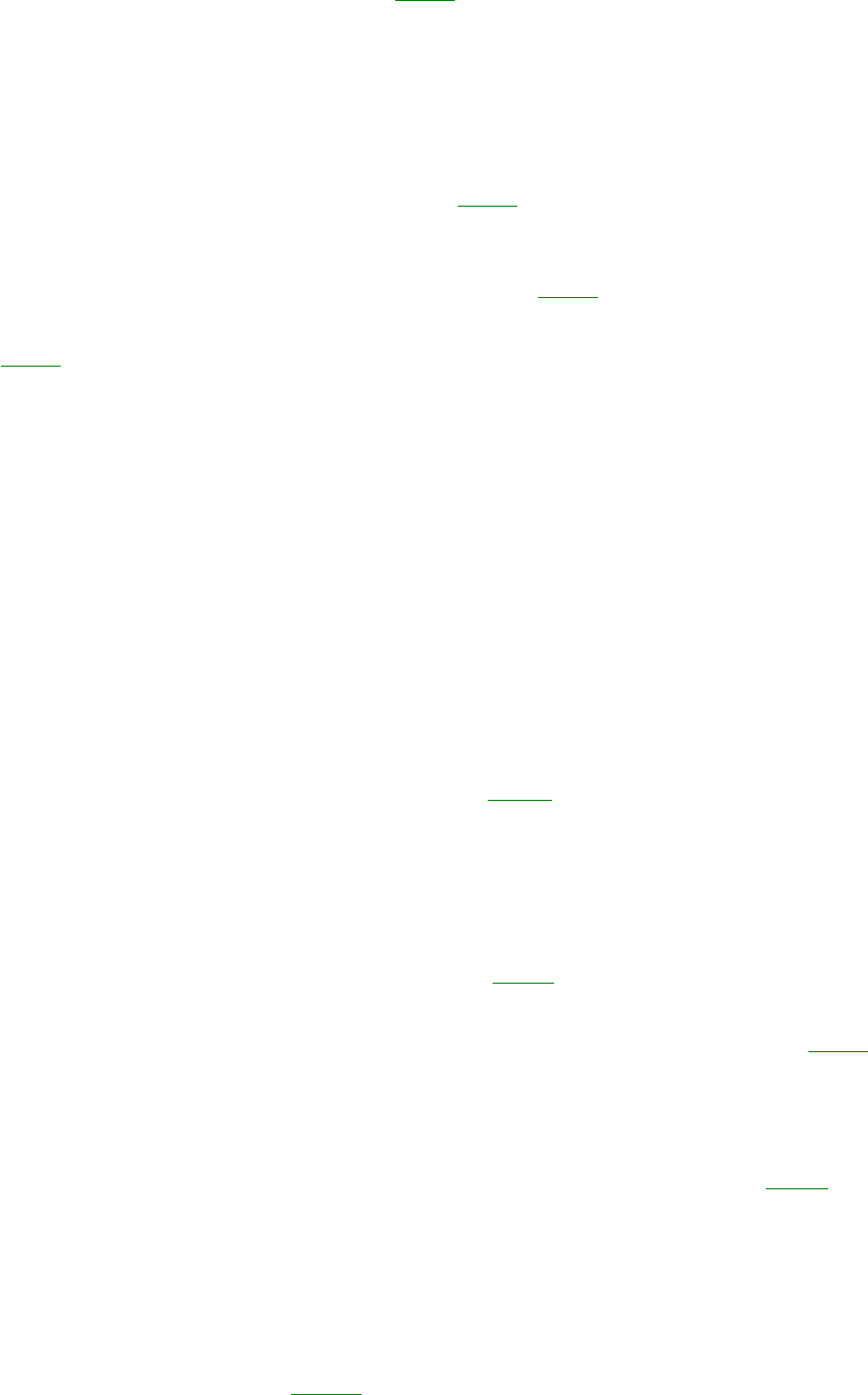
которого лежит установление его вины в совершенном преступлении. С такой трактовкой согласно
большинство (54,2%) опрошенных нами ученых *(426).
Таким образом, мы полагаем, что ст. 5 УК РФ должна называться "Принцип виновности". В этом
случае у нас появится возможность на уровне Кодекса разграничить понятия вины как элемента состава
преступления и виновности как принципа уголовного законодательства.
Теперь перейдем непосредственно к анализу законодательной редакции рассматриваемого
принципа.
Одна из основных проблем регламентации принципа вины в УК РФ, по мнению некоторых
авторов, состоит в том, что, как пишет В.Т. Томин, в ч. 1 ст. 5 УК РФ (подчеркивая неразрывную связь
между уголовной ответственностью и уголовным судопроизводством) акцентируется внимание не на
наличии вины в действиях лица, а на ее установление *(427).
И.Э. Звечаровский полагает, что "если не ставить знак равенства между тем, что есть, и тем, как
это что-то устанавливается, если не отождествлять материально-правовой аспект вины с ее уголовно-
процессуальными аспектами, то в тексте уголовного закона приведенную формулировку следовало бы
заменить другой: "которые совершены или наступили виновно" *(428).
По мнению Н.А. Лопашенко, в ч. 1 ст. 5 УК РФ необходимо указать: "лицо подлежит уголовной
ответственности только за те общественно опасные последствия, в отношении которых имеется его
вина" *(429).
И в этом споре опять-таки камнем преткновения, на наш взгляд, является вопрос о понятии
уголовной ответственности, а именно о моменте ее возникновения. Следует отметить, что в
юридической литературе существуют различные мнения.
Первая точка зрения - уголовная ответственность наступает с момента совершения
преступления (В.И. Курляндский, А.А. Пионтковский, И.Я. Козаченко); вторая - с момента применения
мер процессуального принуждения (Н.А. Огурцов, А.В. Наумов); третья - с момента привлечения лица к
уголовной ответственности (А.Н. Игнатов); четвертая - с момента вступления приговора в законную силу
(Н.И. Загородников, В.В. Похмелкин, Н.Ф. Кузнецова) и т.д. В зависимости от того, какого из
перечисленных взглядов мы придерживаемся, можно по-разному трактовать ч. 1 ст. 5 УК РФ. Так, если
принимать во внимание одну из трех первых точек зрения, то лицо подлежит уголовной ответственности
за совершенное преступление и наступившие последствия, в отношении которых имеется его вина. Если
же следовать четвертой точке зрения, то уголовная ответственность наступает за общественно опасные
действия (бездействие) и наступившие опасные последствия, в отношении которых вина лица
установлена приговором суда, вступившим в законную силу.
Последняя позиция нам представляется более приемлемой. Так, в ст. 8 УК РФ закрепляется
положение о том, что основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом. В то же
время вина является обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, а в
соответствии с ч. 2 ст. 49 Конституции РФ виновность *(430) устанавливается только вступившим в
законную силу приговором суда. Таким образом, мы полагаем, что в ст. 5 УК РФ вполне обоснованно
делается акцент именно на установление вины, и, следовательно, в этом аспекте анализируемая норма
не нуждается в изменении.
Следующая проблема законодательной регламентации - принцип вины, на которую обращает
внимание В.В. Лунеев, состоит в том, что "в ст. 5 УК РФ... говорится о необходимости установления
внутреннего отношения субъекта и к действиям (бездействию), и к последствиям. Но такое же
отношение следует устанавливать и к отягчающим и квалифицирующим обстоятельствам, и другим
юридически значимым признакам состава преступления" *(431). В связи с этим автор предлагает свое
определение вины в виде психологической категории как психического отношения лица "к совершаемому
им общественно опасному и уголовно противоправному деянию, его общественно опасным
последствиям и другим юридически значимым обстоятельствам совершения преступления" *(432).
На наш взгляд, трудно оспорить тот факт, что вменение лицу в вину отягчающих или
квалифицирующих обстоятельств, которых он в силу тех или иных причин не предвидел, не мог или не
должен был предвидеть, означало бы, в сущности, переход на позиции объективного вменения.
Однако к указанному выше предложению В.В. Лунеева нельзя относиться однозначно.
В теории уголовного права большинством авторов признается следующая формула: "деяние =
общественно опасное действие (бездействие) + общественно опасные последствия" *(433). В связи с
анализируемой точкой зрения возникает вопрос: а что включает в себя понятие "действие (бездействие)"
и где в приведенной выше формуле место для отягчающих или квалифицирующих признаков? Если
следовать позиции В.В. Лунеева, то эта формула нуждается в изменении, что неизбежно повлечет за
собой необходимость пересмотра и других важных понятий и институтов уголовного права. Прежде чем
пойти на такой серьезный шаг, на наш взгляд, следует взвесить все "за" и "против".
В настоящее время прямое требование установления психического отношения лица к тем или
иным признакам состава преступления содержится в некоторых постановлениях Пленума Верховного
Суда РФ. Так, например, в п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 27 января 1999 г. "О судебной
практике по делам об убийстве" *(434) указывается, что п."в" ч. 2 ст.105 УК РФ "надлежит
