Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, проблемы законодательной регламентации
Подождите немного. Документ загружается.

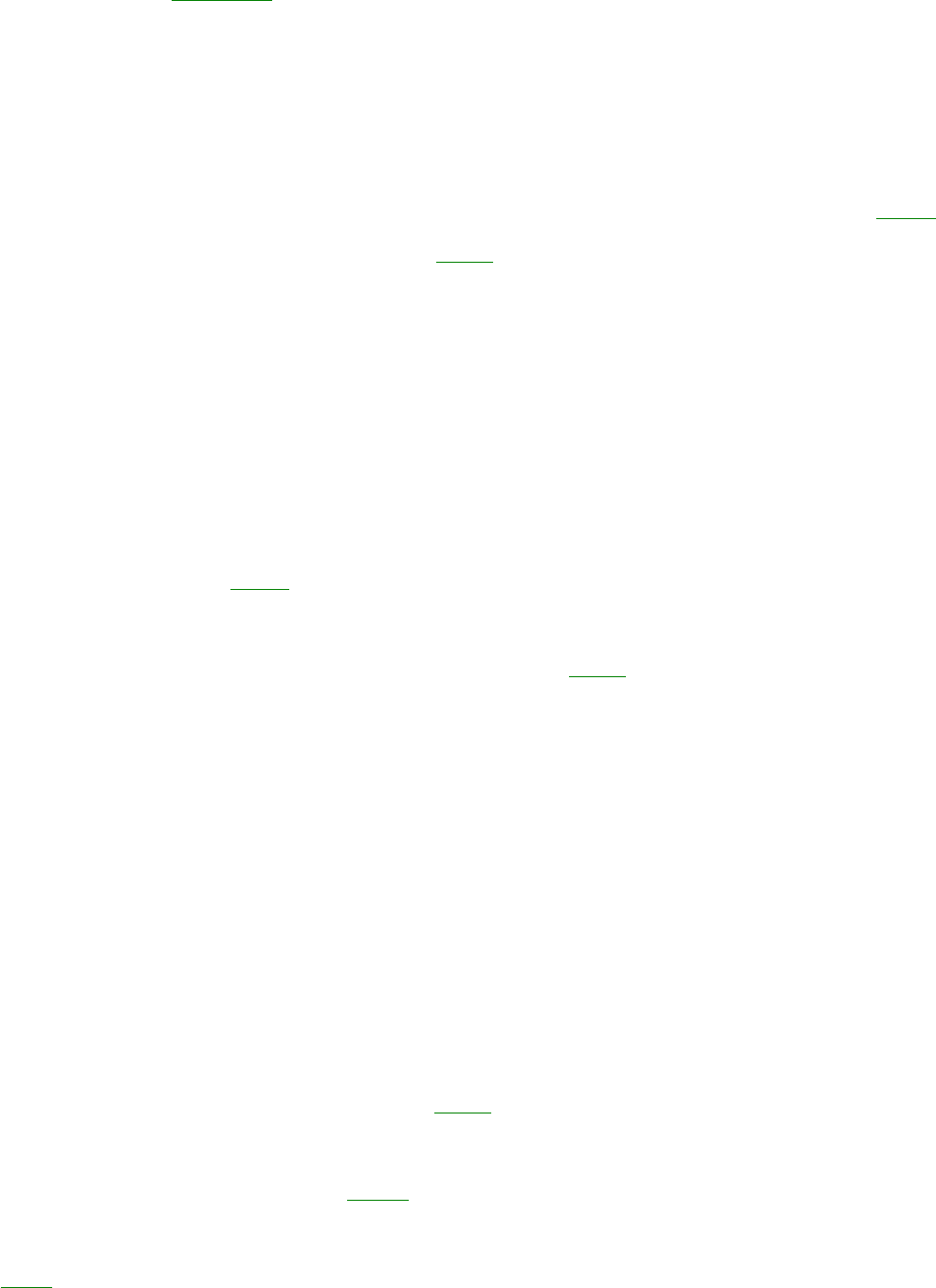
соответствии с ч. 1 ст. 1 УК РФ, состоит из УК РФ, такова, что термины "принципы Уголовного кодекса" и
"принципы уголовного законодательства" совпадают. Однако более правильно, и мы уже указывали на
это в предыдущем параграфе, говорить о принципах уголовного законодательства.
Сложнее обстоит дело с разграничением понятий "принципы уголовного законодательства" и
"принципы уголовной ответственности".
Несмотря на то что понятие "уголовная ответственность" относится к основополагающим для
отрасли уголовного права, в УК РФ не дается ее определение. Такое положение, на наш взгляд, ведет к
понятийной путанице, так как сам термин "уголовная ответственность" в уголовном законе встречается
достаточно часто, например, в ст. 8 УК РФ говорится об основании уголовной ответственности, а глава
11 называется "Освобождение от уголовной ответственности".
Мы полагаем, что наилучшим вариантом было бы закрепление в УК РФ наряду с главой 9
"Понятие и цели наказания. Виды наказаний", нормы или отдельной главы, в которой содержалось бы
понятие уголовной ответственности, раскрывались ее содержание (формы реализации) и цели *(117).
Примером здесь может послужить Уголовный кодекс Республики Беларусь, глава 8 которого раскрывает
общие положения об уголовной ответственности *(118).
Однако указанное выше предложение достаточно сложно реализовать на практике, так как даже
в теории уголовного права нет единого мнения по таким вопросам, как: что же представляет собой
уголовная ответственность, как эта категория соотносится с "наказанием" и "иными мерами уголовно-
правового характера" и т.д. Все эти вопросы являются фундаментальными, но едва ли нам удастся
ответить на них в рамках данной монографии. Поэтому остановимся лишь на некоторых моментах,
имеющих непосредственное значение для анализируемой нами проблемы.
Если обратиться к законодательной формулировке принципов, закрепленных в ст. 3-7 УК РФ, то
несложно заметить, что их действие распространяется не только на сферу наказания, но и на иные меры
уголовно-правового характера (например, ч. 1 ст. 6 и ч. 2 ст. 7 УК РФ). Таким образом, было бы
возможно говорить об этих принципах как о принципах уголовной ответственности только в том случае,
если под уголовной ответственностью понимать все меры уголовно-правового воздействия,
применяемые к лицу, совершившему преступление. Такой точки зрения придерживается, в частности,
А.В. Наумов. По мнению автора, "уголовная ответственность подразделяется на наказание и иные меры
уголовно-правового воздействия (например, принудительные меры медицинского характера), не
являющиеся наказанием" *(119). Близка к приведенной позиция, высказанная М.П. Журавлевым и Е.М.
Журавлевой. Ученые полагают, что "при всей важности наказания как средства борьбы с преступностью
им не исчерпывается понятие уголовной ответственности". Последнее по своему содержанию является
более широким, чем наказание, так как возможны и иные формы реализации ответственности,
например, принудительные меры воспитательного воздействия *(120).
Соглашаясь с указанными выше авторами в том, что наказание представляет собой лишь одну
из форм реализации уголовной ответственности, все же отметим, что, на наш взгляд, в приведенных
точках зрения сфера уголовной ответственности несколько расширена за счет включения категорий,
которые не являются формами ее реализации. Попробуем это доказать.
Согласно ч. 1 ст. 21 УК РФ, лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния
находилось в состоянии невменяемости, т.е. не могло осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими вследствие хронического
психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного
состояния психики, не подлежит уголовной ответственности (выделено мной.- Е.Ч.). Кроме этого, в
соответствии с ч. 1 ст. 443 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ) в случае признания
судом доказанным, что деяние, запрещенное уголовным законом, совершено данным лицом в состоянии
невменяемости или что у этого лица после совершения преступления наступило психическое
расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, суд выносит
постановление об освобождении этого лица от уголовной ответственности и о применении к нему
принудительных мер медицинского характера. Так, Президиум Верховного Суда РФ при рассмотрении
протеста заместителя Генерального прокурора РФ по делу Моржухиной указал на то, что "в
соответствии со ст. 21, п. "а" ч. 1 ст. 97 УК РФ, на которые сослался в определении суд первой
инстанции, не подлежит уголовной ответственности за совершение общественно опасных деяний с
возможным применением мер медицинского характера лишь лицо, которое во время совершения этих
деяний находилось в состоянии невменяемости" *(121).
Из этого следует, что принудительные меры медицинского характера не являются формой
реализации уголовной ответственности. И, как справедливо отмечает Н.Ф. Кузнецова, перед ними стоят
свои цели, характер и продолжительность таких мер определяется не тяжестью содеянного, а
спецификой заболевания лица и т.д. *(122) Г.В. Назаренко считает, что "расширительная трактовка
уголовной ответственности, смешение уголовной ответственности с принудительными государственно-
правовыми мерами, имеющими некарательный характер, совершенно недопустимо, так как может
привести к объективному вменению, предполагающему ответственность невменяемых и малолетних"
*(123).
Аналогичная ситуация и с принудительными мерами воспитательного воздействия. В
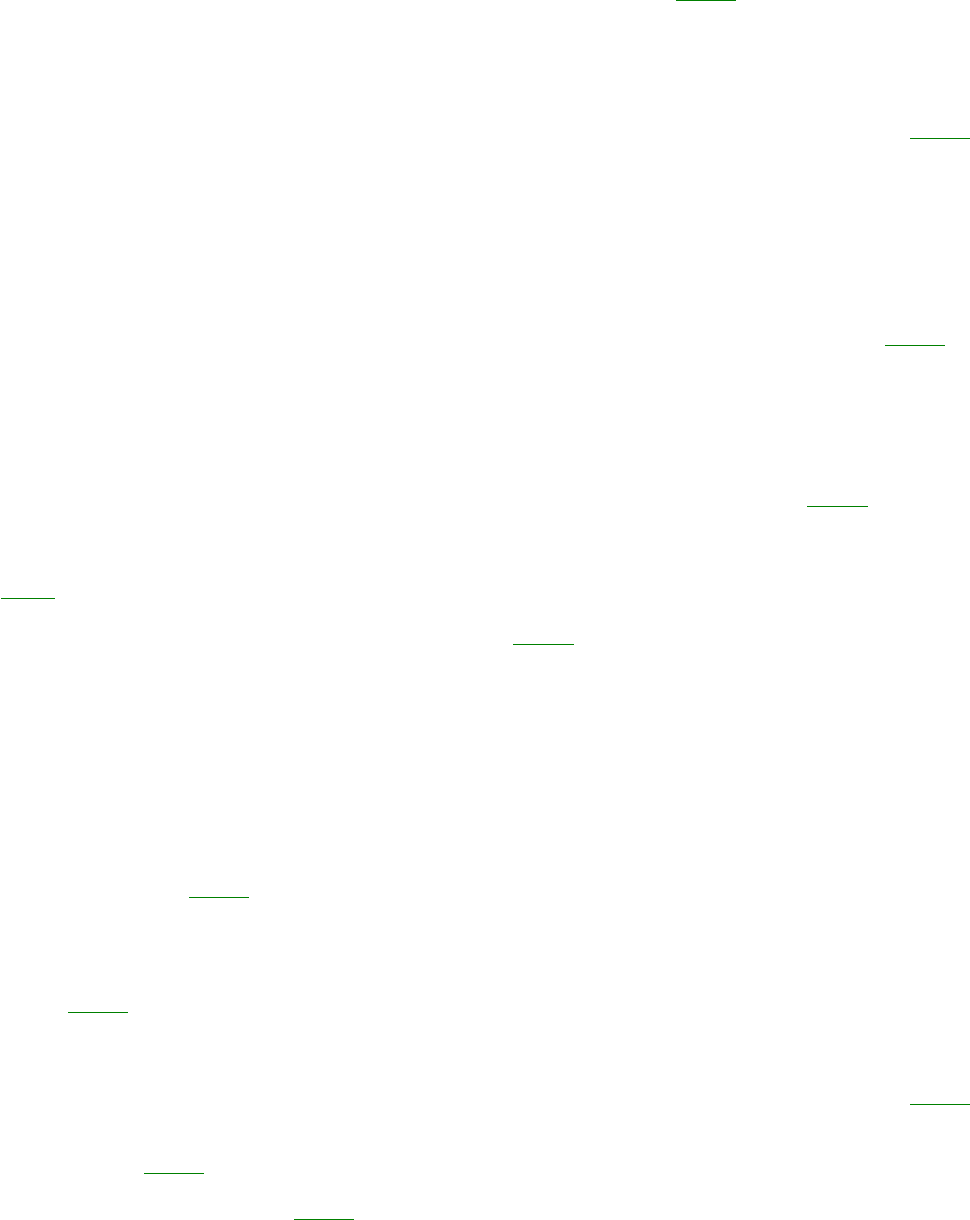
соответствии с ч. 1 ст. 90 УК РФ, несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или
средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности (выделено мной. - Е.Ч.), если
будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия. Из этой нормы следует, что принудительные меры воспитательного
характера не являются формой реализации уголовной ответственности *(124).
Подводя итог сказанному, мы считаем, что принудительные меры медицинского характера и
принудительные меры воспитательного характера не следует относить к уголовной ответственности, так
как они являются альтернативой последней и должны назначаться в тех случаях, когда применение
уголовной ответственности либо нецелесообразно, либо просто невозможно в силу тех или иных причин,
например, наличия хронического психического расстройства у лица. Подавляющее большинство (65,3%)
опрошенных работников правоохранительных органов также придерживаются этой точки зрения *(125).
Таким образом, мы не можем согласиться с теми авторами, которые полагают, что в ст. 3-7 УК
РФ закреплены принципы уголовной ответственности, которые представляют собой основные
положения лишь одного из институтов уголовного права и в силу ограниченной сферы действия
являются, на наш взгляд, составной частью принципов уголовного законодательства и подчиняются им.
К сказанному следует добавить, что и в уголовных законах ряда других государств не найдено
четкого решения данного вопроса. Так, например, ст. 3 УК Республики Таджикистан называется
"Принципы Уголовного закона и уголовной ответственности", в то же время нигде не поясняется, как эти
категории соотносятся между собой. Схожая ситуация прослеживается и в УК Азербайджанской
Республики, где ст. 4 именуется "Принципы Уголовного кодекса и уголовной ответственности" *(126).
Мы полагаем, что в целях устранения разночтений в УК РФ, в ч. 2 ст. 2 УК РФ, должны быть
внесены соответствующие изменения и она может быть сформулирована следующим образом: "Для
осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает принципы уголовного законодательства и
основания уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или
государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры
уголовно-правового характера за совершение преступлений".
Рассмотрим соотношение понятий "принципы уголовного законодательства" *(127) и "принципы
уголовного права".
Отметим, что до недавнего времени эта тема мало обсуждалась в юридической литературе, так
как в основном преобладало мнение об отсутствии оснований для разграничения этих двух понятий
*(128). Однако в последнее время проблема привлекла внимание исследователей.
Так, П.Н. Панченко полагает, что "...система принципов права формируется в несколько иной
плоскости, чем система принципов законодательства" *(129). Принципами уголовного законодательства,
по мнению автора, являются те, которые закреплены в ст. 3-7 УК РФ, а принципами уголовного права -
такие, как:
целенаправленность (ориентация на цели стабилизации правопорядка и снижения
преступности);
прагматичность (решение задач охраны правопорядка от преступлений и предупреждение
преступлений);
экономичность (рациональное расходование выделяемых средств и обеспечение максимально
высоких результатов за счет минимально достаточных средств);
практичность (практическая осуществимость предпринимаемых мер и их отдача);
научность (предварительная аналитическая проработка принимаемых в целях борьбы с
преступностью мер) *(130).
В.В. Мальцев указывает, что "принципы права и принципы законодательства - не одно и то же.
Первые на уровне общественного правосознания непосредственно связаны с социальной
справедливостью и предметом отраслей права, а вторые - их более или менее адекватное отражение в
нормах законодательства, как правило, применительно к реальным и конкретным формам поведения
людей" *(131).
Нам представляется, что существование несовпадающих точек зрения по данному вопросу
обусловлено прежде всего различным подходом авторов к пониманию права как основополагающей
категории. Как известно, в теории государства и права на сегодняшний день сформировалось несколько
подходов к правопониманию. Среди них можно выделить два основных: нормативное и широкое *(132).
Нормативное понимание права исходит из единства содержания и формы права, где
содержанием является правовая норма, равно как и любой другой юридический источник права, а
формой - закон *(133).
Сторонники второго направления считают, что "понятие права включает в себя не только нормы,
но и другие правовые явления" *(134).
Исходя из анализа юридической литературы, применительно к отрасли уголовного права можно
говорить о том, что развитие здесь получили обе точки зрения.
Например, Н.Ф. Кузнецова считает, что уголовное право как отрасль - это понятие более
широкое, нежели уголовное законодательство, так как оно охватывает не только уголовное
законодательство, но и уголовно-правовые отношения, связанные с законотворчеством и
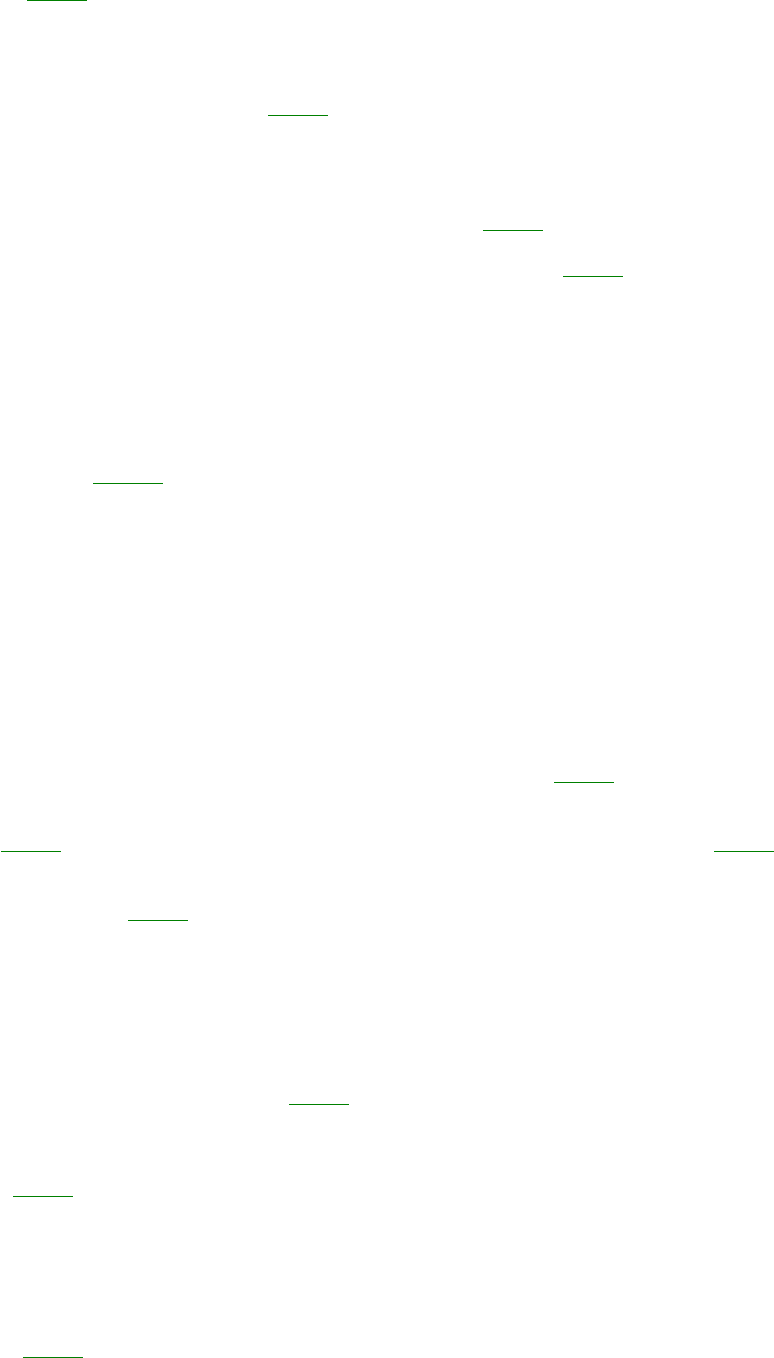
правоприменением *(135).
По мнению П.Н. Панченко, "право отличается от законодательства тем, что оно а) наряду с
правовыми нормами включает еще и б) практику их применения, в) правоохранительные органы,
осуществляющие требования этих норм, г) саму их деятельность, которая, как известно, не
ограничивается правоприменением и, наконец, д) результаты этой деятельности, выражающиеся в
фактически складывающемся правопорядке" *(136).
В.В. Мальцев указывает на то, что как социальное явление и как философско-социологическая
категория право по содержанию глубже и по объему шире отрасли законодательства, так как "уголовное
законодательство - это лишь один из элементов предмета уголовного права, содержание которого
формируется под воздействием других его элементов (предмета уголовно-правовой охраны и
общественно опасного поведения) и социального уклада общества" *(137).
Н.А. Лопашенко полагает, что "...уголовное право выражается в уголовном законодательстве,
которое является формой (единственной) существования уголовного права" *(138).
Таким образом, соотношение принципов уголовного права и принципов уголовного
законодательства зависит от того, какой подход из перечисленных выше мы выбираем.
Так, при широком понимании права, когда понятия "уголовное законодательство" и "уголовное
право" не совпадают, соответственно, не совпадают и понятия "принципы уголовного законодательства"
и "принципы уголовного права". Содержание последних зависит от того, что мы включаем в понятие
права.
Нам же в большей степени импонирует традиционное нормативное понимание права, при
котором "принципы уголовного права" и "принципы уголовного законодательства" соотносятся как
"содержание" и "форма" *(139), т.е. они представляют собой единое целое, а их раздельное
рассмотрение допустимо лишь в порядке научной абстракции, для удобства исследования отдельных
проблем, например, как в нашем случае, проблем законодательной регламентации.
Итак, исходя из указанной выше точки зрения прослеживается следующая закономерность: те
основные положения, которые находят свое отражение в нормах УК РФ, и являются принципами
уголовного права (уголовного законодательства).
Следующей интересующей нас категорией являются принципы уголовно-правовой политики.
Уголовная политика представляет собой направление деятельности государства в сфере
противодействия преступности. По мнению Н.И. Загородникова и Н.А. Стручкова, в рамках уголовной
политики "формируются исходные требования борьбы с преступностью посредством разработки и
осуществления широкого круга предупредительных мер, создания и применения правовых норм
материального, процессуального и исполнительного права, устанавливающих криминализацию и
пенализацию, а когда нужно, декриминализацию деяний, а также посредством определения круга
допустимых в борьбе с преступностью мер государственного принуждения" *(140).
Таким образом, Н.И. Загородников полагал, что в структуре уголовной политики государства
необходимо выделять три ее компонента: уголовно-правовой, уголовно-процессуальный и уголовно-
исполнительный *(141). Некоторые авторы выделяют также и криминологический компонент *(142).
В настоящей работе мы остановимся лишь на одном из указанных элементов, а именно на
уголовно-правовой политике, которой, по мнению В.В. Мальцева, принадлежит доминирующее значение
в системе уголовной политики *(143).
Н.А. Лопашенко считает, что уголовно-правовая политика - это "часть внутренней политики
государства, основополагающая составляющая государственной политики противодействия
преступности, направление деятельности государства в сфере охраны наиболее важных для личности,
общества и государства благ, законных интересов и общественных отношений от преступных
посягательств, заключающееся в выработке принципов определения круга преступных деяний и
законодательных признаков последних и формулирование идей и принципиальных положений, форм и
методов уголовно-правового воздействия на преступность в целях ее снижения и уменьшения ее
негативного влияния на социальные процессы" *(144).
Таким образом, необходимо отметить, что предметом анализируемого нами соотношения будут
выступать именно принципы уголовно-правовой политики, а не принципы уголовной политики в целом,
так как последнее понятие слишком широкое и несопоставимое по объему с принципами уголовного
законодательства *(145).
Уголовно-правовая политика, так же как и любая другая политика, представляет собой
деятельность. А любой деятельности присущи свои специфические принципы, т.е. своеобразный
фундамент, на котором она базируется. К сожалению, в действительности не всегда бывает именно так.
Возникают ситуации, когда требования принципов просто игнорируются, а иногда бывает даже трудно
понять, есть ли в основе той или иной деятельности какие-либо принципы, так как проводится она
бессистемно и не всегда обоснованно. В какой-то мере это можно отнести и к современной уголовно-
правовой политике *(146).
В немалой степени именно это, на наш взгляд, и обусловливает то, что и в юридической
литературе на сегодняшний день нет единого мнения о принципах затронутой нами категории.
Наиболее развернутую систему предлагает П.Н. Панченко. По его мнению, к принципам
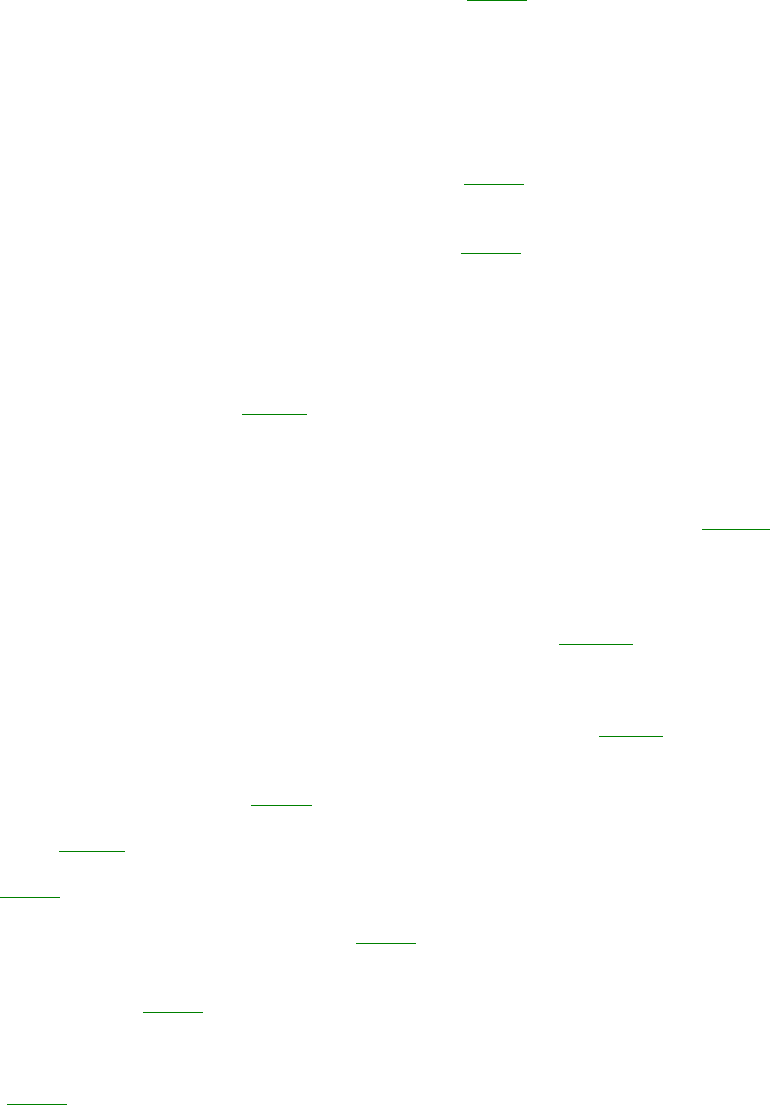
уголовно-правовой политики можно отнести следующие группы:
общеполитические принципы (законность, справедливость, демократизм и гуманизм);
общие уголовно-политические принципы (равенство всех перед законом, неотвратимость
ответственности, личная и виновная ответственность);
собственно уголовно-политические принципы (единство правовых и иных мер борьбы с
преступностью, взаимодействие правоохранительных органов с иными государственными органами,
гражданами, их объединениями и населением в целом, сочетание стратегии и тактики борьбы с
преступностью и др.);
специальные уголовно-политические принципы (недопустимость аналогии уголовного закона,
недопустимость обратной силы более строгого закона, недопустимость повторного привлечения к
ответственности за одно и то же преступление, недопустимость смягчения ответственности по
основанию совершения преступления в состоянии опьянения и др.) *(147).
А.И. Бойко основными принципами уголовной политики называет: согласование уголовно-
правовых мер борьбы с преступностью с более широкими социальными программами и
необходимостями; предельно возможную гуманизацию употребляемых государством карательных
средств; постоянную и своевременную коррекцию запретов - де(криминализацию) и (де)пенализацию
общественно опасных поступков; ставку в борьбе с преступностью на профилактику, предупредительные
меры, а затем уже расчет на принуждение, пользу от наказания; активное привлечение населения к
борьбе с преступностью, расширение социальной базы власти; максимально возможную
дифференциацию ответственности и индивидуализации наказания *(148).
С точки зрения А.И. Коробеева, к принципам уголовно-правовой политики можно отнести
принципы экономии репрессии, целесообразности, неотвратимости ответственности, дифференциации и
индивидуализации ответственности и наказания и справедливости *(149).
Методологически верным представляется нам подход к этой проблеме, предложенный Н.А.
Лопашенко. По мнению автора, уголовно-правовая политика осуществляется в соответствии с теми же
принципами, на которых строится и любая другая правовая политика. Последние, в свою очередь,
сформулированы в общей теории государства и права. К ним относятся: социальная обусловленность,
научная обоснованность, устойчивость и предсказуемость, легитимность, гуманизм и нравственность,
справедливость, гласность, сочетание интересов личности и государства, приоритет прав человека,
соответствие международным стандартам *(150). Эти принципы можно назвать общими принципами
уголовно-правовой политики.
Кроме этого, автор отмечает, что "содержание уголовно-правовой политики, конечно,
накладывает свою специфику на содержание указанных выше принципов. Оно же диктует
необходимость существования еще двух принципов уголовно-правовой политики, специфических только
для нее: принципа экономии репрессии и принципа неотвратимости ответственности" *(151). Эти
принципы можно отнести к специальным принципам уголовно-правовой политики.
Как мы видим из системы принципов уголовно-правовой политики, предложенной Н.А.
Лопашенко, названия некоторых принципов совпадают с названиями принципов уголовного
законодательства. Например, принцип неотвратимости ответственности, по мнению других авторов,
является принципом уголовного законодательства (уголовного права) *(152). Поэтому вполне
закономерно возникает вопрос: совпадает ли содержание этих принципов или же принципы уголовно-
правовой политики и принципы уголовного законодательства различаются между собой?
В юридической литературе этот вопрос является достаточно дискуссионным.
Большинство авторов согласны с тем, что эти понятия не совпадают *(153), хотя не всегда
можно определить, чем же они отличаются. Так, С.С. Босхолов к числу принципов уголовной политики
относит: законность, равенство граждан перед законом, демократизм, справедливость, гуманизм,
неотвратимость ответственности, научность *(154). Содержание таких из перечисленных принципов, как
законность, равенство граждан перед законом, справедливость и гуманизм, раскрывается, по мнению
автора, в гл. 1 УК РФ *(155). Таким образом, получается, что, с одной стороны, автор разделяет
позицию, в соответствии с которой принципы уголовной политики отличаются от принципов уголовного
законодательства *(156), а с другой стороны - возникает вопрос: а в чем же различие?
П.С. Дагель писал: принципы уголовного права "вытекают из принципов уголовной политики,
определяются ими, но с ними полностью не совпадают" *(157).
Схожей точки зрения придерживается А.И. Коробеев. Он указывает на то, что "принципы
уголовного права исходят из принципов уголовно-правовой политики, конкретизируя и детализируя их,
насыщая правовым материалом" *(158).
По мнению В.В. Мальцева, "принципы уголовного права первичны. Принципам же уголовно-
правовой политики принадлежит подчиненная, служебная роль, которая в этом аспекте в том и
заключается, чтобы точнее и полнее отразить содержание принципов уголовного права в уголовном
законодательстве" *(159).
В юридической литературе высказываются и иные мнения. Например, Н.А. Беляев полагал, что
принципы уголовно-правовой политики, "будучи закрепленными в нормах права, становятся принципами
уголовного права и в этом качестве направляют деятельность соответствующих органов и организаций
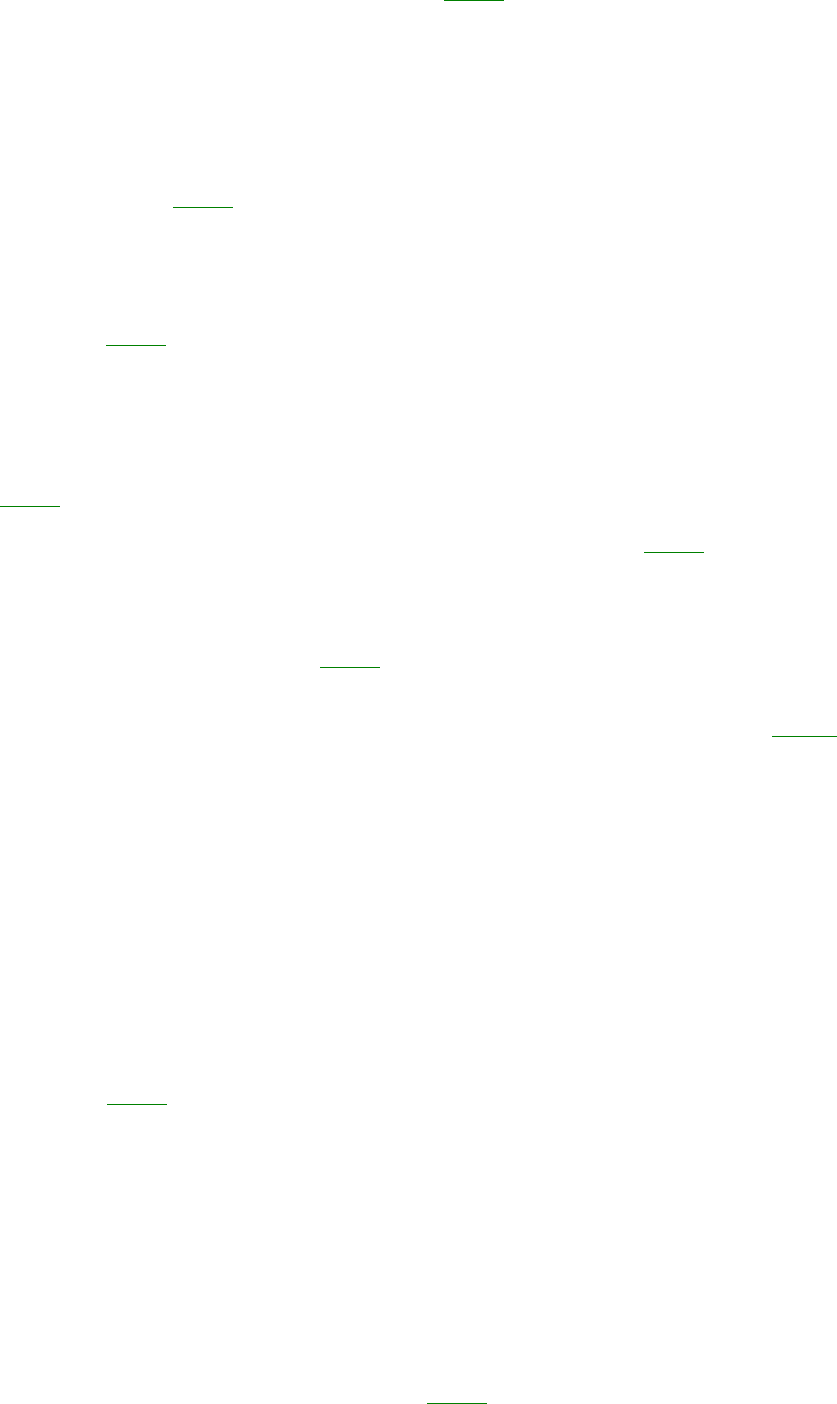
по применению правовых норм. Никаких различий между принципами уголовно-правовой политики и
одноименными принципами уголовного права не существует" *(160).
Не вдаваясь в детальный анализ приведенных выше точек зрения, отметим, что решение
данной проблемы невозможно без рассмотрения вопроса о соотношении понятий "уголовно-правовая
политика" и "уголовное законодательство". В юридической литературе эта проблема обсуждается
достаточно широко.
Например, Н.А. Лопашенко считает, что "понятие уголовно-правовой политики неразрывно
связано с уголовным законодательством, которое выступает концентрированным выражением ее
принципов и сущности. Уголовно-правовая политика, как никакая другая, жестко законодательно
регламентирована; ее стратегия и тактика полностью отражаются в Уголовном кодексе и вносимых в
него изменениях и дополнениях" *(161).
Ю.Е. Пудовочкин и С.С. Пирвагидов пишут о том, что между этими понятиями существует
двухсторонняя связь, которая заключается в том, что "правотворчество выступает формой реализации
уголовной политики, а потому в праве отражаются и в нормативном порядке закрепляются политические
идеи противодействия преступности. В то же время формой реализации уголовной политики выступает
правоприменение, следовательно, эта форма реализации политики детерминируется содержанием
уголовно-правовых норм" *(162).
Действительно, уголовно-правовая политика и уголовное законодательство тесно
взаимосвязаны между собой. Уголовно-правовая политика определяет основные направления развития
уголовного законодательства, в том числе через установление его принципов. На это, в частности,
указывает В.В. Мальцев. По его мнению, "принципы уголовного законодательства (объективно
предназначенные быть юридической формой принципов уголовного права) свое правовое выражение
обретают в результате уголовно-правовой политики, по существу выступая ее узловыми, краеугольными
положениями" *(163).
В то же время существует обратная связь. Так, Б.Т. Разгильдиев полагает, что сама уголовно-
правовая политика затем осуществляется в рамках уголовно-правовых принципов *(164). Такой же точки
зрения придерживается и В.В. Мальцев. Он пишет, что "...наряду с нормами Конституции России
принципы уголовного права образуют содержание и выступают основанием осуществления уголовно-
правовой политики на этапах обусловливания, формулирования и реализации уголовного
законодательства, направленной на выполнение задач по охране общества от преступных
посягательств и предупреждение преступлений" *(165).
Кроме этого, нельзя отрицать и тот факт, что уголовное законодательство также оказывает
значительное влияние на уголовно-правовую политику, проводимую в стране. Уголовное
законодательство (право) является одной из форм реализации уголовно-правовой политики *(166) и
представляет собой своеобразный критерий, с помощью которого можно оценить эффективность этой
сферы государственной деятельности и выработать наиболее оптимальные формы, методы и
направления уголовно-правового воздействия на преступность.
Таким образом, исходя из всего сказанного выше и подходя к решению интересующей нас
проблемы, следует отметить, что принципы уголовного законодательства и принципы уголовно-правовой
политики являются разнопорядковыми категориями, так как первые из них представляют собой
основные положения уголовного законодательства, т.е. системы уголовно-правовых норм, а вторые -
основные положения конкретной деятельности. Следовательно, на наш взгляд, напрямую эти категории
не связаны между собой, они взаимодействуют опосредованно, через взаимоотношение уголовного
законодательства и уголовно-правовой политики.
Далее переходим к рассмотрению вопроса о соотношении принципов уголовного
законодательства и принципов кодификации уголовно-правовых норм.
По мнению И.Н. Сенякина, кодификация - это "наиболее сложная и совершенная форма
систематизации, представляющая собой деятельность, направленную на коренную, как внешнюю, так и
внутреннюю, переработку действующего законодательства путем подготовки и принятия нового
кодифицированного акта" *(167).
Наше законодательство, в том числе и уголовное, не раз подвергалось кодификации. Ее
необходимость обуславливалась целым рядом причин, таких как, например, потребность в
упорядочении действующего законодательства, устранении противоречий и существующих пробелов,
несоответствие тех или иных норм требованиям проводимой в стране правовой политики и т.д.
Одна из первых вопрос о теоретических основах кодификации уголовно-правовых норм, в том
числе и о ее принципах, рассмотрела Н.А. Лопашенко. Отметим, что и в настоящее время существует не
так много работ, посвященных принципам именно этой категории. Проблема разграничения принципов
уголовного законодательства и принципов кодификации уголовно-правовых норм также остается до сих
пор недостаточно разработанной.
Прежде всего необходимо определиться с понятием принципов кодификации. По мнению Н.А.
Лопашенко, под ними следует понимать "незыблемые руководящие идеи, на основании и в соответствии
с которыми происходит законодательное закрепление уголовно-правового материала, регулирующего
общественные отношения, охраняемые уголовным правом" *(168).
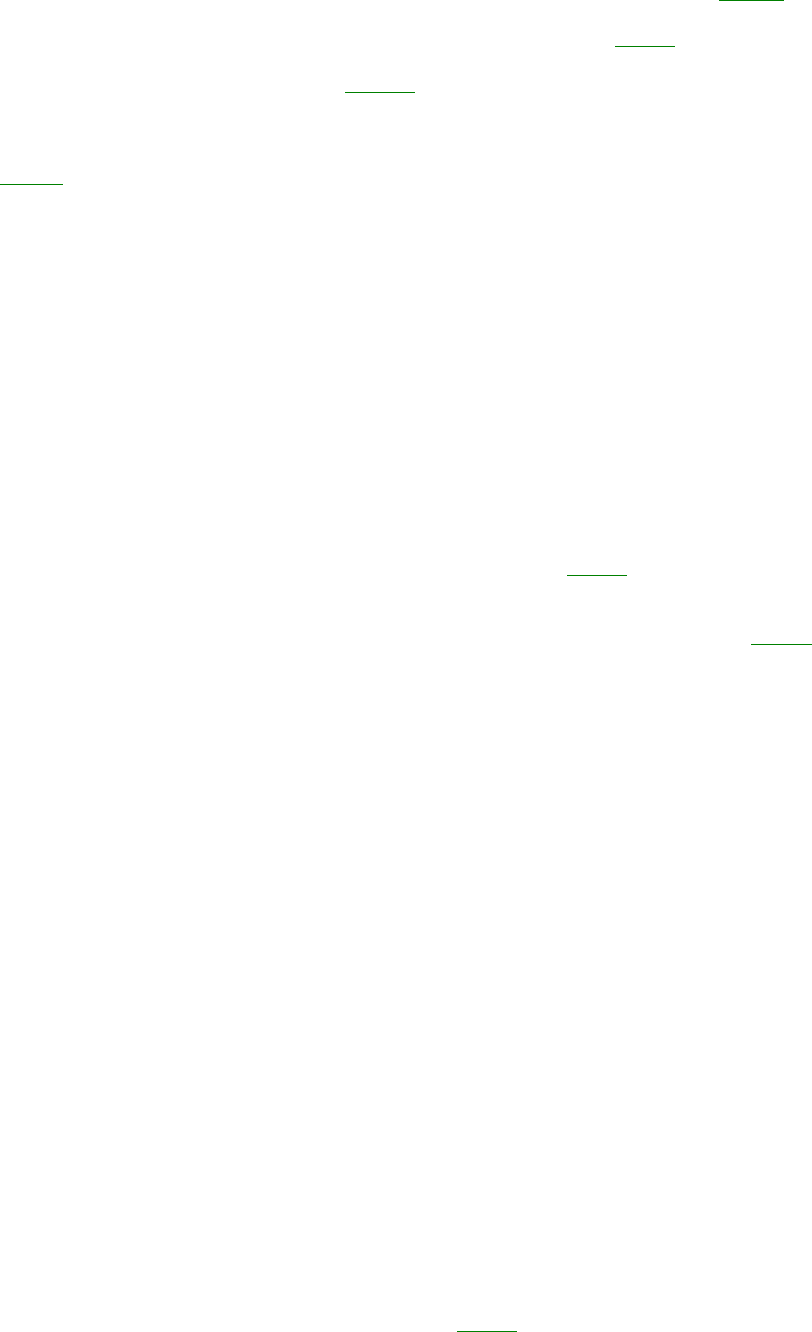
Несмотря на то что принципы кодификации уголовно-правовых норм носят в большей степени
вспомогательный характер, а именно - определяют правила закрепления уголовно-правовых норм в
уголовном законе, они тесно связаны с принципами уголовного законодательства.
Во-первых, несоответствие тех или иных норм уголовного закона требованиям принципов
уголовного законодательства является одним из оснований проведения кодификации *(169). Так, по
мнению Т.В. Кленовой, "рассогласованность законодательно выраженных норм обычно служит
основным юридическим аргументом в пользу проведения новой кодификации" *(170).
Во-вторых, мы полностью согласны с тем, что "принципы кодификации уголовно-правовых норм
лежат в основе создания уголовного закона" *(171). Поэтому их нарушение может привести к
определенным недочетам, несогласованностям в тексте УК РФ, что, в свою очередь, ведет к нарушению
принципов уголовного законодательства.
Рассмотрим это на примере принципа логической и юридической связи уголовно-правовых норм
между собой *(172). При анализе норм УК РФ остается неясным вопрос об основаниях выделения тех
или иных признаков преступления в квалифицированный или особо квалифицированный составы. Так, в
ч. 2 ст. 105 УК РФ такие отягчающие обстоятельства, как совершение преступления группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой в отношении двух или более лиц,
являются квалифицирующими, тогда как в ст. 111 УК РФ эти же обстоятельства выделены в особо
квалифицированный состав (ч. 3 ст. 111 УК РФ), и за них предусмотрено более строгое наказание, чем
за иные, перечисленные в ч. 2 ст. 111 УК РФ. А в ч. 1 ст. 6 УК РФ указывается на то, что лицу,
совершившему преступление, должно быть назначено справедливое наказание, которое в том числе
соответствует обстоятельствам его совершения. Таким образом, на наш взгляд, сама законодательная
регламентация данных отягчающих обстоятельств дает основание к нарушению принципа
справедливости, закрепленного в ст. 6 УК РФ.
В-третьих, в целом рассматриваемые нами принципы направлены на достижение одной и той же
цели - создания наиболее эффективного уголовного законодательства. Так, принципы уголовного
законодательства предъявляют определенные требования к содержанию уголовно-правовых норм, тем
самым создавая условия для их более эффективного применения. Принципы кодификации, в свою
очередь, определяют, как "следует формулировать уголовно-правовые нормы в законодательстве,
чтобы добиться наилучших правовых результатов. В соответствии с принципами кодификации
устанавливаются организационные правила законодательного процесса" *(173).
Подводя общий итог, можно сделать некоторые выводы.
1. Мы полагаем, что закрепленные в ст. 3-7 УК РФ принципы являются принципами уголовного
законодательства (уголовного права), что должно быть отражено как в названии гл. 1 УК РФ *(174), так и
в ч. 2 ст. 2 УК РФ - "Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает принципы
уголовного законодательства и основания уголовной ответственности, определяет, какие опасные для
личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды
наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений".
2. Принципы уголовной ответственности представляют собой основные положения лишь одного
из институтов уголовного права, следовательно, являются составной частью принципов уголовного
законодательства и подчиняются им.
Принципы уголовного права и принципы уголовного законодательства соотносятся как
"содержание" и "форма", таким образом, представляют собой единое целое.
Принципы уголовно-правовой политики и принципы уголовного законодательства - это
разнопорядковые категории, напрямую они не связаны между собой, а взаимодействуют опосредованно,
через взаимоотношение уголовного законодательства и уголовно-правовой политики.
И, наконец, достаточно тесная связь прослеживается между принципами кодификации уголовно-
правовых норм и принципами уголовного законодательства: они преследуют единую цель - создание
условий для формирования эффективного уголовного законодательства, направленного на решение
задач, стоящих перед ним.
Глава II. Система принципов уголовного законодательства
§ 1. Понятие и признаки системы принципов уголовного законодательства
Рассмотрение вопроса о системе принципов уголовного законодательства обусловлено не
только необходимостью более глубокого и всестороннего исследования принципов с позиции
определения места каждого в системе, но и целью выявления наиболее совершенного механизма
установления соответствия конкретных уголовно-правовых норм требованиям не отдельного принципа,
а их совокупности.
М.Л. Давыдов справедливо отметил, что формирование системы принципов способствует
достижению более высокого уровня концептуальности закона *(175).
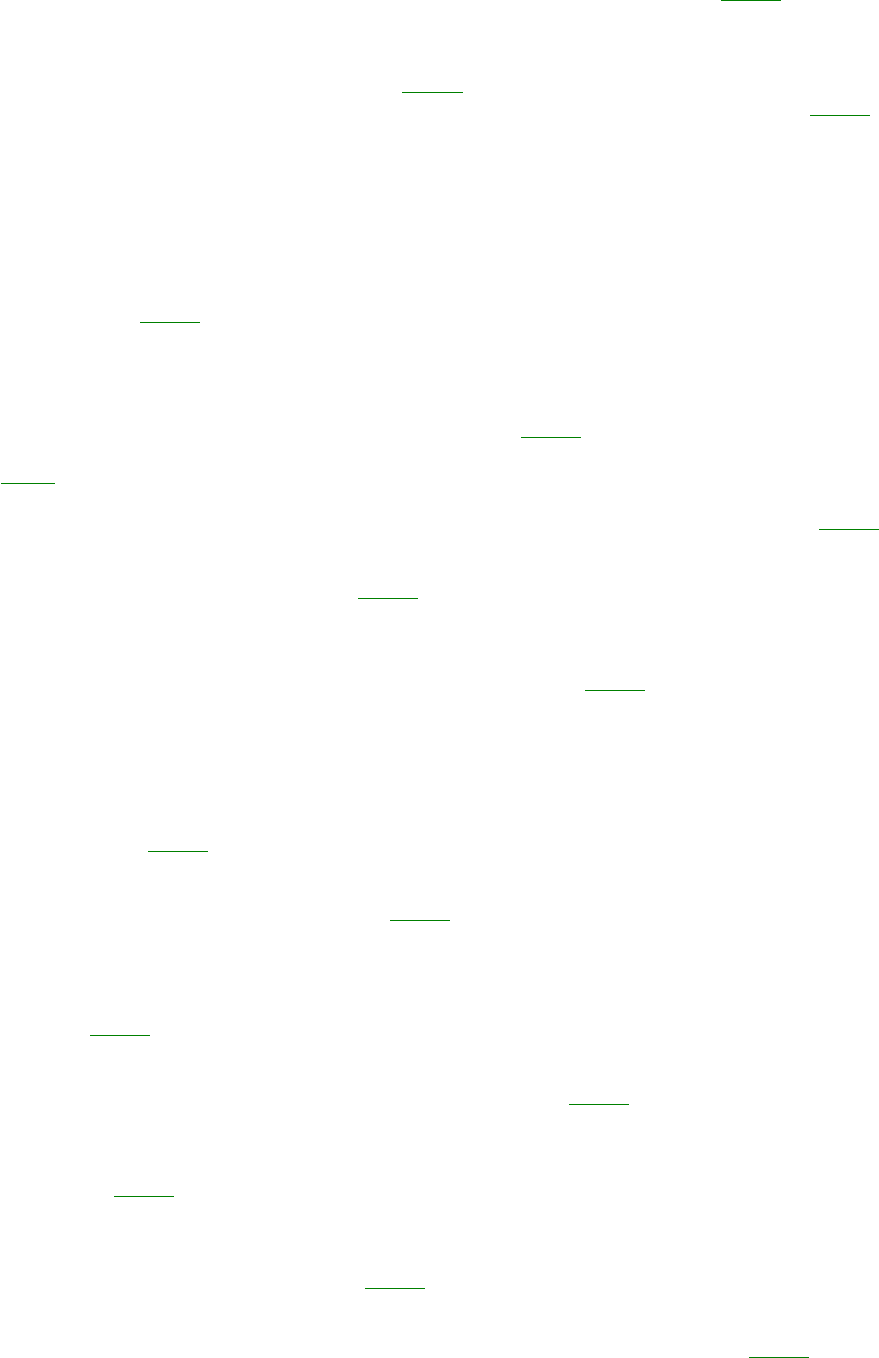
Согласно определению, данному в Философском энциклопедическом словаре, система - это
"объединение некоторого разнообразия в единое и четко расчлененное целое, элементы которого по
отношению к целому и другим частям занимают соответствующие им места" *(176).
Любая система выступает как сложное иерархическое образование, в котором выделяются
различные уровни с разными типами взаимосвязей между ними. По мнению В.А. Якушина, выделение
принципов различных уровней вполне оправданно, ибо они отражают различные сущностные моменты
права и сферы проявления этой сущности *(177). Кроме того, такое строение системы обусловлено тем,
что ее элементы, в свою очередь, также могут быть рассмотрены как особые системы *(178).
Что касается системы принципов отрасли уголовного права, то многие авторы согласны с тем,
что она имеет многоуровневую структуру. Однако в юридической литературе нет единого мнения
относительно количества таких уровней.
Так, Г.Б. Виттенберг выделял две группы основных принципов уголовного права: общеправовые
принципы, к которым относятся: общественная опасность наказуемого деяния, законность,
интернационализм, демократизм, гуманизм и специфические для уголовного права принципы:
предупреждение преступлений, личная ответственность только виновного, всесторонняя охрана
личности, индивидуализация ответственности и наказания, участие общественности в борьбе с
преступностью *(179).
Н.И. Загородников в числе общих принципов называл демократизм, законность, гуманизм,
интернационализм, а в числе специальных - всемерную охрану завоеваний трудящихся, принцип личной
и виновной ответственности, участие представителей народа в применении и реализации норм
уголовного закона, предупреждение преступлений, совпадение отрицательной уголовно-правовой и
моральной оценки деяний, признаваемых преступными *(180).
Некоторые авторы говорят о существовании трех уровней принципов отрасли уголовного права
*(181). Например, А.В. Наумов выделяет: общие принципы (законность, демократизм, гуманизм,
интернационализм), межотраслевые (предупреждение преступлений, индивидуализация
ответственности и наказания) и специальные (принцип субъективной ответственности) *(182).
В.В. Мальцев подчеркивает, что рассматриваемая система "должна отражать минимум три
уровня принципов: уголовного права, уголовного законодательства, отдельных категорий и институтов
уголовного права (законодательства)" *(183).
А.Н. Попов предлагает систему принципов уголовного права, состоящую из семи уровней:
общие уголовно-правовые принципы, межотраслевые принципы уголовного права, уголовно-правовые
принципы, межинституционные принципы, институционные принципы уголовного права, межнормные
принципы уголовного права, принципы норм уголовного права *(184).
Нам представляется, что при рассмотрении данного вопроса необходимо прежде всего
обратиться к теории права, где вполне устоялось деление принципов, в основе которого лежит сфера их
действия, на общеправовые, межотраслевые и отраслевые (С.С. Алексеев, М.И. Байтин, А.М. Васильев,
Н.И. Матузов, Л.С. Явич и др.).
Начнем с общеправовых принципов, которые, по мнению М.И. Байтина, "относятся к праву в
целом, распространяются на все его отрасли... способствуют единству и стабильности действующей
системы права" *(185).
Как показывает изученная нами по теме исследования литература, дискуссионным является
вопрос о вхождении общеправовых принципов в систему принципов отрасли уголовного права и об их
соотношении с отраслевыми принципами *(186).
Так, С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев считают, что отраслевых принципов в чистом виде не
существует. По их мнению, общеправовые принципы действуют во всех (или почти во всех) отраслях
права. В каждой отрасли эти принципы проявляются по-своему, что обуславливается спецификой
предмета и метода регулирования, а также спецификой задач и функций, выполняемых такой правовой
отраслью *(187).
П.С. Дагель отмечал, что "общеправовые принципы не могут быть отнесены к числу принципов
уголовного права, так как действуют в различных отраслях права не наряду с отраслевыми, не
непосредственно, а только через эти отраслевые принципы" *(188).
П.А. Фефелов пишет о том, что можно было бы говорить о возможности включения в систему
той или иной отрасли права только тех общеправовых принципов, которые имеют наиболее важное
значение для характеристики данной отрасли права и непосредственно связаны со специфическими
принципами *(189).
С точки зрения В.В. Мальцева, классификации принципов уголовного права на общие и
специальные, основные и неосновные, общеправовые (общие) и регулятивные "носят преимущественно
доктринальный, достаточно оторванный от законодательной практики характер и поэтому не могут быть
непосредственно в ней использованы" *(190). Кроме того, автор отмечает, что "именно на базе отраслей
права... возникает весь спектр принципов права, из которого затем в теории выделяются как общие, так
и межотраслевые принципы. Поэтому уголовно-правовые принципы скорее не вытекают из общих
принципов права, а "втекают" в них, не формируются, а формируют последние" *(191).
В свою очередь, Ю.Е. Пудовочкин и С.С. Пирвагидов полагают, что "споры о том, формируют ли
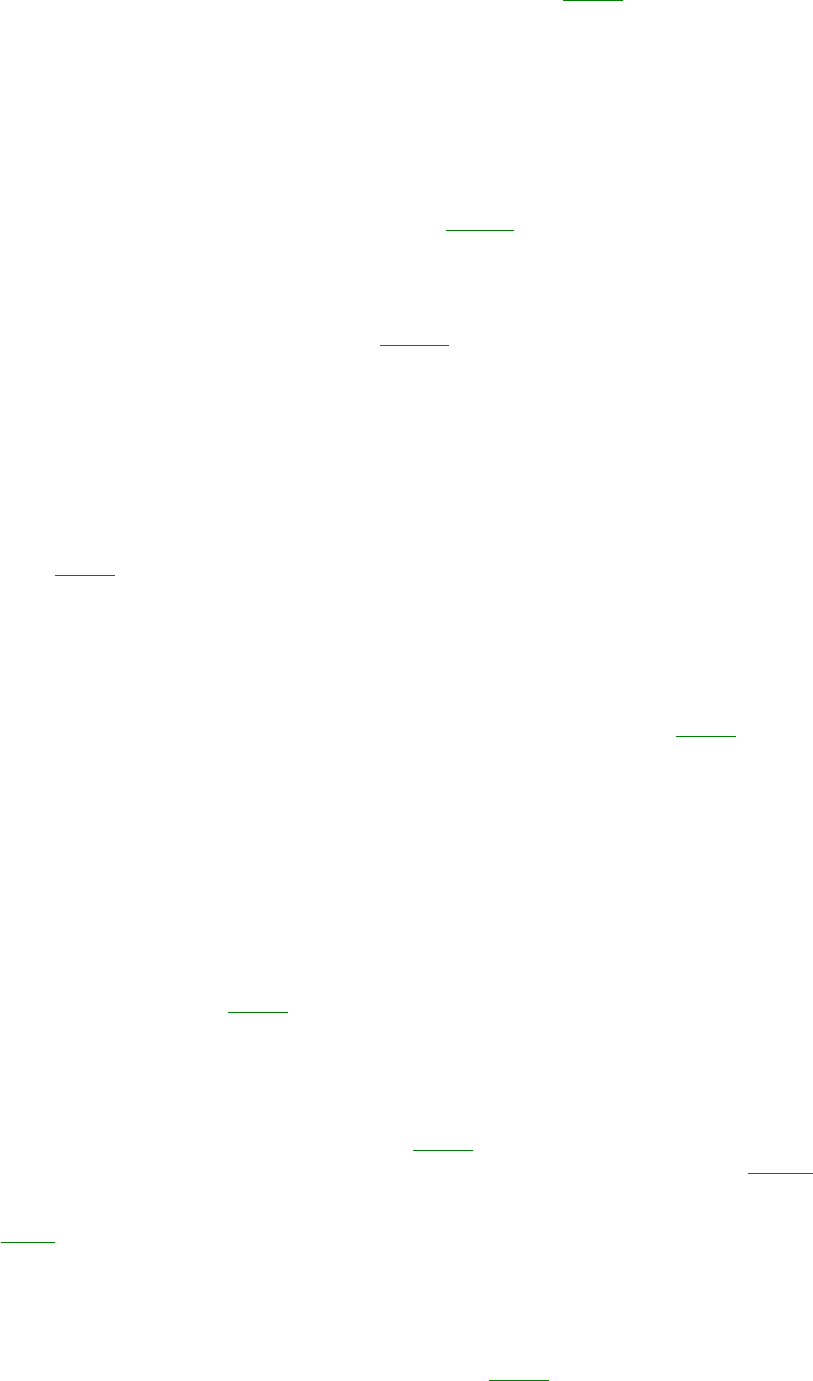
отраслевые принципы общеправовые, или сами формируются ими, носит по большей части
схоластический характер, а соотношение этих принципов необходимо рассматривать исходя из
философского учения о соотношении общего и особенного" *(192).
На наш взгляд, общеправовые принципы, несомненно, играют важную роль в процессе
регулирования общественных отношений, входящих в предмет всех без исключения отраслей права.
Это обусловлено, главным образом, тем, что настоящие принципы берут свое начало в Конституции РФ.
Однако мы полагаем, что общеправовые принципы следует рассматривать как структурный элемент
более общего понятия, чем система принципов конкретной отрасли права, а именно - системы
принципов права в целом. Не случайно основанием деления в данном случае принципов на
общеправовые, межотраслевые и отраслевые служит именно сфера их действия.
В то же время, как справедливо указывает П.С. Дагель, отраслевые принципы представляют
собой своеобразное преломление общеправовых принципов через призму предмета и метода
регулирования той или иной отрасли права *(193). Это можно проследить на примере принципа
законности, который в уголовном праве проявляется в том, что преступность деяния, а также его
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только УК РФ; а применение
уголовного закона по аналогии не допускается (ст. 3 УК РФ). Вместе с тем его содержание как
общеправового принципа, несомненно, шире и богаче, чем указанная интерпретация применительно к
специфике отрасли уголовного права *(194). И несмотря на то что название общеправового и
отраслевого принципа может совпадать (как в указанном выше случае) и сферы регулирования ими
общественных отношений в рамках той или иной отрасли могут пересекаться, в целом эти принципы не
совпадают.
Таким образом, мы считаем, что общеправовые принципы не входят в систему принципов
отрасли уголовного права, так как область их распространения - все право в целом.
Не менее сложным является вопрос о межотраслевых принципах права, которые, по мнению
А.Л. Захарова, представляют собой общую для двух и более отраслей права идею, отражающую
закономерности и связи развития общественных отношений, нормативно закрепленную в позитивном
праве, направляющую правовое регулирование и определяющую сущность и социальное назначение
права *(195).
Большинство авторов не включают их в рассматриваемую нами систему принципов, что, на наш
взгляд, правильно. Трудно не согласиться с тем, что межотраслевые принципы, так же как и отраслевые,
в какой-то степени являются производными от общих, развивают и конкретизируют их положения
применительно к двум или нескольким отраслям права. Однако, с другой стороны, определить их
значение для конкретной отрасли права достаточно сложно, тем более что, как утверждает сам А.Л.
Захаров, "одни и те же межотраслевые принципы права в разных отраслях права могут проявляться
неодинаково, исходя из конкретных, специфических для отрасли задач" *(196).
Нам представляется, что межотраслевые принципы права - это скорее искусственная категория,
которая получается путем теоретического выведения общих для нескольких отраслей права принципов,
которые, в свою очередь, имеют отличительные черты, обусловленные особенностями предмета и
метода правового регулирования. Поэтому, на наш взгляд, также нет оснований для включения
межотраслевых принципов в систему принципов отрасли уголовного права.
Таким образом, с нашей точки зрения, центральным звеном указанной выше системы являются
отраслевые принципы, т.е. принципы уголовного законодательства (уголовного права), которые в
настоящее время сформулированы в ст. 3-7 УК РФ. Именно они выражают своеобразие данной отрасли
права, выделяя ее среди других в системе права. Л.В. Лобанова полагает, что "уголовное право, являясь
самостоятельной отраслью права, не может не иметь специфичных только для него принципов,
поскольку именно они в своей совокупности отражают наиболее существенные особенности данного
правового образования" *(197).
Кроме рассмотренных выше принципов, в последнее время исследователи все чаще стали
обращаться к принципам отдельных структурных элементов отрасли уголовного права. В.В. Мальцев
справедливо заметил, что "уголовное законодательство как реальное, затрагивающее важнейшие
пласты социальной жизни правовое явление, выступая в качестве системы по отношению к своим
структурированным частям (подсистемам), обусловливает и наличие более конкретных, лежащих в
основе этих структурных частей принципов" *(198).
Прежде всего речь идет о принципах институтов уголовного права *(199). Институты права
представляют собой определенную совокупность правовых норм, регулирующих какие-либо однородные
общественные отношения, связанные между собой в качестве самостоятельной обособленной группы
*(200).
В юридической литературе есть различные точки зрения относительно того, какие существуют
институты уголовного права.
Так, по мнению Н.Ф. Кузнецовой, "содержанием уголовного законодательства являются четыре
института: "уголовный закон", "преступление", "наказание", "освобождение от уголовной ответственности
и наказания". Они, в свою очередь, систематизированы в Общей и Особенной частях УК РФ и делятся на
более дробные институты и входящие в них нормы" *(201).
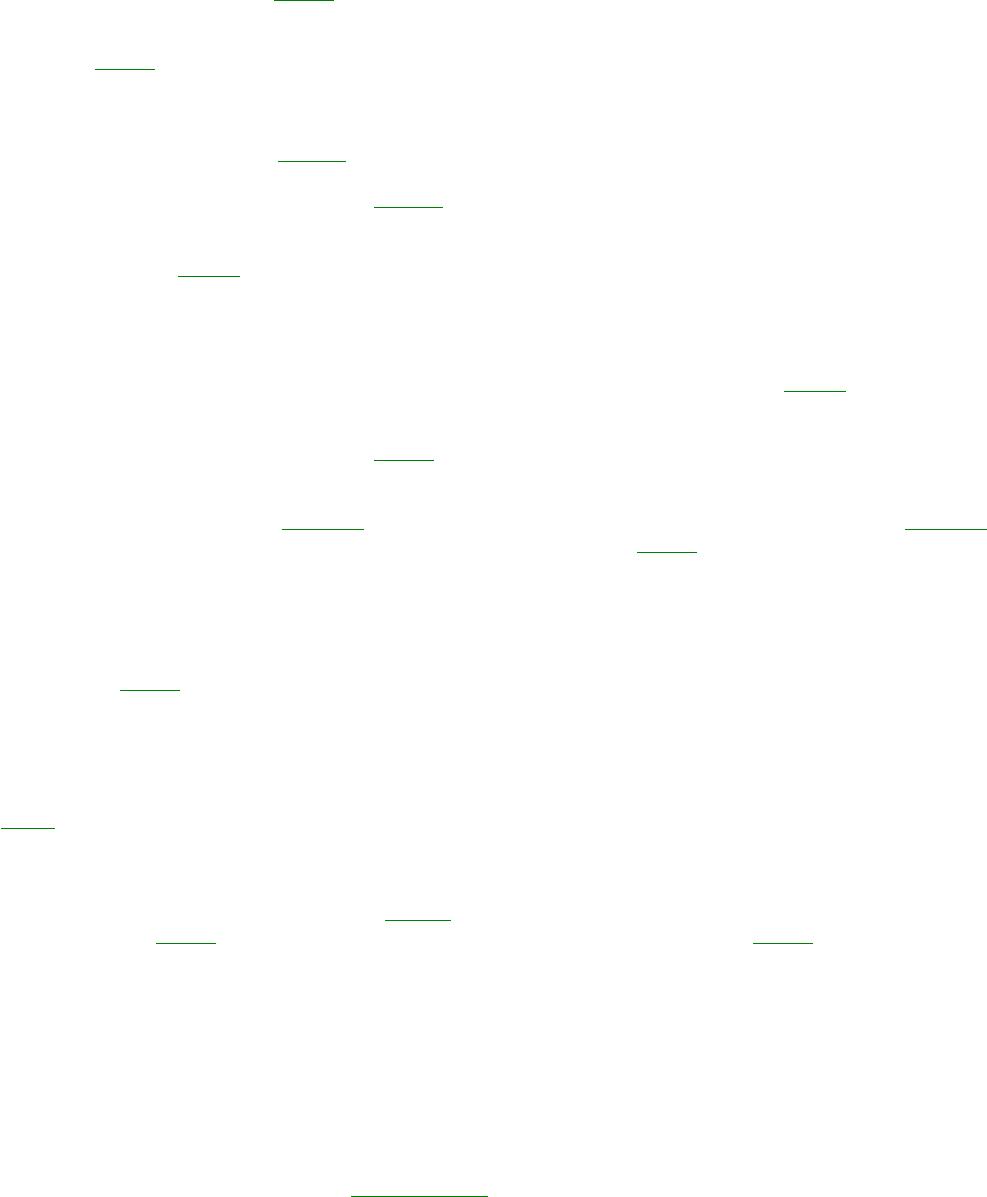
Ф.Р. Сундуров выделяет пять генеральных институтов: уголовный закон, преступление,
обстоятельства, исключающие преступность деяния, наказание, освобождение от уголовной
ответственности и наказания *(202).
Ю.И. Ляпунов говорит о четырех институтах уголовного права: институт преступления, институт
наказания, институт уголовной ответственности, институт принудительных мер уголовно-правового
характера *(203).
Мы полагаем, что при решении этого вопроса необходимо преимущественно исходить из того,
что институты права, в том числе и уголовного, должны выполнять свою главную функцию: "в пределах
своего участка общественных отношений данного вида или рода обеспечивать цельное, относительно
законченное регулирование" *(204). Поэтому, на наш взгляд, например, нецелесообразно сводить
институт права к отдельной норме, как это делает Ю.Н. Юшков, который к числу институтов уголовного
права относит необходимую оборону *(205). С нашей точки зрения, следует согласиться с С.С.
Алексеевым, который считает, что своего рода закономерностью является принципиальное
соответствие между правовым институтом и укрупненными подразделениями кодифицированного
нормативного акта *(206). Таким образом, можно выделить следующие основные институты уголовного
права: уголовный закон, преступление, наказание, освобождение от уголовной ответственности и
наказания, иные меры уголовно-правового характера.
Что же касается проблемы принципов отдельных институтов уголовного права, то она и в
настоящее время остается малоизученной.
В основном авторы говорят о принципах института назначения наказания *(207). Под таковыми
М.И. Бажанов понимал "исходные, наиболее важные положения, закрепленные в нормах уголовного
законодательства, которые определяют всю деятельность судов по применению наказания к лицам,
виновным в совершении преступления" *(208). Однако до сих пор дискуссионным остается вопрос о том,
какие же принципы характерны для этого института. Авторы относят к принципам назначения наказания,
например, такие: определенность наказания в приговоре, обоснованность и обязательность его
мотивировки в приговоре *(209); целесообразность и эффективность наказания *(210);
индивидуализацию наказания и дифференциацию ответственности *(211).
Рассмотрение принципов институтов уголовного права выходит за рамки нашего исследования.
Поэтому отметим лишь то, что нам представляется вполне обоснованным выделение данного уровня
принципов в системе принципов отрасли уголовного права. В силу своей достаточно ограниченной
сферы действия такого рода принципы оказывают более конкретное и детальное воздействие "на
относительно самостоятельную совокупность сходных общественных отношений или какие-либо их
компоненты" *(212), что позволяет говорить об их самостоятельности.
Своеобразной новеллой является предложение В.В. Мальцева о выделении принципов
категорий уголовного законодательства.
Для начала необходимо определить, что же следует понимать под термином "категория". А.М.
Васильев отмечает, что категория - это сложное и наиболее глубокое, фундаментальное понятие,
являющееся пределом обобщения как в определенной области знаний, так и в правоведении в целом
*(213). Что касается уголовного права, то следует сказать, что в юридической литературе нет единого
мнения относительно того, что считать категориями уголовного права.
Так, И.Я. Козаченко к фундаментальным категориям уголовного права относит такие, как:
уголовное правоотношение, уголовную ответственность и ее основания, нормы уголовного права,
диспозицию, наказание, санкцию и др. *(214); Л.Л. Кругликов и Т.А. Костарева - дифференциацию
ответственности *(215); Э.С. Тенчов и В.В. Мальцев - преступление и наказание *(216).
Если основываться на определении, предложенном А.М. Васильевым, то более правильной
следует признать последнюю точку зрения. Хотя справедливости ради нужно отметить, что, с нашей
точки зрения, категория "наказание" не является предельной для уголовного права, так как она не
охватывает такие понятия, как "уголовная ответственность" и "иные меры уголовно-правового
характера".
Однако ключевым здесь является вопрос: а возможно ли вообще говорить о принципах
категорий?
Ответить на этот вопрос непросто, тем более что среди ученых нет единого мнения
относительно того, что же понимать под самими принципами. Абсолютно не настаивая на единственно
правильном решении анализируемой проблемы, отметим все же, что мы будем исходить из
определения принципов, данного в первой главе монографии, дабы не нарушать общую концепцию
работы.
Итак, как уже было указано ранее, на наш взгляд, под принципами необходимо понимать не
просто "основополагающие начала", "исходные руководящие идеи", а определенные требования,
обязательные для исполнения. Такого рода требования могут быть обращены к какомулибо процессу
(например, назначения наказания) или какой-либо деятельности (например, законодательной или
правоприменительной).
Что же касается категорий, то исходя из определения, указанного выше, - это все-таки понятия,
хотя и предельно общие. Поэтому мы полагаем, что относительно категорий уголовного
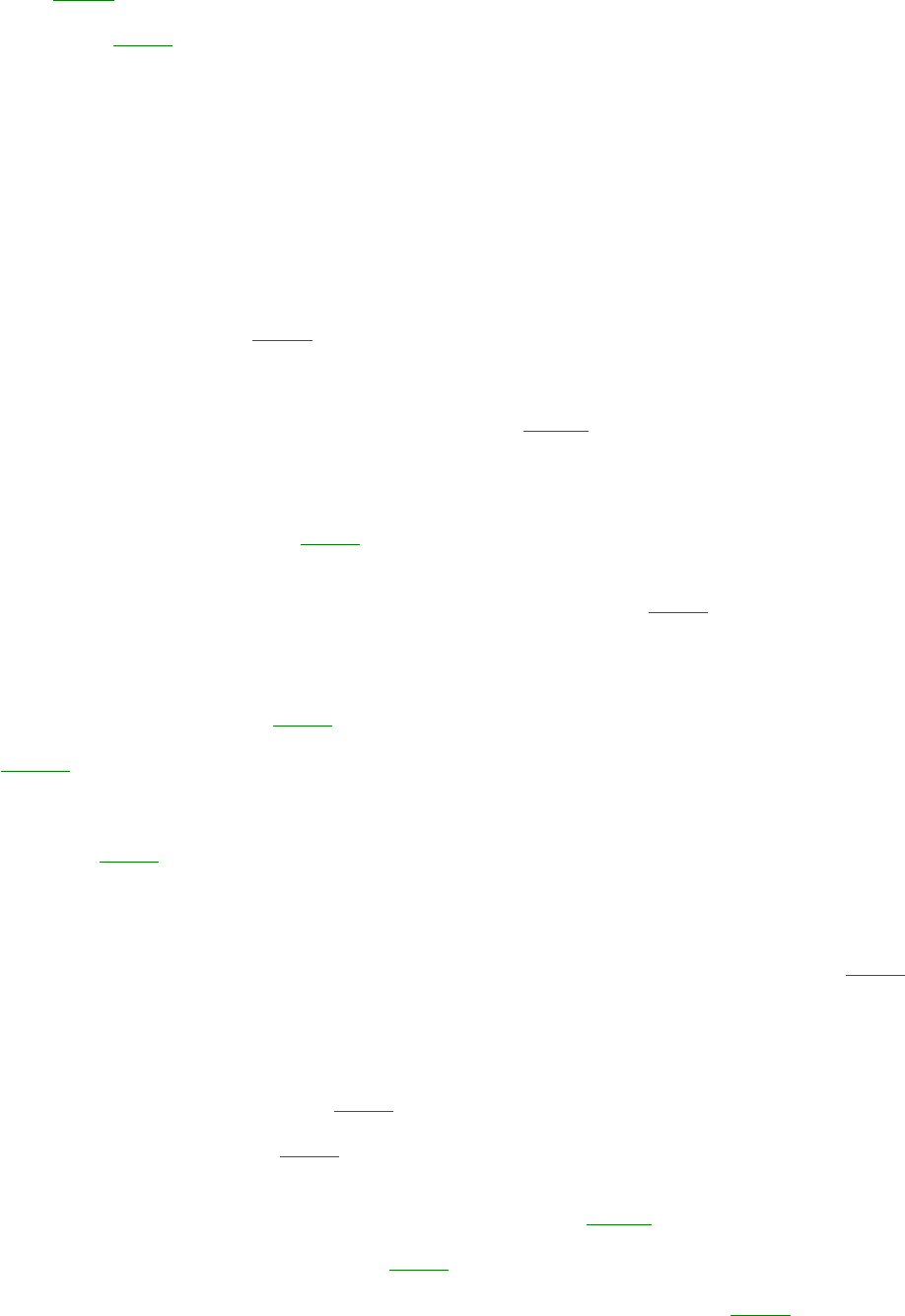
законодательства можно говорить скорее об их свойствах или признаках, чем об их принципах.
Необходимо также отметить, что некоторые исследователи предлагают включать в систему
принципов отрасли уголовного права принципы более мелких структурных элементов. Например, А.С.
Горелик считает, что внутри каждой отрасли можно говорить о принципах подотрасли, институтов права,
групп норм *(217). По мнению А.Н. Попова, следует выделять межнормные принципы и принципы норм
уголовного права, так как "благодаря такой модели система принципов уголовного права становится
ясно очерченной" *(218).
С нашей точки зрения, такое дробное деление может вызвать определенную путаницу.
Бесспорно, на теоретическом уровне можно выделять различные принципы, но будут ли они иметь
какое-либо практическое значение и не приведет ли это к тому, что, помимо основных, каждая норма
будет подчиняться еще и своим специфическим принципам?
Таким образом, исходя из всего изложенного мы считаем, что система принципов отрасли
уголовного права состоит из двух уровней: отраслевых принципов, закрепленных в ст. 3-7 УК РФ, и
принципа институтов уголовного права.
Учитывая ограниченный объем и не выходя за рамки темы нашего исследования, мы
остановимся лишь на системе отраслевых принципов.
Как и любая другая, система принципов уголовного законодательства обладает определенными
признаками, анализ которых позволит нам более подробно раскрыть содержание исследуемого явления.
Следует отметить, что ряд авторов обращают внимание в своих работах на отдельные признаки
рассматриваемой нами системы *(219), хотя комплексно их практически никто не выделяет. Поэтому мы
будем исходить из имеющихся общетеоретических разработок по этому вопросу. Наиболее полно
признаки систем и их классификацию в своей работе рассмотрел В.Н. Садовский. Он выделяет три
группы признаков: характеризующие внутреннее строение системы, характеризующие специфически
системные свойства и относящиеся к поведению системы *(220). Мы в своей работе постараемся
выделить признаки, характеризующие именно систему принципов уголовного законодательства.
1. Множественность элементов
В систему принципов уголовного законодательства входят пять принципов, закрепленных в УК
РФ: принцип законности, принцип равенства граждан перед законом, принцип вины, принцип
справедливости и принцип гуманизма *(221).
2. Структурность
Система принципов уголовного законодательства представляет собой структуру, т.е.
совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих их целостность *(222).
Между элементами структуры, которыми в нашем случае и являются принципы, могут
существовать различные виды связей, последние, в свою очередь, выражают их упорядоченность и
определяют внутреннюю организацию. Прежде всего, функциональные связи могут быть подразделены
на отношения субординации (иерархическое строение) и координации (когда все элементы действуют в
сочетании, как целостная система) *(223).
Некоторые авторы полагают, что для рассматриваемой нами системы характерна иерархичная
связь *(224), т.е. такое соотношение по вертикали, которое представляет собой определенную
иерархию, где определяющее место занимает тот или иной принцип, а все остальные как бы
обусловливаются им. Причем на вершину такой воображаемой пирамиды ставятся различные принципы.
Большинство исследователей считают, что определяющее место в этой иерархии занимает принцип
справедливости *(225).
В.Д. Филимонов обосновывает это тем, что, во-первых, он охватывает своим содержанием все
другие принципы, нарушение любого из которых влечет одновременно и нарушение принципа
справедливости; во-вторых, принцип справедливости предопределяет содержание других принципов; и
в-третьих, при возникновении правовых коллизий при разработке уголовного законодательства или в
процессе его применения вопрос должен решаться в соответствии с принципом справедливости *(226).
С.Н. Сабанин также считает, что в уголовном праве обобщающим является именно принцип
справедливости и предлагает сформулировать в УК РФ статью, посвященную принципам уголовного
законодательства, которая, по его мнению, выглядела бы следующим образом: "Уголовное
законодательство основано на принципе справедливости, составными элементами которого выступают
принципы законности, гуманизма, демократизма, личной и виновной ответственности, дифференциации
ответственности и ее индивидуализации" *(227).
Ю.И. Бытко полагает, что есть все "основания считать принцип справедливости интегративным
по отношению к другим принципам" *(228).
Не умаляя значение принципа справедливости, нам представляется более верным подход к
этому вопросу таких авторов, как А.С. Горелик и В.В. Мальцев, которые полагают, что сначала
необходимо уточнить, о каком уровне справедливости идет речь *(229), и только при обращении к
справедливости как к многоуровневому социальному явлению, можно говорить об интегративной и
определяющей роли принципа справедливости *(230).
Иерархия, согласно Толковому словарю, представляет собой такой порядок, который
характеризуется расположением от низшего к высшему или от высшего к низшему *(231). Однако такой
