Бергсон Анри. Избранное: Сознание и жизнь
Подождите немного. Документ загружается.

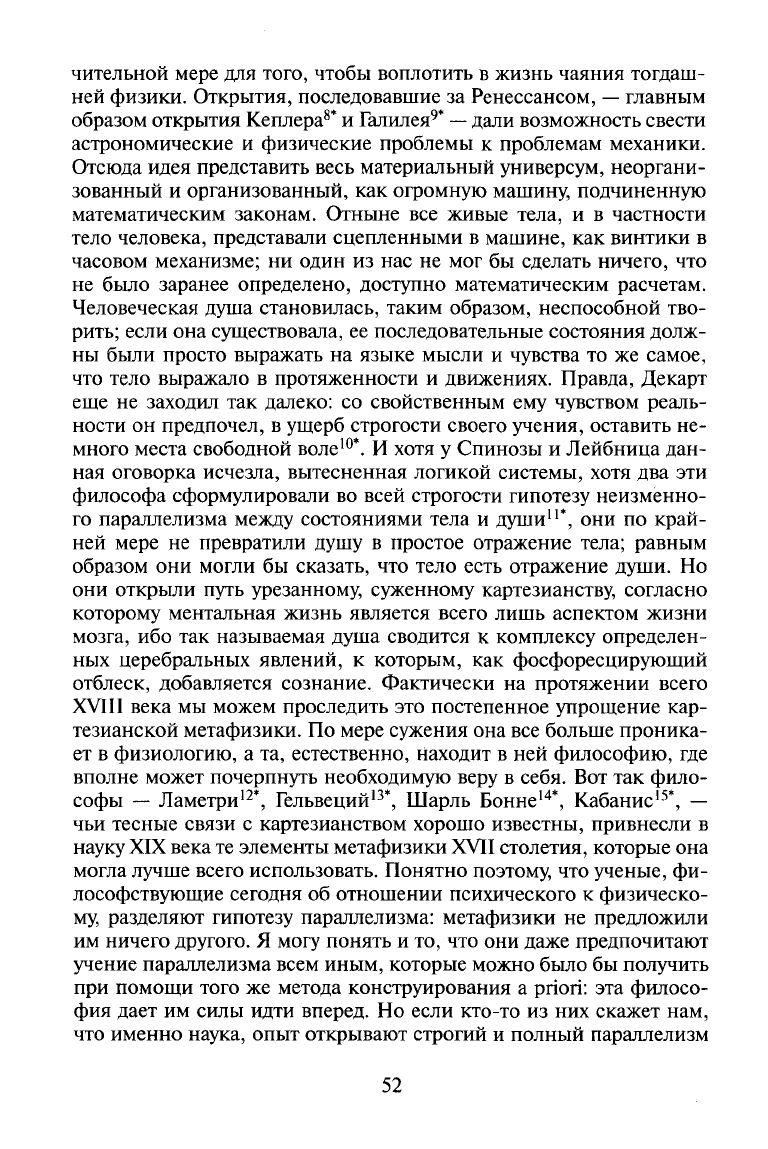
чительной
мере
для
того,
чтобы
воплотить
в
жизнь
чаяния
тогдаш
ней
физики.
Открытия,
последовавшие
за
Ренессансом,
-
главным
образом
открытия
Кеплера
8
*
и
Галилея
9
*
-
дали
возможность
свести
астрономические
и
физические
проблемы
к
проблемам
механики.
Отсюда
идея
представить
весь
материальный
универсум,
неоргани
зованный
и
организованный,
как
огромную
машину,
подчиненную
математическим
законам.
Отныне
все
живые
тела,
и
в
частности
тело
человека,
представали
сцепленными
в
машине,
как
винтики
в
часовом
механизме;
ни
один
из нас
не
мог
бы
сделать
ничего,
что
не
бьшо
заранее
определено,
доступно
математическим
расчетам.
Человеческая
душа
становилась,
таким
образом,
неспособной
тво
рить;
если
она
сушествовала,
ее
последовательные
состояния
долж
ны
бьши
просто
выражать
на
языке
мысли
и
чувства
то
же
самое,
что
тело
выражало
в
протяженности
и
движениях.
Правда,
Декарт
еше
не
заходил
так
далеко:
со
свойственным
ему
чувством
реаль
ности
он
предпочел,
в
ущерб
строгости
своего
учения,
оставить
не
много
места
свободной
воле
lО
*.
И
хотя
у
Спинозы
и
Лейбница
дан
ная
оговорка
исчезла,
вытесненная
логикой
системы,
хотя
два
эти
философа
сформулировали
во всей
строгости
гипотезу
неизменно
го
параллелизма
между
состояниями
тела
и
души
ll
*,
они
по
край
ней
мере
не
превратили
душу
в
простое
отражение
тела;
равным
образом
они
могли
бы
сказать,
что
тело
есть
отражение
души.
Но
они
открьши
путь
урезанному,
суженному
картезианству,
согласно
которому
ментальная
жизнь
является
всего
лишь
аспектом
жизни
мозга,
ибо
так
называемая
душа
сводится
к
комплексу
определен
Hыx
церебральных
явлений,
к
которым,
как
фосфоресцирующий
отблеск,
добавляется
сознание.
Фактически
на
протяжении
всего
XVIII
века
мы
можем
проследить
это
постепенное
упрощение
кар
тезианской
метафизики.
По
мере
сужения
она
все
больше
проника
ет в
физиологию,
а
та,
естественно,
находит
в
ней
философию,
где
вполне
может
почерпнуть
необходимую
веру
в
себя.
Вот
так
фило
софы
-
Ламетри
l2
*,
Гельвеций
13
*,
Шарль
Бонне
l4
*,
Кабанис
1S
*,
-
чьи
тесные
связи
с
картезианством
хорошо
известны,
привнесли
в
науку
XIX
века
те
элементы
метафизики
XVII
столетия,
которые
она
могла
лучше
всего
использовать.
Понятно
поэтому,
что
ученые,
фи
лософствующие
сегодня
об
отношении
психического
к
физическо
му,
разделяют
гипотезу
параллелизма:
метафизики
не
предложили
им
ничего
другого.
Я
могу
понять
и
то,
что
они
даже
предпочитают
учение
параллелизма
всем
иным,
которые
можно
бьшо
бы
получить
при
помощи
того
же
метода
конструирования
а
priori:
эта
филосо
фия
дает
им
силы
идти
вперед.
Но
если
кто-то
из
них
скажет
нам,
что
именно
наука,
опыт
открывают
строгий
и
полный
параллелизм
52
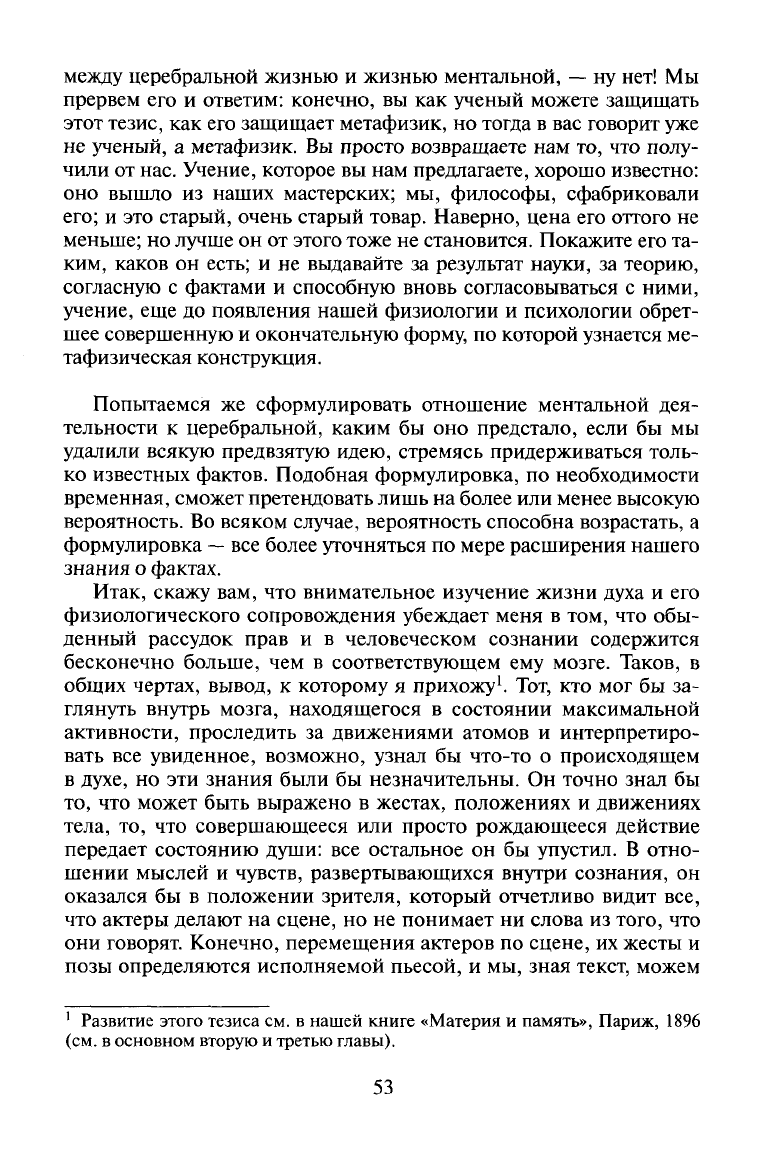
между
церебральной
жизнью
и
жизнью
ментальной,
-
ну
нет!
Мы
прервем
его
и
ответим:
конечно,
вы
как
ученый
можете
защищать
этот
тезис,
как
его
защищает
метафизик,
но
тогда
в
вас
говорит
уже
не ученый,
а
метафизик.
Вы
просто
возвращаете
нам
то,
что
полу
чили
от
нас.
Учение, которое
вы
нам
предлагаете,
хорошо
известно:
оно
вышло
из
наших
мастерских;
мы,
философы,
сфабриковали
его;
и
это
старый,
очень
старый
товар.
Наверно,
цена
его
оттого
не
меньше;
но
лучше
он
от
этого
тоже
не
становится.
Покажите
его
та
ким, каков
он
есть;
и
не
вьщавайте
за
результат
науки,
за
теорию,
согласную
с
фактами
и
способную
вновь
согласовываться
с
ними,
учение,
еще
до
появления
нашей
физиологии
и
психологии
обрет
шее
совершенную
и
окончательную
форму,
по
которой
узнается
ме
тафизическая
конструкция.
Попытаемся
же
сформулировать
отношение
ментальной
дея
тельности
к
церебральной,
каким
бы
оно
предстало,
если
бы
мы
удалили
всякую
предвзятую
идею,
стремясь
придерживаться
толь
ко
известных
фактов.
Подобная
формулировка,
по
необходимости
временная,
сможет
претендовать
лишь
на
более
или
менее
высокую
вероятность.
Во
всяком
случае,
вероятность
способна
возрастать,
а
формулировка
-
все
более
уточняться
по
мере
расширения
нашего
знания
о
фактах.
Итак,
скажу
вам,
что
внимательное
изучение
жизни
духа
и
его
физиологического
сопровождения
убеждает
меня
в
том,
что
обы
денный
рассудок
прав
и
в
человеческом
сознании
содержится
бесконечно
больше,
чем
в
соответствующем
ему
мозге.
Таков,
в
общих
чертах,
вывод,
к
которому
я
прихожуl.
Тот,
кто
мог
бы
за
глянуть
внутрь
мозга,
находящегося
в
состоянии
максимальной
активности,
проследить
за
движениями
атомов
и
интерпретиро
вать
все
увиденное,
возможно,
узнал
бы
что-то о
происходящем
в
духе,
но
эти
знания
были
бы
незначительны.
Он
точно
знал
бы
то,
что
может
быть
выражено
в
жестах,
положениях
и
движениях
тела,
то,
что
совершающееся
или
просто
рождающееся
действие
передает
состоянию
души:
все
остальное
он
бы
упустил.
В
отно
шении
мыслей
и
чувств,
развертывающихся
внутри
сознания,
он
оказался
бы
в
положении
зрителя,
который
отчетливо
видит
все,
что
актеры
делают
на
сцене,
но
не
понимает
ни
слова
из
того,
что
они
говорят.
Конечно,
перемещения
актеров
по
сцене,
их
жесты
и
позы
определяются
исполняемой
пьесой,
и мы,
зная
текст,
можем
1
Развитие
этого
тезиса
см.
в
нашей
книге
«Материя
И
память»,
Париж,
1896
(см.
в
основном
вторую
и
третью
главы).
53
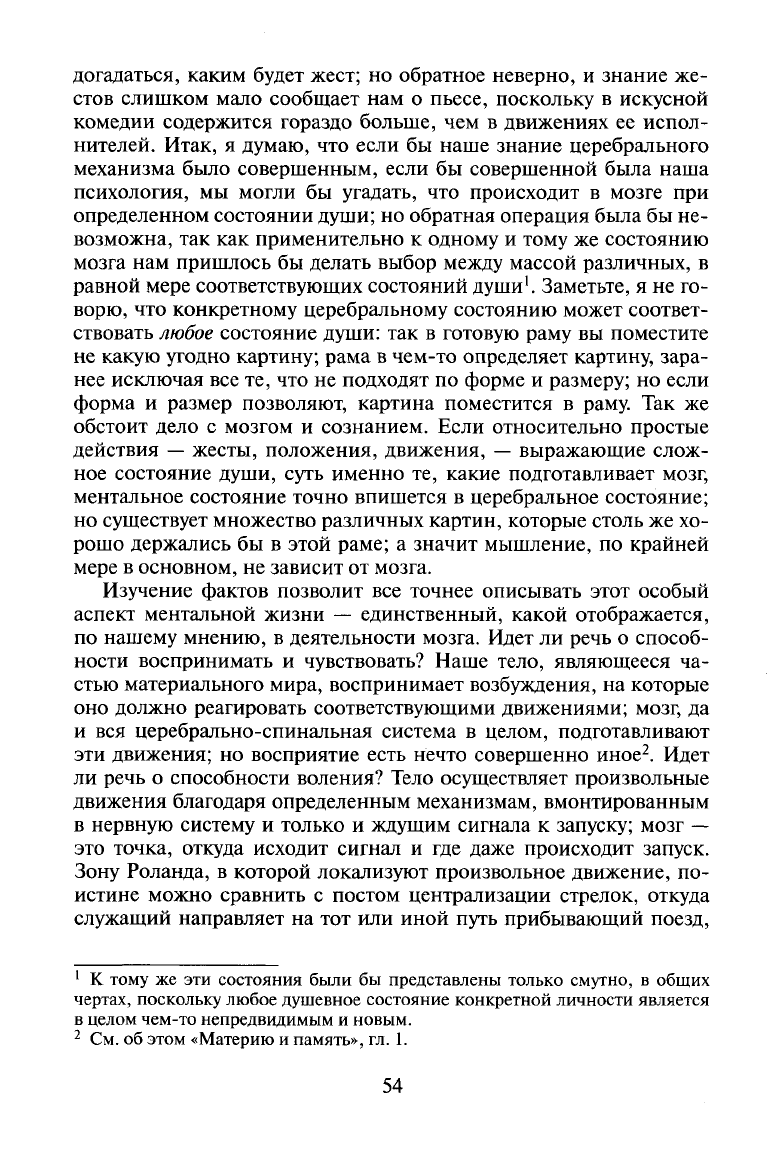
догадаться,
каким
будет
жест;
но
обратное
неверно,
и
знание
же
стов
слишком
мало
сообщает
нам
о
пьесе,
поскольку
в
искусной
комедии
содержится
гораздо
больше,
чем
в
движениях
ее
испол
нителей.
Итак,
я
думаю,
что
если
бы
наше
знание
церебрального
механизма
бьmо
совершенным,
если
бы
совершенной
была
наша
психология,
мы
могли
бы
угадать,
что
происходит
в
мозге
при
определенном
состоянии
души;
но
обратная
операция
бьmа
бы
не
возможна,
так
как
применительно
к
одному
и тому
же
состоянию
мозга
нам
пришлось
бы
делать
выбор
между
массой
различных,
в
равной
мере
соответствующих
состояний
души
l
.
Заметьте,
я
не
го
ворю,
что
конкретному
церебральному
состоянию
может
соответ
ствовать
любое
состояние
души:
так
в
готовую
раму
вы
поместите
не
какую
угодно
картину;
рама
в
чем-то
определяет
картину,
зара
нее
исключая
все
те,
что
не
подходят
по
форме
и
размеру;
но
если
форма
и
размер
позволяют,
картина
поместится
в
раму.
Так
же
обстоит
дело
с
мозгом
и
сознанием.
Если
относительно
простые
действия
-
жесты,
положения,
движения,
-
выражающие
слож
ное
состояние
души,
суть
именно
те,
какие
подготавливает
мозг,
ментальное
состояние
точно
впишется
в
церебральное
состояние;
но
существует
множество
различных
картин,
которые
столь
же
хо
рошо
держались
бы
в
этой
раме;
а
значит
мышление,
по
крайней
мере
в
основном,
не
зависит
от
мозга.
Изучение
фактов
позволит
все
точнее
описывать
этот
особый
аспект
ментальной
жизни
-
единственный,
какой
отображается,
по
нашему
мнению,
в
деятельности
мозга.
Идет
ли
речь
о
способ
ности
воспринимать
и
чувствовать?
Наше
тело,
являющееся
ча
стью
материального
мира,
воспринимает
возбуждения,
на
которые
оно
должно
реагировать
соответствующими
движениями;
мозг,
да
и
вся
церебрально-спинальная
система
в
целом,
подготавливают
эти
движения;
но
восприятие
есть
нечто
совершенно
иное
2
.
Идет
ли
речь о
способности
воления?
Тело
осуществляет
произвольные
движения
благодаря
определенным
механизмам,
вмонтированным
в
нервную
систему
и
только
и
ждущим
сигнала
к
запуску;
мозг -
это
точка,
откуда
исходит
сигнал
и
где
даже
происходит
запуск.
Зону
Роланда,
в
которой
локализуют
произвольное
движение,
по
истине
можно
сравнить
с
постом
централизации
стрелок,
откуда
служащий
направляет
на
тот
или
иной
путь
прибывающий
поезд,
1
К
тому
же
эти
состояния
бьши
бы
представлены
только
смутно,
в
общих
чертах,
поскольку
любое
дущевное
состояние
конкретной
личности
является
в
целом
чем-то
непредвидимым
и новым.
2
См.
об
этом
«Материю
и
память»,
гл.
1.
54
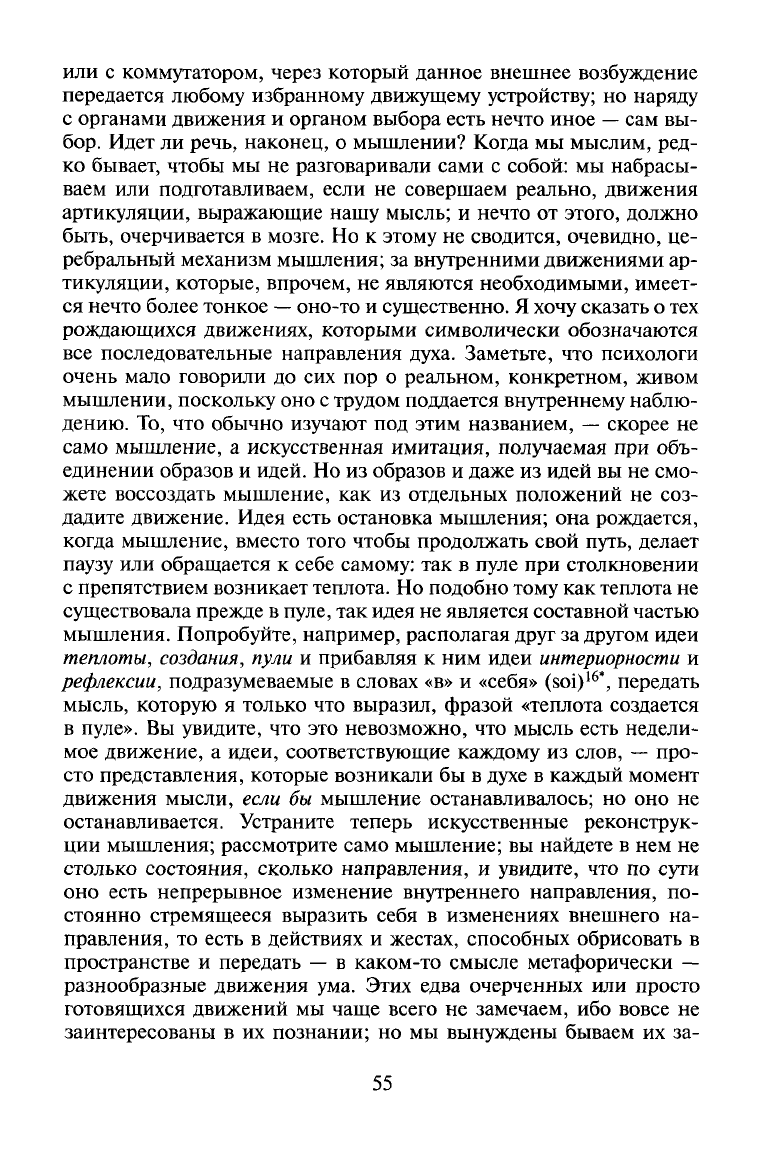
или
с
коммутатором,
через
который
данное
внешнее
возбуждение
передается
любому
избранному
движущему
устройству;
но
наряду
с
органами
движения
и
органом
выбора
есть
нечто
иное
-
сам
вы
бор.
Идет
ли
речь,
наконец,
о
мышлении?
Когда
мы
мыслим,
ред
ко
бывает,
чтобы
мы
не
разговаривали
сами
с
собой:
мы
набрасы
BaeM
или
подготавливаем,
если не
совершаем
реально,
движения
артикуляции,
выражающие
нашу
мысль;
и
нечто
от
этого,
должно
быть,
очерчивается
в
мозге.
Но
к
этому
не
сводится,
очевидно,
це
ребральный
механизм
мышления;
за
внутренними
движениями
ар
тикуляции,
которые, впрочем,
не
являются
необходимыми,
имеет
ся
нечто
более
тонкое
-
оно-то
и
существенно.
Я
хочу
сказать
о
тех
рождающихся
движениях,
которыми
символически
обозначаются
все
последовательные
направления
духа.
Заметьте,
что
психологи
очень
мало
говорили
до
сих
пор
о
реальном,
конкретном,
живом
мышлении,
поскольку
оно
с
трудом
поддается
внутреннему
наблю
дению.
То,
что
обычно
изучают
под
этим
названием,
-
скорее
не
само
мышление,
а
искусственная
имитация,
получаемая
при
объ
единении
образов
и
идей.
Но
из
образов
и
даже
из
идей
вы
не
смо
жете
воссоздать
мышление,
как
из
отдельных
положений
не
соз
дадите
движение.
Идея
есть
остановка
мышления;
она
рождается,
когда
мышление,
вместо
того
чтобы
продолжать
свой
путь,
делает
паузу
или
обращается
к
себе
самому:
так
в
пуле
при
столкновении
с
препятствием
возникает
теплота.
Но
подобно
тому
как
теплота
не
существовала
прежде
в
пуле,
так
идея
не
является
составной
частью
мышления.
Попробуйте,
например,
располагая
друт
за
ДРУТОМ
идеи
теплоты,
создания,
пули
и
прибавляя
к
ним
идеи
интериорности
и
рефлексии,
подразумеваемые
в
словах
«в»
И
«себя»
(SOi)16*,
передать
мысль,
которую
я
только
что
выразил,
фразой
«теплота
создается
в
пуле».
Вы
увидите,
что
это
невозможно,
что
мысль
есть
недели
мое
движение,
а
идеи,
соответствующие
каждому
из
слов,
-
про
сто
представления,
которые
возникали
бы
в
духе
в
каждый
момент
движения
мысли,
если
бы
мышление
останавливалось;
но
оно
не
останавливается.
Устраните
теперь
искусственные
реконструк
ции мышления;
рассмотрите
само
мышление;
вы
найдете
в
нем
не
столько
состояния,
сколько
направления,
и
увидите,
что
по
сути
оно
есть
непрерывное
изменение
внутреннего
направления,
по
стоянно
стремящееся
выразить
себя
в
изменениях
внешнего
на
правления,
то
есть
в
действиях
и
жестах,
способных
обрисовать
в
пространстве
и
передать
-
в
каком-то
смысле
метафорически
-
разнообразные
движения
ума.
Этих
едва
очерченных
или
просто
готовящихся
движений
мы
чаще
всего
не
замечаем,
ибо
вовсе
не
заинтересованы
в
их
познании;
но
мы
вынуждены
бываем
их
за-
55
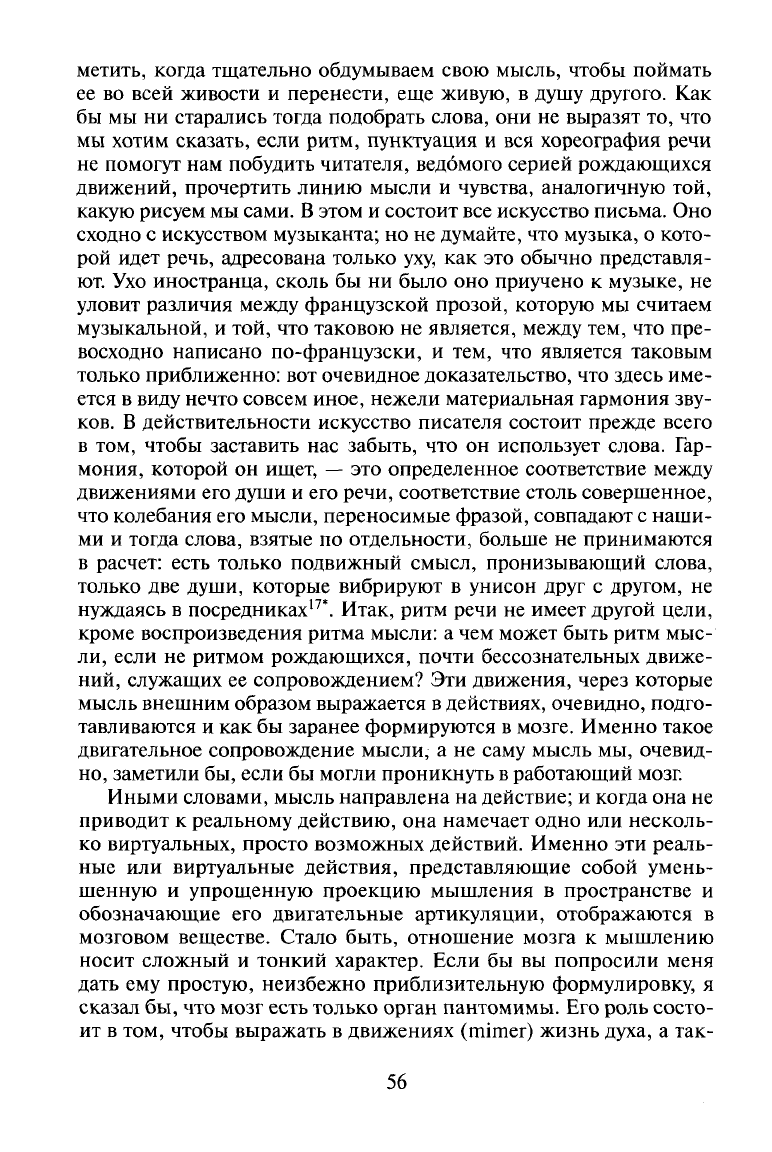
метить,
когда
тщательно
обдумываем
свою
мысль,
чтобы
поймать
ее
во
всей
живости
и
перенести,
еще
живую,
в
душу
другого.
Как
бы
мы
ни
старались
тогда
подобрать
слова,
они
не
выразят
то,
что
мы
хотим
сказать,
если
ритм,
пунктуация
и
вся
хореография
речи
не
помогут
нам
побудить
читателя,
вед6мого
серией
рождающихся
движений,
прочертить
линию
мысли
и
чувства,
аналогичную
той,
какую
рисуем
мы
сами.
В
этом
и
состоит
все
искусство
письма.
Оно
сходно
с
искусством музыканта;
но
не
думайте,
что
музыка,
о
кото
рой
идет
речь,
адресована
только
уху,
как
это
обычно
представля
ют.
Ухо
иностранца,
сколь
бы
ни
бьшо
оно
приучено
к
музыке,
не
уловит
различия
между
французской
прозой,
которую
мы
считаем
музыкальной,
и
той,
что
таковою
не
является,
между
тем,
что
пре
восходно
написано
по-французски,
и
тем,
что
является
таковым
только
приближенно:
вот
очевидное
доказательство,
что
здесь
име
ется
в
виду
нечто
совсем
иное,
нежели
материальная
гармония
зву
ков.
В
действительности
искусство
писателя
состоит
прежде
всего
в
том,
чтобы
заставить
нас
забыть,
что
он
использует
слова.
Гар
мония,
которой
он
ищет,
-
это
определенное
соответствие
между
движениями
его
души
и
его
речи,
соответствие
столь
совершенное,
что
колебания
его
мысли,
переносимые
фразой,
совпадают
с
наши
ми
и
тогда
слова,
взятые
по
отдельности,
больше
не
принимаются
в
расчет:
есть
только
подвижный
смысл,
пронизывающий
слова,
только
две
души,
которые
вибрируют
в
унисон
друг
с
друтом,
не
нуждаясь
в
посредниках
17
*.
Итак,
ритм
речи
не
имеет
друтой
цели,
кроме
воспроизведения
ритма
мысли:
а
чем
может
быть
ритм мыс
ли,
если не
ритмом
рождающихся,
почти
бессознательных
движе
ний,
служащих
ее
сопровождением?
Эти
движения,
через
которые
мысль
внешним
образом
выражается
в
действиях,
очевидно,
подго
тавливаются
и
как
бы
заранее
формируются
в
мозге.
Именно
такое
двигательное
сопровождение
мысли,
а
не саму
мысль
мы,
очевид
но,
заметили
бы,
если
бы
могли
проникнуть
В
работающий
мозг.
Иными
словами,
мысль
направлена
на
действие;
и
когда
она
не
приводит
к
реальному
действию,
она
намечает
одно
или
несколь
ко виртуальных,
просто
возможных
действий.
Именно
эти
реаль
ные
или
виртуальные
действия,
представляющие
собой
умень
шенную
и
упрощенную
проекцию
мышления
в
пространстве и
обозначающие
его
двигательные
артикуляции,
отображаются
в
мозговом
веществе.
Стало
быть,
отношение
мозга
к
мышлению
носит
сложный
и
тонкий
характер.
Если
бы
вы
попросили
меня
дать
ему
простую,
неизбежно
приблизительную
формулировку,
я
сказал
бы, что
мозг
есть
только
орган
пантомимы.
Его
роль
состо
ит
в
том,
чтобы
выражать
в
движениях
(mimer)
жизнь
духа, а
так-
56
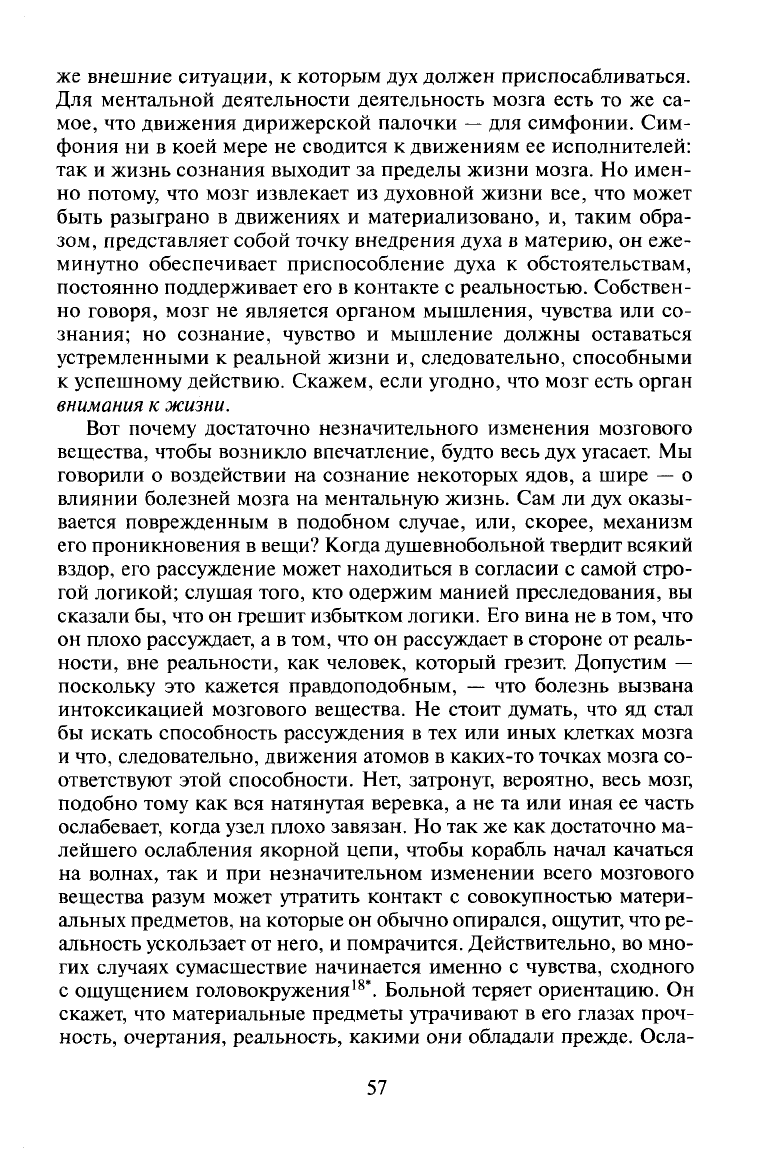
же
внешние
ситуации,
к
которым
дух
должен
приспосабливаться.
Для
ментальной
деятельности
деятельность
мозга
есть
то
же
са
мое,
что
движения
дирижерской
палочки
-
для
симфонии.
Сим
фония
ни
в
коей
мере
не
сводится
к
движениям
ее
исполнителей:
так
и
жизнь
сознания
выходит
за
пределы
жизни
мозга.
Но
имен
но
потому,
что
мозг
извлекает
из
духовной
жизни
все,
что
может
быть
разыграно
в
движениях
и
материализовано,
и,
таким
обра
зом,
представляет
собой
точку
внедрения
духа
в
материю,
он
еже
минутно
обеспечивает
приспособление
духа
к
обстоятельствам,
постоянно
поддерживает
его
в
контакте
с
реа)IЬНОСТЬЮ.
Собствен
но
говоря,
мозг
не
является
органом
мышления,
чувства
или
со
знания;
но
сознание,
чувство
и
мышление
должны
оставаться
устремленными
к
реальной
жизни
и,
следовательно,
способными
к
успешному
действию.
Скажем,
если
угодно,
что
мозг
есть
орган
внимания
к
жизни.
Вот
почему
достаточно
незначительного
изменения
мозгового
вещества,
чтобы
возникло
впечатление,
будто
весь
дух
угасает.
Мы
говорили
о
воздействии
на
сознание
некоторых
ядов,
а
шире
-
о
влиянии
болезней
мозга
на
ментальную
жизнь.
Сам
ли
дух
оказы
вается
поврежденным
в
подобном
случае,
или,
скорее,
механизм
его
проникновения
в
вещи?
Когда
душевнобольной
твердит
всякий
вздор,
его
рассуждение
может
находиться
в
согласии
с
самой
стро
гой
логикой;
слушая
того,
кто
одержим
манией
преследования,
вы
сказали
бы,
что
он
грешит
избытком
логики.
Его
вина
не
в
том,
что
он
плохо
рассуждает,
а в
том,
что
он
рассуждает
в
стороне
от
реаль
ности,
вне
реальности,
как
человек,
который
грезит.
Допустим
-
поскольку
это
кажется
правдоподобным,
-
что
болезнь
вызвана
интоксикацией
мозгового
вещества.
Не
стоит
думать,
что
яд
стал
бы
искать
способность
рассуждения
в
тех
или
иных
клетках
мозга
и
что,
следовательно,
движения
атомов
в
каких-то
точках
мозга
со
ответствуют
этой
способности.
Нет,
затронут,
вероятно,
весь
мозг,
подобно
тому
как
вся
натянутая
веревка,
а
не
та
или
иная
ее
часть
ослабевает,
когда
узел
плохо
завязан.
Но
так
же
как
достаточно
ма
лейшего
ослабления
якорной
цепи,
чтобы
корабль
начал
качаться
на
волнах,
так и
при
незначительном
изменении
всего
мозгового
вещества
разум
может
утратить
контакт
с
совокупностью
матери
альных
предметов,
на
которые
он
обычно
опирался,
ощутит,
что
ре
альность
ускользает
от
него,
и
помрачится.
Действительно,
во
мно
гих
случаях
сумасшествие
начинается
именно
с
чувства,
сходного
с
ощущением
головокружения
1S
*.
Больной
теряет
ориентацию.
Он
скажет,
что
материальные
предметы
утрачивают
в
его
глазах
проч
ность,
очертания,
реальность,
какими
они
обладали
прежде.
Осла-
57
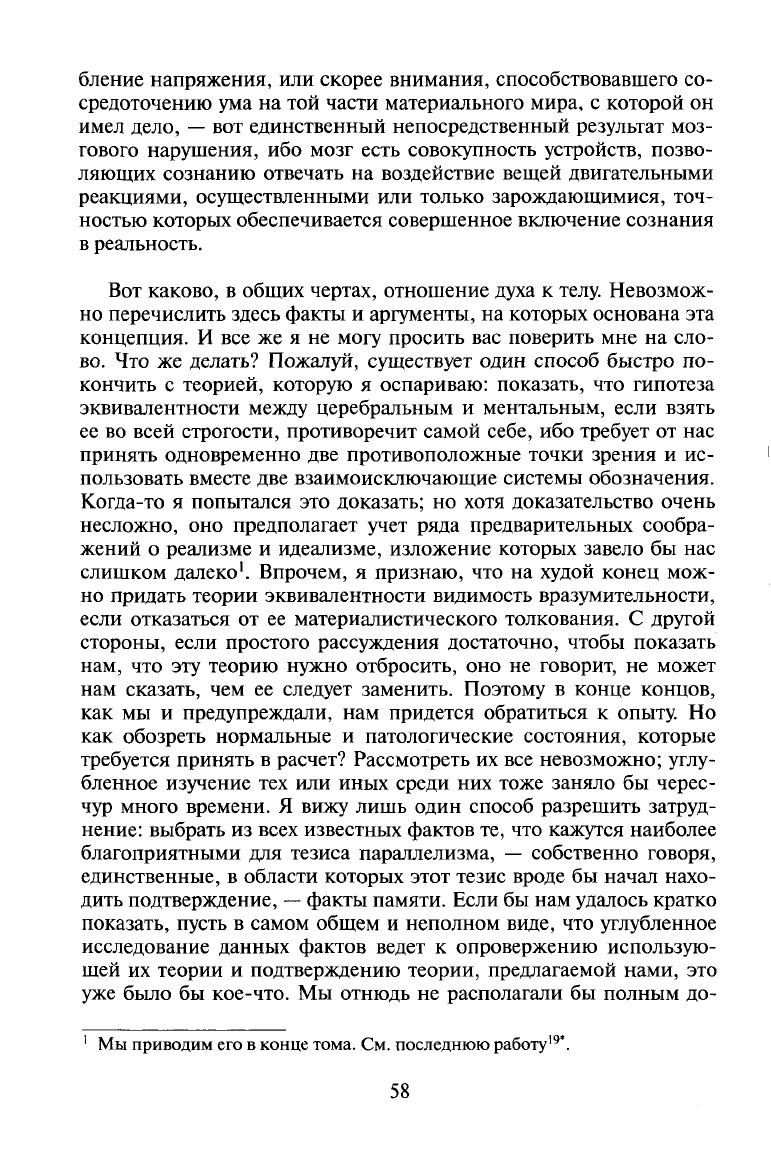
бление
напряжения,
или
скорее
внимания,
способствовавшего
со
средоточению ума
на
той
части
материального
мира,
с
которой
он
имел
дело,
-
вот
единственный
непосредственный
результат
моз
гового
нарушения,
ибо
мозг
есть
совокупность
устройств,
позво
ляющих
сознанию
отвечать
на
воздействие
вещей
двигательными
реакциями,
осуществленными
или
только
зарождающимися,
точ
ностью
которых
обеспечивается
совершенное
включение
сознания
в
реальность.
Вот
каково,
в
общих
чертах,
отношение
духа
к
телу.
Невозмож
но
перечислить
здесь
факты
и
аргументы,
на
которых
основана
эта
концепция.
И
все
же
я
не
могу
просить
вас
поверить
мне
на
сло
во.
Что
же
делать?
Пожалуй,
существует
один
способ
быстро
по
кончить
с
теорией,
которую
я
оспариваю:
показать,
что
гипотеза
эквивалентности
между
церебральным
и
ментальным,
если
взять
ее
во
всей
строгости,
противоречит
самой
себе,
ибо
требует
от
нас
принять
одновременно
две
противоположные
точки
зрения
и
ис
пользовать
вместе
две
взаимоисключающие
системы
обозначения.
Когда-то
я
попытался
это
доказать;
но
хотя
доказательство
очень
несложно,
оно
предполагает
учет
ряда
предварительных
сообра
жений
о
реализме
и
идеализме,
изложение
которых
завело
бы
нас
слишком
далеко·.
Впрочем,
я
признаю,
что
на
худой
конец
мож
но
придать
теории
эквивалентности
видимость
вразумительности,
если
отказаться
от
ее
материалистического
толкования.
С
другой
стороны,
если
простого
рассуждения
достаточно,
чтобы
показать
нам,
что
эту
теорию
нужно
отбросить,
оно
не
говорит,
не
может
нам
сказать,
чем
ее
следует
заменить.
Поэтому
в
конце
концов,
как
мы
и
предупреждали,
нам
придется
обратиться
к
опыту.
Но
как
обозреть
нормальные
и
патологические
состояния,
которые
требуется
принять
в
расчет?
Рассмотреть
их
все
невозможно;
углу
бленное
изучение
тех
или
иных
среди
них
тоже
заняло
бы
черес
чур
много
времени.
Я
вижу
лишь
один
способ
разрешить
затруд
нение:
выбрать
из
всех
известных
фактов
те,
что
кажутся
наиболее
благоприятными
для
тезиса
параллелизма,
-
собственно
говоря,
единственные,
в
области
которых
этот
тезис
вроде
бы
начал
нахо
дить
подтверждение,
-
факты
памяти.
Если
бы
нам
удалось
кратко
показать,
пусть
в
самом
общем
и
неполном
виде,
что
углубленное
исследование
данных
фактов
ведет
к
опровержению
использую
щей
их
теории
и
подтверждению
теории,
предлагаемой
нами,
это
уже
бьmо
бы
кое-что.
Мы
отнюдь
не
располагали
бы
полным
до-
1
Мы
приводим
его в
конце
тома,
См,
последнюю
работу19*,
58
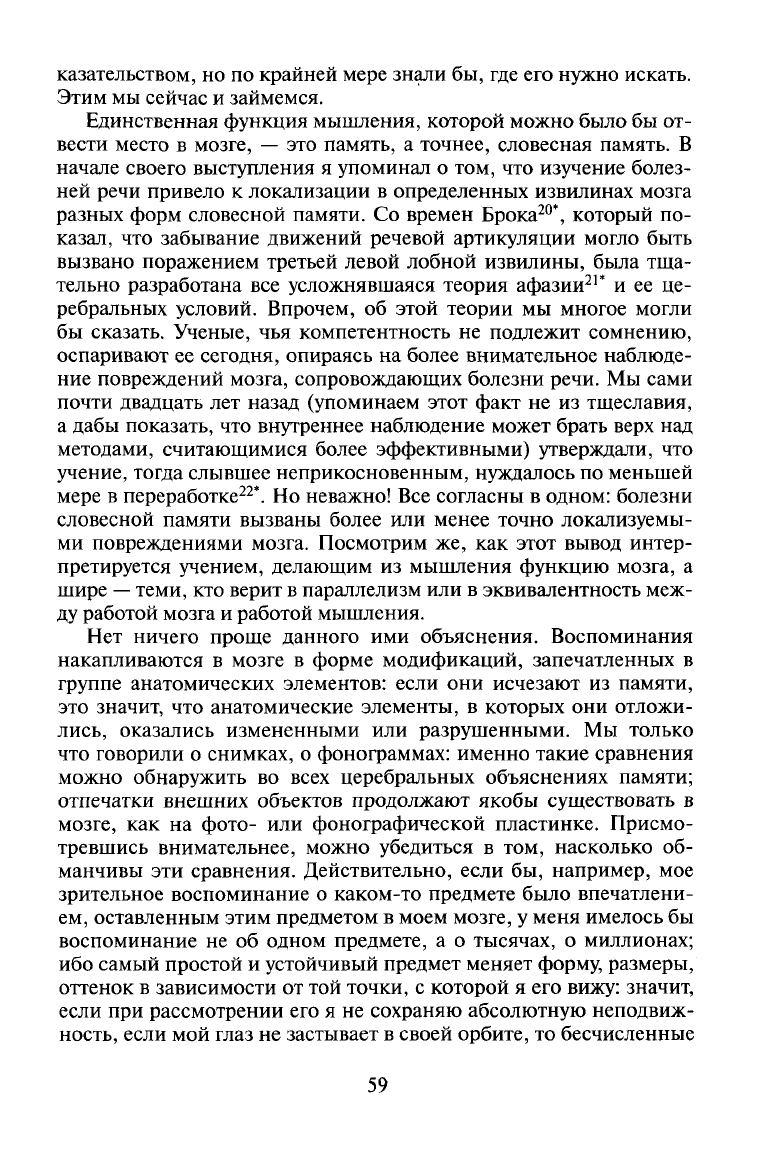
казательством,
но по
крайней
мере
ЗНcpIИ
бы,
где
его
нужно
искать.
Этим
мы
сейчас
и
займемся.
Единственная
функция
мышления,
которой
можно
бьшо
бы
от
вести
место
в
мозге,
-
это
память,
а
точнее,
словесная
память.
В
начале
своего
выступления
я
упоминал
о
том,
что
изучение
болез
ней
речи
привело
к
локализации
в
определенных
извилинах
мозга
разных
форм
словесной
памяти.
Со
времен
Брока
2О
*,
который
по
казал,
что
забывание
движений
речевой
артикуляции
могло
быть
вызвано
поражением
третьей
левой
лобной
извилины,
бьша
тща
тельно
разработана
все
усложнявшаяся
теория
афазии
21
*
и
ее
це
ребральных
условий.
Впрочем,
об
этой
теории
мы
многое
могли
бы
сказать.
Ученые,
чья
компетентность
не
подлежит
сомнению,
оспаривают
ее
сегодня,
опираясь
на
более
внимательное
наблюде
ние
повреждений
мозга,
сопровождающих
болезни
речи.
Мы
сами
почти
двадцать
лет
назад
(упоминаем
этот
факт
не
из
тщеславия,
а
дабы
показать,
что
внутреннее
наблюдение
может
брать
верх
над
методами,
считающимися
более
эффективными)
утверждали,
что
учение,
тогда
слывшее
неприкосновенным,
нуждалось
по
меньшей
мере
в
переработке
22
*.
Но
неважно!
Все
согласны
в
одном:
болезни
словесной
памяти
вызваны
более
или
менее
точно
локализуемы
ми
повреждениями
мозга.
Посмотрим
же,
как
этот
вывод
интер
претируется
учением,
делающим
из
мышления
функцию
мозга,
а
шире
-
теми,
кто
верит
в
параллелизм
или
в
эквивалентность
меж
ду
работой
мозга
и
работой
мышления.
Нет
ничего
проще
данного
ими
объяснения.
Воспоминания
накапливаются
в
мозге
в
форме
модификаций,
запечатленных
в
группе
анатомических
элементов:
если
они
исчезают
из
памяти,
это
значит,
что
анатомические
элементы,
в
которых
ОНИ
отложи
лись,
оказались
измененными
или
разрушенными.
Мы
только
что
говорили
о
снимках,
о
фонограммах:
именно
такие
сравнения
МОЖНО
обнаружить
во
всех
церебральных
объяснениях
памяти;
отпечатки
внешних
объектов
продолжают
якобы
существовать
в
мозге,
как
на
фото-
или
фонографической
пластинке.
Присмо
тревшись
внимательнее,
можно
убедиться
в
том,
насколько
об
манчивы
эти
сравнения.
Действительно,
если
бы,
например,
мое
зрительное
воспоминание
о
каком-то
предмете
бьшо
впечатлени
ем,
оставленным
этим
предметом
в
моем
мозге, у
меня
имелось
бы
воспоминание
не
об
одном
предмете,
а
о
тысячах,
о
миллионах;
ибо
самый
простой
и
устойчивый
предмет
меняет
форму, размеры,
оттенок
в
зависимости
от
той
точки,
с
которой
я
его
вижу:
значит,
если
при
рассмотрении
его
я
не
сохраняю
абсолютную
неподвиж
ность,
если
мой
глаз
не
застывает
в
своей
орбите,
то
бесчисленные
59
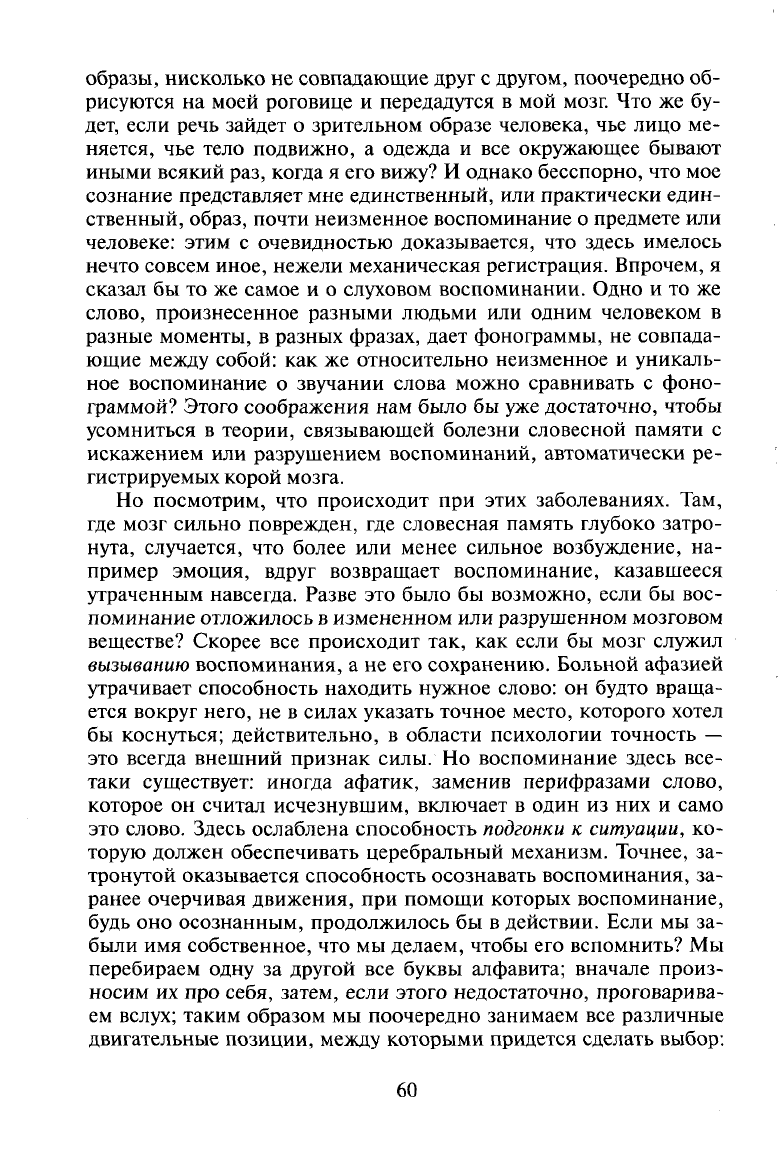
образы,
нисколько
не
совпадающие
друг
с
другом,
поочередно
об
рисуются
на
моей
роговице
и
передадутся
в
мой
мозг.
Что
же
бу
дет,
если
речь
зайдет
о
зрительном
образе
человека,
чье
лицо
ме
няется,
чье
тело
подвижно,
а
одеЖда и
все
окружающее
бывают
иными
всякий
раз,
когда
я
его
вижу?
И
однако
бесспорно,
что
мое
сознание
представляет
мне
единственный,
или
практически
един
ственный,
образ,
почти
неизменное
воспоминание
о
предмете
или
человеке:
этим
с
очевидностью
доказывается,
что
здесь
имелось
нечто
совсем
иное,
нежели
механическая
регистрация.
Впрочем,
я
сказал
бы
то
же
самое
и
о
слуховом
воспоминании.
Одно
и
то
же
слово,
произнесенное
разными
людьми
или
одним
человеком
в
разные
моменты,
в
разных
фразах,
дает
фонограммы,
не
совпада
ющие
меЖдУ
собой:
как
же
относительно
неизменное
и
уникаль
ное
воспоминание
о
звучании
слова
можно
сравнивать
с
фоно
граммой?
Этого
соображения
нам
было
бы
уже
достаточно,
чтобы
усомниться
в
теории,
связывающей
болезни
словесной
памяти
с
искажением
или
разрушением
воспоминаний,
автоматически
ре
гистрируемых
корой
мозга.
Но
посмотрим,
что
происходит
при
этих
заболеваниях.
Там,
где
мозг
сильно
повреЖден,
где
словесная
память
глубоко
затро
нута,
случается,
что
более
или
менее
сильное
возБУЖдение,
на
пример
эмоция,
вдруг
возвращает
воспоминание,
казавшееся
утраченным
навсегда.
Разве
это
бьmо
бы
возможно,
если
бы
вос
поминание
отложил
ось
в
измененном
или
разрушенном
мозговом
веществе?
Скорее
все
происходит
так,
как
если
бы
мозг
служил
вызыванuю
воспоминания,
а
не
его
сохранению.
Больной
афазией
утрачивает
способность
находить
нужное
слово:
он
будто
враща
ется
вокруг
него,
не
в
силах
указать
точное
место,
которого
хотел
бы
коснуться;
действительно,
в
области
психологии
точность
-
это
всегда
внешний
признак
силы.
Но
воспоминание
здесь
все
таки
существует:
иногда
афатик,
заменив
перифразами
слово,
которое
он
считал
исчезнувшим,
включает
в
один
из
них
и само
это
слово.
Здесь
ослаблена
способность
подгонки
к
ситуации,
ко
торую
должен
обеспечивать
церебральный
механизм.
Точнее,
за
тронутой
оказывается
способность
осознавать
воспоминания,
за
ранее
очерчивая
движения,
при
помощи
которых
воспоминание,
будь
оно
осознанным,
продолжилось
бы
в
действии.
Если
мы
за
бьmи
имя
собственное, что
мы
делаем,
чтобы
его
вспомнить?
Мы
перебираем
одну
за
другой
все
буквы
алфавита;
вначале
произ
носим
их
про
себя,
затем,
если
этого
недостаточно,
проговарива
ем
вслух;
таким
образом
мы
поочередно
занимаем
все
различные
двигательные
позиции,
меЖдУ
которыми
придется
сделать
выбор:
60
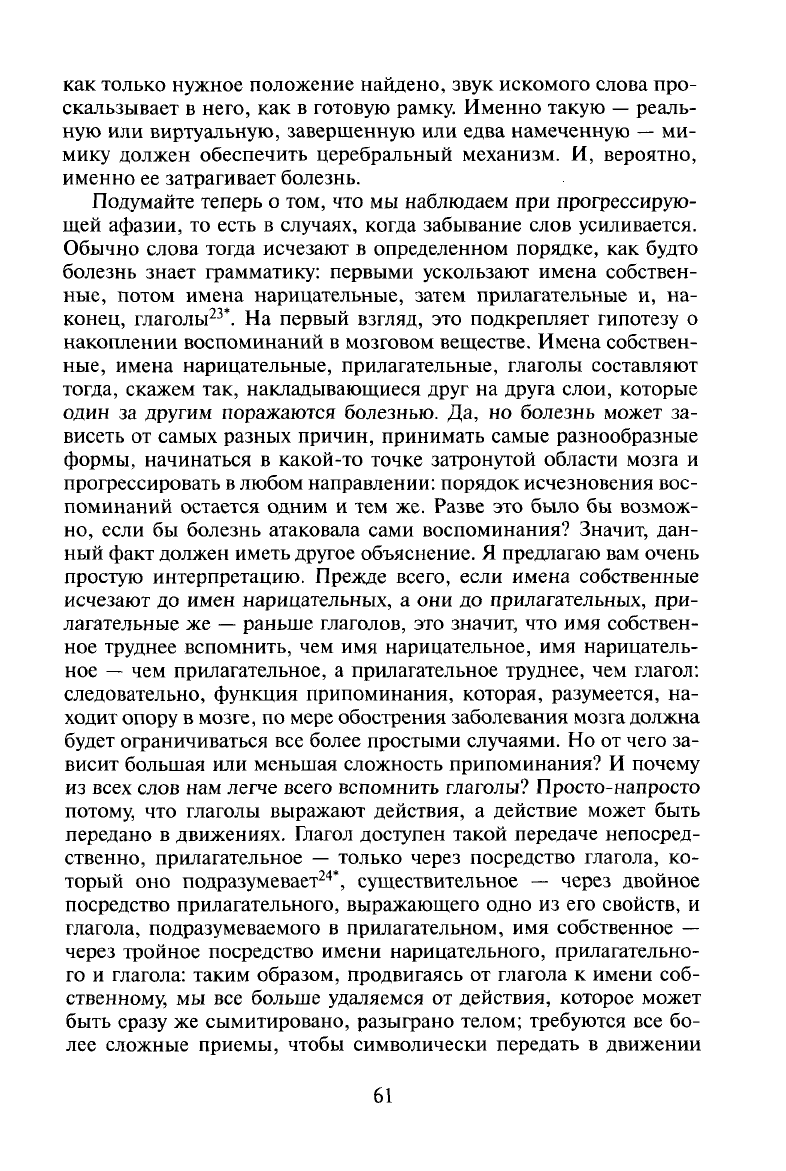
как
только
нужное
положение
найдено,
звук
искомого
слова
про
скальзывает
в
него,
как
в
готовую
рамку.
Именно
такую
-
реаль
ную
или
виртуальную,
завершенную
или
едва
намеченную
-
ми
мику
должен
обеспечить
церебральный
механизм.
И,
вероятно,
именно
ее
затрагивает
болезнь.
Подумайте
теперь
о
том,
что
мы
наблюдаем
при
прогрессирую
щей
афазии,
то
есть
в
случаях,
когда
забывание
слов
усиливается.
Обычно
слова
тогда
исчезают
в
определенном
порядке,
как
будто
болезнь
знает
грамматику:
первыми
ускользают
имена
собствен
ные,
потом
имена
нарицательные,
затем
прилагательные
и,
на
конец,
глаголы
2З
*.
На
первый
взгляд,
это
подкрепляет
гипотезу
о
накоплении
воспоминаний
в
мозговом
веществе.
Имена
собствен
ные,
имена
нарицательные,
прилагательные,
глаголы
составляют
тогда,
скажем
так,
накладывающиеся
друг
на
друга
слои,
которые
один
за
другим
поражаются
болезнью.
Да,
но
болезнь
может
за
висеть
от
самых
разных
причин,
принимать
самые
разнообразные
формы,
начинаться
в
какой-то
точке
затронутой
области
мозга
и
прогрессировать
в
любом
направлении:
порядок
исчезновения
вос
поминаний
остается
одним
и
тем
же.
Разве
это
бьшо
бы
возмож
но,
если
бы
болезнь
атаковала
сами
воспоминания?
Значит,
дан
ный
факт
должен
иметь
другое
объяснение.
Я
предлагаю
вам
очень
простую
интерпретацию.
Прежде
всего,
если
имена
собственные
исчезают
до
имен
нарицательных,
а
они
до
прилагательных,
при
лагательные
же
-
раньше
глаголов,
это
значит,
что
имя
собствен
ное
труднее
вспомнить,
чем
имя
нарицательное,
имя
нарицатель
ное
-
чем
прилагательное,
а
прилагательное
труднее,
чем
глагол:
следовательно,
функция
припоминания,
которая,
разумеется,
на
ходит
опору
в
мозге,
по
мере
обострения
заболевания
мозга
должна
будет
ограничиваться
все
более
простыми
случаями.
Но
от
чего
за
висит
большая
или
меньшая
сложность
припоминания?
И
почему
из
всех
слов
нам
легче
всего
вспомнить
глаголы?
Просто-напросто
потому,
что
глаголы
выражают
действия,
а
действие
может
быть
передано
в
движениях.
Глагол
доступен
такой
передаче
непосред
ственно,
прилагательное
-
только
через
посредство
глагола,
ко
торый
оно
подразумевает
24
*,
существительное
-
через
двойное
посредство
прилагательного,
выражающего
одно
из
его
свойств,
и
глагола,
подразумеваемого
в
прилагательном,
имя
собственное
-
через
тройное
посредство
имени
нарицательного,
прилагательно
го
и
глагола:
таким
образом,
продвигаясь
от
глагола
к
имени
соб
ственному,
мы
все
больше
удаляемся
от
действия,
которое
может
быть
сразу
же
сымитировано,
разыграно
телом;
требуются
все
бо
лее
сложные
приемы,
чтобы
символически
передать
в
движении
61
