Азадовский М.К. История русской фольклористики
Подождите немного. Документ загружается.

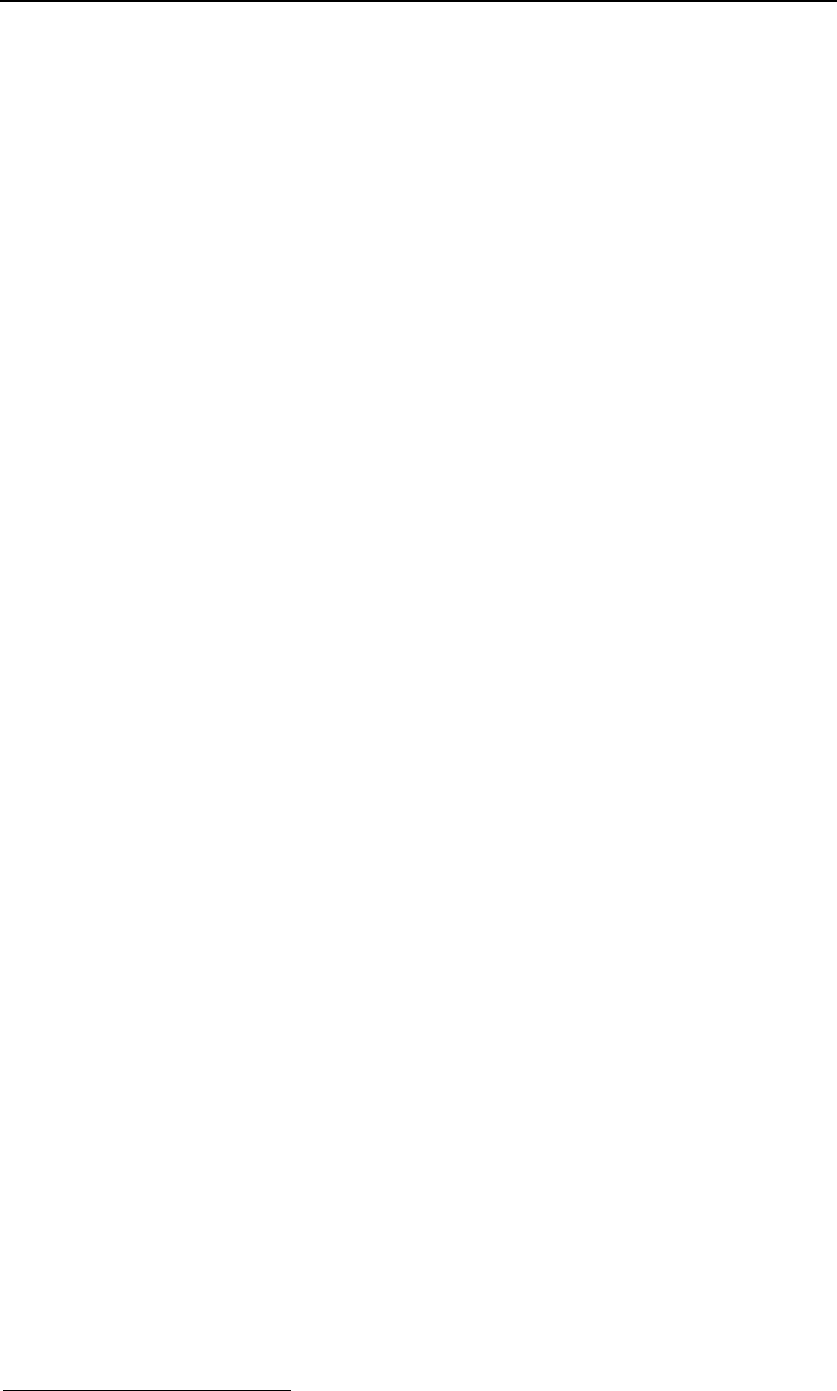
М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе 40-х годов.
безусловно, велика и органична. Философия истории славянофилов, их
понимание исторического процесса сложились как результат кризиса
помещичьего хозяйства, как результат экономических потрясений и страха
перед надвигающейся крестьянской революцией, обострявшегося под
влиянием роста революционного движения на Западе. Этот общий
социально-политический смысл славянофильства нужно отчетливо
учитывать при оценке его значения в деле изучения народной словесности.
Славянофилы направили складывающуюся русскую фольклористику на
ложный и порочный путь, чем очень тормозилось ее развитие, и
понадобилась длительная и упорная борьба ряда поколений критиков-
публицистов и ученых-исследователей, чтоб освободиться от давящей
власти славянофильского наследия.
Наследие славянофилов в области фольклористики оказалось тесно
связано с наследием официальной народности. Историки славянофильства
обычно всегда подчеркивают идейное расхождение и различные истоки
мировоззрения собственно славянофилов и представителей официальной
народности, какими являлись Шевырев или Погодин. Это расхождение
отмечали и западники (особенно Герцен), позже на нем настаивал
Чернышевский, который отмечал «горячую ревность» славянофилов к
просвещению и подчеркивал личные привлекательные черты Аксаковых,
Киреевских,
370
Хомякова, Кошелева, решительно противопоставляя им деятелей типа
Шевырева.
Несомненно, по целому ряду кардинальнейших вопросов славянофилы
резко расходились с теоретиками официальной народности. Различны были
их идейные истоки, различно было отношение к бюрократическому строю
и бюрократической системе русского государства, различно было
отношение к проблеме народа и народности; но вместе с тем следует
признать, что на практике, в конечных выводах, те и другие сближались.
Этот факт вынуждены были признать и историки славянофильства,
сочувственно расположенные к нему и склонные идеализировать его
деятелей. Так, например, Н. Колюпанов в обширной биографии Кошелева
прямо заявляет: «Положительная сторона учения славянофилов обнимала в
сущности те основные положения, которые высказаны были в
коронационном манифесте императора Николая: православие,
самодержавие, народность»
1
. Это сближение было вполне закономерным и
неизбежным следствием исходных классовых позиций славянофилов.
В фольклористике связь славянофилов с реакционной идеологией
обнаруживается наиболее сильно, и в свою очередь теоретики официальной
народности очень многое позаимствовали у славянофилов. Это дает
возможность под общим термином «славянофильская фольклористика»
рассматривать деятельность в области фольклористики не только
собственно славянофилов, но и их неизменных попутчиков из правого
лагеря, тем более что и сами они не всегда достаточно от них
отмежевывались.
1
Н. Колюпанов, Биография Кошелева, т, II, М., 1892, стр. 130.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе 40-х годов.
Особенности славянофильского понимания народной поэзии и задач и
методов ее изучения коренятся в их концепциях пути развития России и
роли русского народа в мировом историческом процессе.
Славянофильство в целом охватывает собой длительный период.
Современные исследователи различают поэтому славянофильство
дореформенной эпохи и позднее. Первый период славянофильства именуют
иначе классическим славянофильством; к нему относятся имена бр.
Киреевских, К. Аксакова, А. Хомякова, Ю. Самарина, А. Кошелева,
Д. Валуева и некоторых других. В настоящей главе речь идет о первом
периоде, т. е. о классическом славянофильстве, сложившемся как
определенное общественно-политическое учение к концу 30-х годов. Но в
классическом славянофильстве нужно различать две генерации: старших и
младших славянофилов. К старшим относятся бр. Киреевские, Хомяков,
А. Кошелев; к младшим — К. Аксаков, Ю. Самарин, Д. Валуев. Это деление
имеет в основе не только хронологические моменты, но и идейные.
Старшие вышли из круга любомудров, младшие идейно формировались в
московских кружках 30-50-х годов, в тесном единении с будущими своими
противни-
371
ками,— западниками. Некоторые исследователи отмечают и различные
философские позиции старших и младших славянофилов. Первые
воспитывались на философии Шеллинга, младшие в своих философских и
исторических построениях в значительной степени опирались на Гегеля.
Однако это не вполне точно и не покрывает всех оттенков историко-
философских концепций славянофилов.
Наконец, младшие уделяли большее внимание проблеме народности
(сближаясь в этом пункте с Петром Киреевским) и выработали более
демократическое ее понимание. Они же с наибольшей полнотой
разработали учение об особой сущности русского народа и об особой
предназначенной ему роли в дальнейших судьбах Европы. С начала 40-х
годов, после происшедшего объединения старших и младших и
окончательного разрыва с западниками, эти положения становятся
доминирующими в славянофильской среде и определяют ее основные
позиции.
Гегель развил далее и подробно разработал намеченное Шеллингом
учение об особом вкладе каждого народа в мировую культуру. Основным
моментом в учении Гегеля о всемирно-историческом прогрессе явилось
понятие о народном духе. Только благодаря последнему происходит
процесс раскрытия всемирного духа во времени. Формами проявления
этого духа являются государства, содержание же раскрывается лишь в
исторической деятельности народов. Государство, по Гегелю,— только
некая общая форма; определенное содержание вносит лишь народный дух.
Народный дух определяет собой все стороны конкретной действительности
государства: он определяется в философии, в искусстве, в религии; им
одушевлены все действия государства, его учреждения, социальные
институты, войны и т. д. Этот тезис о народном духе как основной
движущей силе в истории стал центральным в концепциях
славянофильства. Опираясь на эти положения, славянофилы построили
догматическую теорию о некоем неизменном духе русского народа и его
совершенно отличном от других народов пути развития. Но, как

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе 40-х годов.
исчерпывающе раскрыто Лениным, в области философии истории Гегель
«наиболее устарел и антиквирован»
1
. Его учение о духе имеет реакционный
характер: оно выражено в мистической форме и антиисторично по своей
сущности; в жизни народов Гегель искал воплощения неких постоянных
нравственных категорий, что и приводило не только к антиисторическим
идеалистическим представлениям о структуре и развитии общества, но и к
националистским концепциям, вплоть до шовинистической идеализации
пруссачества.
Эти реакционно-идеалистические концепции сыграли роковую роль в
создании и философском обосновании славянофильской теории. Опираясь
на нее, славянофилы стремились построить учение об особом пути русского
народа и основных особенностях народного характера. Основное начало
русского народного духа
372
они, конечно, совершенно произвольно усматривали в религиозном начале
и в некоем особом, по существу изобретенном ими характере веры русского
народа. В этом пункте славянофилы-гегельянцы типа К. Аксакова или
Ю. Самарина сроднились со старшими. Эти тенденции пропагандировал и
развивал далее шеллингианец И. Киреевский.
Здоровая идея о великой нравственной силе русского народа опиралась
не на анализ конкретной исторической действительности, не на анализ
социальных противоречий, обусловивших исторический путь народа, а
выражалась в отвлеченных идеалистических категориях. Поэтому
И. Киреевский никогда не умел представить себе подлинной специфики
исторического развития России и путей культурного развития народа. Это
характерно проявилось уже в первый период его деятельности, в период
«любомудрия», когда он утверждал (этому посвящена его статья,
открывшая журнал «Европеец»), что раскрыть все стороны своего
характера и свою историческую роль русский народ сумеет только через
усвоение основных идей западного просвещения и западной целостной
культуры. Причем, само-то «западное просвещение» изображалось
Киреевским в религиозно-романтической оболочке. И. Киреевский был
убежден, что именно русский народ и призван воплотить в своей истории
эти «лучшие» стороны западноевропейских идеалов. Он полагал, что
только приобщение к этой западноевропейской культуре обеспечит
русскому народу сохранение его лучших свойств, иначе они заглохнут и
потонут в море некультурности и необразованности.
В дальнейшем Иван Киреевский все более и более развивал
теологические стороны своего учения, для чего неизменно находил опору у
Шеллинга, который в разработке своей «философии откровения» усиленно
интересовался византизмом и мистическими элементами восточного
христианства.
Революционное движение на Западе и рост революционных и
социалистических идей в России заставили в дальнейшем Киреевского
отойти от своей установки на Запад. Последовательно развивая свою
основную идею, он пришел к утверждению о чуждости и враждебности
русскому народу путей западноевропейского развития. На Западе
развивались парламентские учреждения, в общественном движении резко
1
В. И. Ленин, Философские тетради, изд. ЦК ВКП(б), 1934, стр.251.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе 40-х годов.
обозначалась классовая борьба, и уже заметно проявлялись рост и влияние
рабочего класса. Европейское просвещение, казавшееся столь
привлекательным молодым любомудрам, теперь стало обертываться
другой стороной. Чуждая, как им казалось, этим желаниям Россия теперь
представала в ином свете, и именно в ней склонны были Киреевский и его
друзья искать отпора против этого нового движения западноевропейской
истории. Мессианистские идеи, бывшие в конце 20-х и в начале 30-х годов в
зародыше, теперь получают новое развитие и новое обоснование. Верный
своему религиозному принципу, И. Киреевский формулирует идею особого
назначения Рос-
373
сии: она сохранила то, что растерял Запад; в простой вере русского народа
хранится тот залог дальнейшего развития, который уже утрачен Западом,
пошедшим по иному историческому пути. П. Г. Виноградов считает, что все
взгляды Киреевского легко укладываются в два-три основных тезиса.
Культура Западной Европы грешит односторонним рационализмом;
русская же народная жизнь, напротив, отличается цельностью своего
духовного начала и требует гармонического соединения ума, сердца и воли;
этой цельностью держится православие; будущая цивилизация зависит от
того, по какому пути она пойдет, а пойти она должна, конечно, под
влиянием православия
1
.
Таким образом, в основе понимания исторического процесса русского
народа у славянофилов лежала религиозная точка зрения, притом в ее
православно-христианской специфике. В этом сходились все славянофилы
без исключения: и оба Киреевских, и Аксаковы, и А. Хомяков, и
Ю. Самарин, и А. Кошелев. По свидетельству Н. Колюпанова, все они
признавали веру за исходную точку и верховное начало всей внутренней и
личной жизни, а потому ей были подчинены в учении славянофилов «все
сферы мышления и деятельности человеческой». В религиозном свете
представлялась им и вся русская история; последняя есть не что иное, как
развитие этих основных элементов русского народного характера.
Отсюда — и идеализация древнерусского быта, древнерусского
образования, древнерусской культуры в целом, основанной, по мнению
славянофилов, на религиозных идеях; отсюда же и специфическое
славянофильское понимание основных свойств русского народа, самой
характерной чертой которого они считали религиозно-нравственную
высоту и смирение.
Славянофилов часто упрекали в том, что они совершенно некритически
и произвольно отрицали западную культуру целиком, утверждая, что
древняя Русь была всегда культурнее или образованнее Западной Европы.
Это неверно: никто из славянофилов так не ставил вопроса; для них
основное было в другом: они утверждали, что путь, которым шла древняя
Русь, был иным, чем путь Западной Европы, и что идеи, которые она
выработала, были глубже, возвышеннее, нравственнее, целостнее.
Славянофилы утверждали, что основной задачей русского народа является
развитие своей собственной, совершенно отличной от западноевропейской
культуры и вытекающей из основных свойств русского народного духа:
1
См. Н. Колюпанов, Биография Кошелева, т. II, М., 1892, стр. 133.
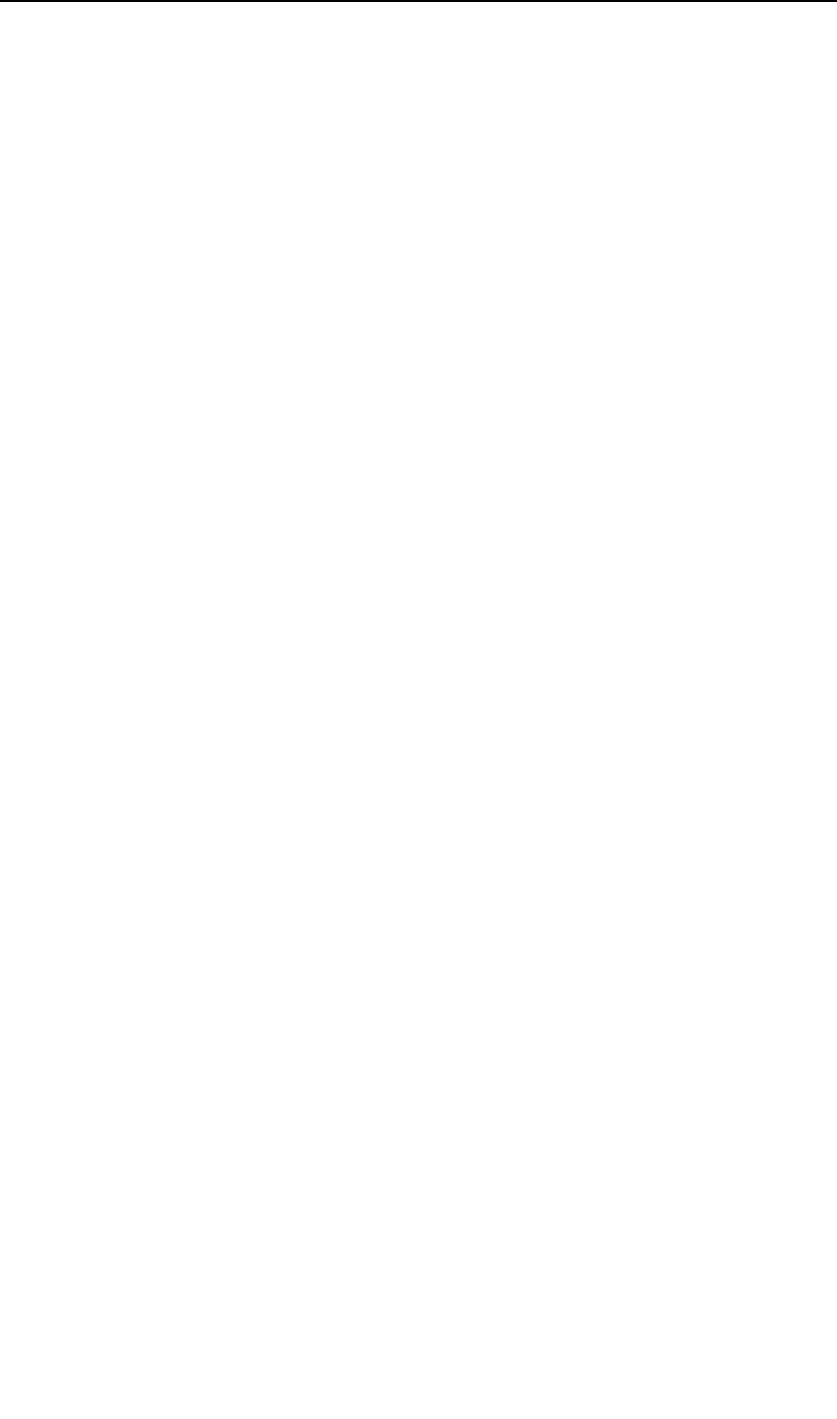
М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе 40-х годов.
национальная народная культура должна была подняться над культурой
европейской и стать во главе всего человечества.
Эта вера в высокую силу и мощь русского народа и в творческий
характер русской народной культуры является, конечно, очень
привлекательной чертой в славянофильских концепциях, но она вовсе не
является специфической для славянофильства как
374
такового. Белинский или Герцен в неменьшей степени были убеждены в
творческой силе русского народа и его великой прогрессивной и
оздоровляющей роли в Европе. Но для славянофилов была характерна
специфика понимания культуры народа и его исторической миссии. Путь
исторического развития России оказывался в их концепциях суженным,
ограниченным и в прошлом и в будущем и мыслился в полном отрыве от
передовых идей культуры Запада. В этом же плане, исходя из понимания
религиозного характера русского народа, славянофилы интерпретировали
и сущность политического миросозерцания народа, и смысл его творчества,
т. е. русской народной поэзии.
§ 2. Славянофилы с большой настойчивостью разрабатывали проблему
народности, стремясь найти ее точные определения и осмыслить ее
исторически и философски. К. Аксаков полагал даже, что определение
народности является основной задачей нового учения; однако
славянофильские воззрения на этот вопрос не отличаются достаточной
ясностью и представляются путаными и противоречивыми. Так, например,
для К. Аксакова одним из существеннейших элементов понятия народности
был момент простонародности. Аксаков во всех своих писаниях утверждал
своеобразный культ простого народа (который представлялся ему, конечно,
в специфически идеализованно-христианизированном виде); такое же
отношение было характерно и для Петра Киреевского, но Иван
Киреевский, верный своим установкам, сложившимся еще в эпоху
любомудрия, очень прохладно относился к такого рода построениям и
считал глубоко ошибочным сведение народности к простонародности, или
даже чрезмерное подчеркивание последнего элемента. «Народность» Иван
Киреевский определял как «совокупность убеждений, более или менее
развитых в нравах народа, в его обычаях, языке, сердечных и умственных
понятиях, в его религиозных, общественных и личных отношениях,—
одним словом, во всей полноте его жизни», носителем которой не мог
явиться только один простой народ.
К. Аксаков стремился уточнить и разграничить понятия «народа» и
«народности». «Народность» для него «личность народа». «Как человек не
может быть без личности,— писал он,— так и народ без народности»; одна
только народность дает возможность народу понять другие народности.
Ю. Самарин понимал под народностью не только «фактическое проявление
отличительных свойств народа в данную эпоху, но и те начала, которые
народ признает, в которые он верует, к осуществлению которых он
стремится, которыми он поверяет себя, по которым судит о себе и о других.
Эти начала мы называем народными,— пишет он,— Потому что целый
народ их себе усвоил, внес их как власть, как правящую силу в свою жизнь;
но эти же начала представляются народу ненародными (т. е. не
историческими и ограниченными), а безусловно — истинными,
абсолютными.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе 40-х годов.
375
Потому-то народ и вносит их в свою жизнь, что он видит в них полную и
высшую истину, за которою, свыше и далее которой не хватает его
сознание»
1
; «народность» органически присуща народному сознанию;
народ никогда не выходит из ее пределов, ибо это значило бы перерасти
себя. Потому-то для народа «не предстоит никогда возможности выбора
между народным, сознанным как ложь, и истинным»
2
. Начала, внесенные в
нашу культуру племенами романскими или германскими, представлялись
Самарину и его единомышленникам «односторонними», т. е.
«относительно ложными».
Н. Колюпанов считал возможным свести разнообразные оттенки
славянофильской концепции народности к следующей формуле: «Под
народностью,— говорил он,— разумеется расовая или племенная
особенность, которая народу, как отдельному и самостоятельному целому,
придает личность или характер»
3
. Черты для такой личности образуются в
результате всей исторической жизни народа. Однако такая формула не
охватывает всех оттенков мыслей славянофилов по этому вопросу. Кроме
того, она недостаточно вскрывает отличие славянофильского понимания
народности от понимания их правых попутчиков. Определение Самарина,
например, захватывает более широкий круг проблем, включая и всю
систему трудно уловимых народных верований и народных идеалов.
Для Самарина — ив этом отношении его позиции являются типичными
для всего славянофильства — понятие народности включает в себя и
признак не только религиозный, но и конфессиональный: «Говоря о
русской народности, мы понимаем ее,— писал он в статье «О народности в
науке»,— в неразрывной связи с православною верою, из которой истекает
вся система нравственных убеждений, правящих семейною и общественною
жизнью русского человека»
4
.
Это сближало «славянофильскую народность» с теориями официальной
народности, но лишь внешне, формально; по существу же понимание
народности у славянофилов резко отличалось от концепций и официальной
народности, и генетически близких к славянофилам любомудров.
В качестве одного из основных своих принципов славянофилы
провозглашали лозунг признания народа как огромной движущей силы.
Они неизменно подчеркивали свою веру в великие нравственные силы
народа и давали высокую оценку народных масс. Это повышенное и порой
страстное отношение к народу являлось причиной того уважения к
славянофильским деятелям, какое мы встречаем у Герцена, Чернышевского,
у молодого Салтыкова и других деятелей западничества и революционной
демократии; оно
376
же неоднократно отмечалось историками литературы как положительное и
прогрессивное начало в учении славянофилов. Такую точку зрения мы
1
Ю Ф. Самарин, Сочинения, т. I, M., 1877, стр. 150—151.
2
Там же, стр. 151.
3
Н. Колюпанов, Биография Кошелева, т. п. М. 1592. стр. 183.
4
Ю. Ф. Самарин, Сочинения, т. I, М., 1877, стр. 111.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе 40-х годов.
встречаем у Н. Колюпанова, С. А. Венгерова, и Ветринского,
Н. Л. Бродского. Даже такой мало расположенный к славянофилам
исследователь, как А. Н. Пыпин, считает славянофильское отношение к
народу крупнейшей заслугой учения. «Славянофильское понимание
народа,— писал он в «Характеристиках литературных мнений»,— было
преувеличенное; но в тридцатых и сороковых годах оно было заслугой; в
некоторых отношениях было тогда довольно смелым делом указывать в
народе единственный критериум государственной и общественной жизни;
придавать ему такое значение, о котором не помышляла официальная
народность, возвышать и превозносить этот «черный» народ тогда, когда
над ним еще тяготело осуждение государственного закона, пренебрежение
барства, чиновничества и почти всего, что стояло над низшими классами,
когда считалось, что он годится только служить рабочею силою и толпой
для народных празднеств официальной жизни. Славянофилы указывали
обществу на его оторванность от народа, на ничтожество его в этом
разделении от истинного корня национальной жизни, на необходимость
союза, который один даст обществу нравственную силу и даст его
образованию действительную плодотворность. Славянофилы указывали
исторической науке мало тронутую ею задачу — раскрыть внутренние
основы народного характера, которые одни могут пролить свет на
историческую судьбу народа и государства»
1
. Эти стороны
славянофильского учения, по мнению Пыпина, составляли «лучшую и
достойную уважения его заслугу»
2
. Однако нельзя рассматривать эту
сторону изолиро-
377
ванно от всей системы славянофильской концепции и не учитывая
дальнейших судеб славянофильской политической мысли. В конечном счете
это отношение к народу вытекало из консервативных тенденций. Для
Хомякова, например, основным критерием народности была традиция,
«устойчивость в преданиях и обычаях своей старины». Наибольшая
верность преданию сохранилась только в простом народе, а отсюда уже
1
А. Н. Пыпин, Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов,
изд. 2, СПБ, 1890, стр. 344.
2
Из позднейших историков литературы и общественных движений на этих моментах
особенно останавливался Ч. Ветринский, который предлагал даже заменить термин
«славянофилы» термином «национальные прогрессисты». «Славянофилы,— пишет он,—
подобно защитникам официальной народности, противополагали миру Запада
славянство, но в своих построениях, не лишенных туманной и величественной поэзии,
имели в виду не вообще славянство, а по преимуществу Россию, и даже одну
Великороссию. Формально они сходились во многом с уваровским «петербургским
славянофильством»; девизом и у них были те же самодержавие, православие, народность,
но в действительности в эти лозунги вложено было совершенно своеобразное содержание»
(Ч. Ветринский, Герцен, СПБ, 1908, стр. 119).«Они не мирились с порабощением России
всесильною бюрократиею, с рабством государству церкви, с рабством слова и мысли,
наконец, особенно с крепостным рабством, не мирились во имя высоких, идеальных
представлений о русском народе и о началах его быта, выработанных им в своей истории.
Это был настоящий русский мессианизм, выросшая на глубоком чувстве любви к народу
идея высшего призвания, которое должны осуществить этот народ и вся страна» (там же).
Эта характеристика, конечно, чересчур обща и вместе с тем затушевывает ряд
противоречий: отношение славянофилов к основным проблемам крепостной
действительности было гораздо сложнее той идеалистической формулы, которую
предлагает автор.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе 40-х годов.
шла и соответственная оценка его сил и возможностей. Необходимо
подчеркнуть близость этих воззрений к реакционным идеям Савиньи, а
может быть, в некоторых случаях и прямое воздействие их концепций, на
что уже указывали и Герцен и Чернышевский.
«Простой народ» был дорог славянофилам, потому что в нем они видели
хранителя тех национальных особенностей, которые уже утратили высшие
классы общества и в сохранении которых они видели смысл дальнейшего
развития русской истории. Это значение «простого народа» и его в этом
отношении историческую роль признавал и И. Киреевский, вообще, как мы
уже указывали, занимавший в этом вопросе несколько особую позицию.
«Простой народ», в его представлении, являлся бессознательным носителем
высоких традиций древнерусской образованности и древнерусской
культуры. Рассадником этой образованности, по И. Киреевскому, являлись
монастыри. Позже монастыри перестали быть центром просвещения;
интеллигенция отдалилась от старого быта и старой культуры, но этот
русский быт, «созданный по понятиям прежней образованности и
проникнутый ими», «уцелел почти неизменно в низших классах народа».
Уцелевшие остатки для нас драгоценны, ибо в них отчетливо дают себя
чувствовать те следы, «которые оставили чистые христианские начала,
действовавшие беспрепятственно на добровольно покорившиеся им
племена словенские»
1
.
С этой же точки зрения делал свое знаменитое противопоставление
«народа» и «публики» К. Аксаков. В статье «О современном литературном
споре», написанной им в 1847 г., но опубликованной (как не пропущенная в
свое время цензурой) лишь в 80-е годы
2
, Аксаков стремился раскрыть смысл
славянофильских требований о необходимости обращения к прошлому.
«Само собой разумеется,— писал Аксаков,— что прямой возврат к
прошлому невозможен. Дело гораздо сложнее и вместе с тем проще: дело —
в жизненности нашего прошлого: оно не прошло, но находится «подле нас».
Прошедшая Русь не ушла из жизни безвозвратно, но сохранилась в простом
народе. Поэтому,— разъяснял этот тезис Аксаков,— не возвращение к
тому, что перестало жить, но обращение к тому, что живет и теперь, т. е. к
тому же настоящему, но к настоящему, «лишенному места в нашей
общественной жизни».
378
В нашей действительности от подлинно народной жизни не оторвался
лишь сам народ: «Он хранит свой древний, существенный и внутренний и
внешний образ». Петр не смог оторвать Россию от прошедшего, но он
«разорвал ее надвое». Таким образом, «разделение Руси произошло не
хронологически, а пространственно»; «вместо прошедшего и настоящего у
нас — два настоящих». Носителем этой «настоящей Руси» и является
простой народ. «Присутствие простого народа в современности нашей
показывает [главное], что [т. н.] прошедшее наше не прошло и что
возвращение к нему возможно»
1
.
Исходя из этого, К. Аксаков объявил русского крестьянина «лучшим
человеком в русской земле», «поэтому-то так важно всестороннее изучение
1
И. В. Киреевский, Полное собрание сочинений, т, II, М., 1861, стр. 261.
2
См. «Русь», 1 апреля 1883 г., № 7, стр. 20—26.
1
«Русь», 1 апреля 1883 г., № 7, стр. 22.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе 40-х годов.
истории древней Руси — в том числе и с народной (т. е. древней) поэзией:
изучение древней Руси прямо объясняет нам наш народ, и наоборот:
знакомство с народом объясняет нам древнюю Русь; это одно и то же дело;
это одна струя»
2
.
Еще более решительно и последовательно та же мысль выражена у
Самарина: «Мы дорожим старой Русью,— писал он, обращаясь к своим
противникам из западнического лагеря,— не потому, что она старая или
что она наша, а потому, что мы видим в ней выражение тех начал, которые
мы считаем человеческими или истинными, а вы, может быть, считаете
национальными и временными»
3
.
Крестьянин в представлении славянофилов был в сущности понятием
отвлеченным и идеализированным. Поскольку основным критерием
являлась архаика, верность традиции, то и «простой народ» в целом
оказывался прежде всего идеализированным носителем древней традиции.
Поэтому до сих пор остается совершенно правильной та оценка и то
определение славянофильства, какие мы находим у Плеханова.
«Славянофильское учение,— писал он,— было ретроспективной утопией,
основанной на идеализации таких общественных отношений, которые
предполагались свободными от классовой борьбы»
4
. Как только же народ
явно разрывал с «древней традицией», как только в нем обнаруживались
иные тенденции, он объявлялся уклонившимся от истинного пути,
продуктом нравственной порчи под влиянием фабрик и заводов или столь
же тлетворным влиянием городской культуры. Это отразилось и на
понимании и оценках народной поэзии.
Итак, какие бы оговорки ни делались историками славянофильства и
каковы бы ни были субъективные моменты славянофилов, практически это
вело все к той же уваровской триаде и делало возможным дружеское
общение — в жизни и литературно-общественной деятельности —
Киреевских и Акса-
379
ковых с Шевыревым и Погодиным. А когда выступили позднейшие
славянофилы, действовавшие в эпоху полного распада крепостного
хозяйства и крепостнической системы, в эпоху еще более обострившейся и
более четко определившейся классовой борьбы, в предчувствии
надвигавшейся революции всякие оттенки различий уже окончательно
стираются и славянофильство становится только одним из разветвлений
общего реакционного лагеря. В фольклористике это позднейшее
славянофильство представлено именами П. А. Бессонова, Тертия
Филиппова и некоторых других.
Из классиков славянофильства вопросами фольклора занимался более
других (кроме, конечно, П. В. Киреевского) К. Аксаков. Из его статей на
темы фольклора наибольший интерес представляют: «О древнем быте
славян вообще и русских в особенности, на основании обычаев, преданий,
поверий и песен» и «Богатыри времен великого князя Владимира по
2
Там же, стр. 22.
3
Ю. Ф. Самарин, Сочинения, т. I, M., 1877, стр. 104.
4
В. Плеханов, Сочинения, т. ХХIII, 1926, стр. 108.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе 40-х годов.
русским песням»
1
, а также его диссертация о Ломоносове
2
, включенная во
второй том его сочинений.
Диссертация К. Аксакова является, пожалуй, одним из самых ярких
памятников русского гегельянства в филологической науке. Ее содержание
значительно шире своего заглавия; в ней Аксаков рассматривает и решает с
позиций гегельянской философии основные проблемы русской истории и
литературы: вопрос о сущности русского исторического процесса, о
периодизации русской истории, об основах литературного процесса, о
сущности языка и т. д. По характеристике Аксакова, «увлекаясь величавым
строем философской системы Гегеля, он (автор.— М.
А.
) гнул и натягивал
его отвлеченные формулы на «определение» и вящее прославление русской
земли, вся мудреная Гегелева логомахия призвана была послужить этой
задаче, оправдать веру в высокие своеобразные начала русского духа и
доказать всемирно-историческое значение русской народности»
3
. В русской
истории, в ее языке, в народной поэзии К. Аксаков стремится обнаружить
ту закономерность развития, которая у Гегеля выражена известным
законом двойного отрицания. Однако этот основной закон гегелевской
диалектики понят Аксаковым совершенно формально, явления
действительности у него подгоняются под голую, отвлеченную схему,
мыслимую как ряд логических противопоставлений, разрешаемых на
конкретных исторических примерах, которые являются скорее
иллюстрациями к схеме, чем подлинными историческими конкретностями.
Исследование К. Аксакова о Ломоносове в течение долгих времен
оставалось неоцененным в русской филологической науке. Схематичность
книги, узкославянофильская точка зрения, мистические элементы
заслонили все остальное в этой книге и привели
380
к полному отрицанию за ней какого-нибудь научного значения, хотя бы
даже исторического. С. А. Венгеров характеризовал ее в своей монографии
о К. Аксакове как малозначительный эпизод в истории славянофильства и в
истории развития самого Аксакова, и самый язык книги он называет
«тарабарским»
1
.
Все это, однако, совершенно неверно. Прежде всего книга К. Аксакова
представляется важным памятником в истории идейкой борьбы 40-х годов.
Аксаков писал ее в 1842—1843 гг., таким образом, она создавалась в
атмосфере напряженной борьбы между двумя центральными
общественными лагерями того времени, в период окончательной чеканки
славянофильских воззрений на основные проблемы народной жизни и
исторического развития народа. Историческое значение диссертации
Аксакова очень велико. Заглавие книги было значительно Уже ее
содержания. по существу это был опыт целостного построения
национально-культурного процесса.
Исходя из положения о взаимоотношении общего и частного, отдельно
человека и народа в целом, Аксаков утверждал народность нации.
Национальность, народность и индивидуальность Аксаков рассматривает в
1
Обе включены в первый том сочинений К. С. Аксакова, М., 1861.
2
См. «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка», 1846.
3
К. С. Аксаков, Полное собрание сочинений, т. II, М„ 1875, стр. XI.
1
С. А. Венгеров, Собрание сочинений, т. III, 1912, стр. 131 —132.
