Агафонова Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма
Подождите немного. Документ загружается.


ным объективом, создают впечатление, будто движение почти за-
медленное» [33, с. 441].
Контрастность черно-белого колорита логично встраивается в
общую художественную систему фильма. Однако главным цветом
здесь является серый. Многообразием его оттенков «вылеплен»
рельеф самых первых кадров картины (музыка тел), а также — эпи-
зоды-воспоминания и «туманность» Невера.
Звуковая палитра фильма чрезвычайно насыщена и сложна. Все
компоненты (шум, слово, музыка) функционируют в жестких взаимос-
вязях между собой и с изображением. Так, первая «глава» сопровожда-
ется сначала исключительно музыкой, затем к ней подключается
вербальный элемент и позднее — шумовой. Вторая и третья «главы»
выводят на первый план многообразие звуков окружающей действи-
тельности: перезвон колоколов, гул моторов, смех, топот и др. Четвер-
тая и пятая части фильма снова акцентируют музыкальный элемент.
Шестая — возвращает многоголосие шумов (стук каблуков, звон цикад
и пр.) и инициирует «ущемление» вербального спектра в пользу молча-
ния. Заключительные «главы» картины наполняются диссонансным
звучанием всех слагаемых компонентов.
Словесный текст (автор М. Дюрас) поэтичен и отчетливо
ритмизирован в традициях «белого» стихосложения. Вербальные
рефрены «резюмируют» основные периоды смыслообразования.
Семантика фраз соответствует взаимопроникающей двойственнос-
ти образной природы фильма.
Музыкальная драматургия фильма (композиторы G. Delerue,
G.
Fusco)
объединяет три основные темы, отличающиеся живым
изобразительным характером. Первая — тема героини — довольно
напряженная в соединенном звучании струнных и духовых, харак-
теризуется резковато-пронзительными неустойчивыми пассажами.
Особенно выразительно экспонирована в первой и заключительных
«главах» картины. Вторая — тема Хиросимы — вбирает восточные
мелодии в соединении с японским вокалом. Третья — тема Неве-
ра — представлена в жанре вальса.
Музыкальные «голоса» городов сначала синхронизированы с
их визуальными образами. Затем смещаются — звучат каноном,
слегка опережая соответствующее изображение (например, в 7-й
«главе»). Потом вклиниваются контрапунктом: музыкальная тема
Невера в пластический образ Хиросимы и наоборот («глава» 8).
В 9-й «главе» и вовсе сливаются, растворяясь вместе с темой герои-
ни в общем художественном пространстве фильма.
171

В кинопроизведении «Хиросима, моя любовь» автор уравнива-
ет две разномасштабные трагедии — в Хиросиме и в Невере.
Расправа над Хиросимой и расправа в Невере над немецким солда-
том в
1945
г. приведены в фильме к общему знаменателю, исходя из
соответствующего исторического контекста — Япония и Германия
выступали союзниками во Второй мировой войне (т.е. жители Хи-
росимы и германский солдат олицетворяли образ врага). Однако
философским основанием для такой «гиперболизации» является
простая истина: гибель людей не измеряется количественными па-
раметрами. Иными словами, в этой сфере не срабатывает диалекти-
ческий закон перехода количества в качество. Убийство одного или
тысячи (что цинично именуется статистикой) для любящих есть
всегда уничтожение единственного.
Атомный взрыв разрушил огромный город и воздействовал на
судьбу целого народа. Трагическая любовь к немецкому солдату
(оккупанту) испепелила душу героини — воздействовала на судьбу
отдельного «маленького» человека. При этом итог той и другой тра-
гедии диаметрально противоположен. Хиросима живет, восстанав-
ливается. Невер замирает, пустеет, оставаясь в плену минувшего,
равно как и внутренний мир героини, с этим городом отождес-
твленной. А. Рене не только сопоставляет, но плотно переплетает
эти темы. Порывая с хронологией, опуская мотивацию поступков
героев, режиссер исследует феномен «непреодолимого влечения к
прошлому, которое испытывает женщина» [33, с. 441]. В этой связи
эквивалентным названием фильма «Hiroshima топ amour» могло
бы стать «Хиросима, Невер».
2.2.2.5. «Пепел и алмаз» (1958, реж. А.
Вайда)
«Пепел и алмаз» поднимает тему бессмысленности братоу-
бийственной борьбы, в которую вступают между собой поляки
разных политических
ориентации.
Действие фильма разворачива-
ется в провинциальном городке 8 мая
1945
г. Главный герой Мачек
(боец Армии Краевой), отстаивающий идею независимой Польши,
противопоставлен коммунистической власти в лице Щуки, рекон-
струирующей страну по модели СССР. При этом конфликт не носит
прямого антагонистического характера ввиду сложной конфигура-
ции противодействующих сил, а также по причине того, что опреде-
ление координат внутреннего выбора человека «на лезвии» истори-
ческого перелома оказывается куда более драматичным, чем
открытая схватка с противником. Для того режиссеру и понадоби-
лось предельное сжатие событий в рамках одних суток и в
172
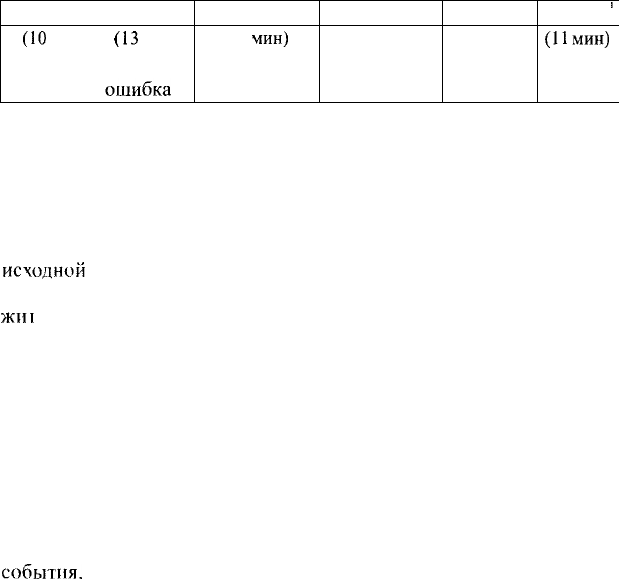
пространстве небольшого провинциального городка. Все основные
действующие лица собраны под крышей отеля «Монополь» и
одновременно разделены по зонам: фойе, банкетный зал, бар, жи-
лые номера, туалетная комната.
Драматургия кинопроизведения основана на контрастном един-
стве образного взаимодействия, когда одна и та же ситуация расщеп-
ляется в перпендикуляре антонимического противосложения.
Повествование в фильме подчинено линеарному принципу. Со-
бытия нанизываются на сюжетную ось последовательно, однако
сгущенность их во времени (одни сутки) и едва ли не одновремен-
ное «проведение» в двух параллельных тональностях (мажорной и
минорной) придает нарративной природе фильма А. Вайды харак-
тер сложного переплетения.
Композиционно картину можно разделить на шесть основных
частей:
Экспозиция Завязка Развитие действия Кульминация Развязка
1 | 2
(10
мин) |
(13
мин)
Расстрел у | Роковая
часовни
(ошибка
3
(16
мин)
Новое/старое
задание
4
(23 мин)
Свидание с
Кристиной
5
(22 мин)
Убийство
Щуки
6
1
(11
мин)
|
Гибель
Мачека |
Экспозиция представляет «расстановку сил» в Польше:
«предчувствие гражданской войны». Молодые бойцы Армии Крае-
вой из засады расстреливают автомобиль нового первого секретаря
воеводских коммунистов пана Щуки. Однако вскоре выясняется,
что совершенное нападение было ошибочным, и Щука жив, ибо
проехал другой дорогой. Главный герой Мачек оказывается на
исходной
позиции, решая почти гамлетовскую дилемму — убить
или не убить. Это «возвращение» в точку сюжетного отсчета слу-
жит
в фильме завязкой. Мачек и пан Щука селятся в соседних номе-
рах отеля «Монополь», разделенные не только горизонталью эта-
жей, но разведенные историко-политической ситуацией на
противоположные стороны баррикад. Каждый из них искренне пе-
реживает за судьбу страны, но видит взаимоисключающие пути ее
развития. Этот вынужденный антагонизм приводит к трагическому
разрешению — гибели обоих. Мачек все-таки совершает роковой
выстрел (кульминация), но и сам мучительно умирает от пронзив-
шей его пули (развязка).
Повествовательный слог А. Вайды в течение фильма претерпе-
вает две модуляции. По мере развертывания действия и конкретные
события,
и отдельные пластические и аудиальные образы приобре-
173
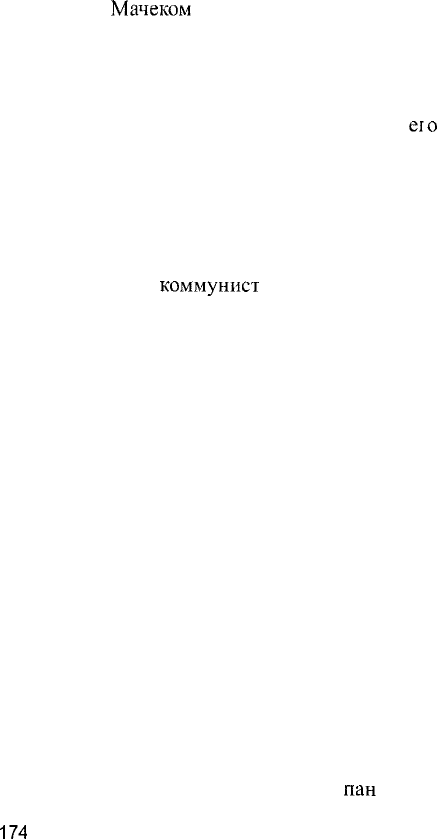
тают сначала метафорическое, а затем — открытое символическое
звучание. Причем темп этого нарративного восхождения чрезвы-
чайно высок. Так, первая (экспозиционная) часть традиционно по-
вествовательна: здесь доминирует пространство и время события.
Вторая часть (завязка) все более отчетливо переводит рассказ в ме-
тафорический план. С третьей по шестую части образная фактура
фильма настойчиво насыщается знаковыми элементами. А с момен-
та убийства
Мачеком
пана Щуки каждый кадр кинопроизведения
становится подчеркнуто символичным, «расплавляя» в семантичес-
кой лаве не только фабульное основание, но и образы персонажей.
В основе эстетики фильма лежит «принцип октавы», когда одно
и то же событие (или факт) представлено с двух крайних уровней —
нижнего и верхнего, что изменяет не только
его
масштаб (соответ-
ственно величественный или ничтожный), но и значение (с «ми-
нус» на «плюс»). Это продекларировано уже в самом названии: пе-
пел и алмаз имеют идентичную химическую формулу, однако
совершенно противоположны по фактуре и свойствам.
Главные персонажи — Мачек и Щука — также слагают широко
интервальную пару («октаву»). Оба поляки, антифашисты. Но
Щука — пожилой
коммунист
с огромным объемом власти, а Мачек
ему в сыновья годится и антикоммунист — боец Армии Краевой,
подпольщик, — т.е. враг. Поэтому что для одного патриотизм, для
другого — предательство. В фильме подобных смысловых проти-
восложений множество: сопротивление / коллаборационизм; побе-
да / поражение; банда / отряд.
Это же качество «октавы» присуще сквозной метафоре филь-
ма — банкету, который организуется по поводу установления новой
власти («Великого дня возрожденной Польши»). Однако для Маче-
ка этот банкет — поминки по независимой Польше. Итак, банкет /
поминки — это семантическая зона, где группируются претенденты
на получение портфеля для управления страной. Лейттема банкета /
поминок начинает свое последовательное развитие в завершении
экспозиционной части картины, когда звучит фраза: «Нас пригласи-
ли на банкет», обращенная к акаевцам Мачеку и Анджею, которые,
естественно, приглашением не воспользовались.
Во второй части банкетный зал презентован в праздничном
убранстве и с гигантским столом в центре. Он укрыт белой ска-
тертью, на которой выстроились шеренгой тарелки с островерхими
накрахмаленными салфетками. Далее в четвертой части торжес-
твенная тональность лейттемы постепенно трансформируется в
гротесковую. На банкет собираются почетные гости (советские
офицеры, Щука), которых встречает
пан
Швенски, рассчитываю-
174
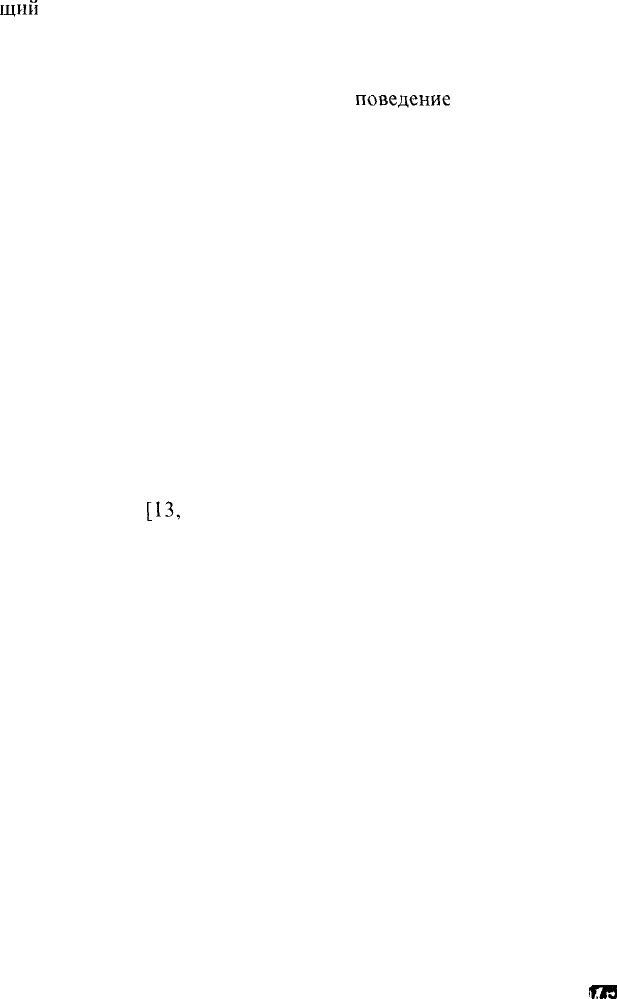
щий
на карьерный взлет в ранг министра. Однако строгая иерархич-
ная атмосфера разрушается внезапным вторжением в зал хорошо
подвыпившего секретаря пана Швенски (Древновского) и незвано-
го гостя — редактора Павлежека. Его «вольные» речи (намеки на
демократию), вызывающе свободное
поведение
контрастируют с
молчаливой серьезностью «судьбоносного» события, на котором
должна выстраиваться конфигурация новой авторитарной польской
власти. В пятой части фильма гротеск и вовсе перерастает в фарс.
Секретарь Древновски, мерно шагая по столу, обдает почтенное
собрание пеной из огнетушителя, а затем срывает скатерть. Грохот
разлетающейся посуды заглушает возмущенно-недоуменные
«всхлипы» гостей.
Метафорический образ банкета-«поминок» оттенен в фильме
сходным событием — весельем в баре, где собралась рядовая
публика: печальные статисты истории шумно радуются окончанию
войны. Но и на этом празднике Мачек чужой. Еще накануне он
четко знал, чего хотел и что хотят от него: погибнуть за родину. Но
сегодня ночью, в первые мгновения мира, он вдруг почувствовал
усталость — усталость от героизма. В душу героя закралось
предвкушение иной жизни, где можно любить, а не умирать. «В эту
особенную ночь прошлое встречается с будущим — и они садятся
за один стол. Мачек Хелмицки ищет ответ на вопрос, как сбросить
груз прошлого»
[13,
с. 94]. Образное решение этой встречи выраже-
но в фильме через свидание Мачека и Кристины — девушки, рабо-
тающей в баре «Монополя». Эта центральная сцена проходит
пунктиром через четвертую и пятую части картины в две волны.
Сначала герои уединены в номере Мачека. Но их интимное обще-
ние все равно разомкнуто в социально-исторический контекст. Оба
одиноки — не в экзистенциальном, а в самом обычном жизненном
смысле: нет никакой родни. И планов на будущее тоже нет —
«меньше потерь!». Обобщенно-символическое звучание приобрета-
ют лица героев (влияние Бергмана?) в момент скупого откровения,
ритмизированного широким монтажным слогом. Словно три глубо-
ких вздоха, три протяжных монтажных кадра (около 50, 40 и 75 с)
истаивают в серых ракордах. Крупные планы лиц Кристины и Ма-
чека, навзничь «брошенные» по диагонали кадра, лаконичны и все-
объемлющи одновременно. Пластика естественной антропометрии
(губы, нос и «перпендикуляр» глаз, бровей), составляя диагональ-
ную композицию кадра, отдаленно напоминает опрокинутый крест.
Лица героев сначала «перетекают» друг в друга, затем «воссоеди-
няются» в едином внутрикадровом пространстве. Причем это
единственный случай в фильме, когда глаза Мачека «демаскирова-
175

ны», «обнажены». «Почему ты всегда носишь темные очки?» —
спрашивает у него Кристина. «На память о неразделенной любви к
Отчизне», — следует ответ.
Вторая волна сцены свидания еще более решительно уплотнена
метафорами. Мачек и Кристина укрываются от дождя в разрушен-
ном («израненном») костеле, где Распятие раскачивается головой
вниз — «и это знак времени, для которого нет ничего святого, —
подчеркивает режиссер. — Две фигуры под крестом (Кристина и
Мачек. — Н.А.) — это всем известный мотив Марии и Иоанна,
сопровождавших Христа до его последних минут на кресте»
[J3,
с. 100]. Именно в этом эпизоде, читая надпись на старом надгробии,
Кристина «озвучивает» сверхидею фильма: «Каждый раз с тебя, как
со смолистой щепки, летят горящие куски. Сгорая, не знаешь, ста-
новишься ли ты свободным... Или только пепел останется... Или
под пеплом окажется звездный алмаз — заря вечной жизни».
«Ты — наверняка, алмаз», — адресует Мачек свой вывод Кристине.
И с этого момента персонажи начинают функционировать в картине
не только в качестве действующих лиц, но приобретают символи-
ческую окраску. Образ Кристины все отчетливее обозначает образ
Польши, оказавшейся в 1945 г. между молотом и наковальней.
Символически эта трагедия страны (замещение коричневого окку-
пационного режима красным) выражена в характерных чертах био-
графии Кристины: отец погиб в концлагере Дахау, мать — во время
Варшавского восстания. Мачек же, как и тысячи ему подобных
(например, семнадцатилетний сын Щуки Марек), будут брошены в
топку истории, которая «пожирает человечество целыми поколени-
ями» [54, с. 98]. Сыновья-изгнанники, сыновья-отверженные, кото-
рые так и не смогли ничего изменить, — «только пепел останет-
ся...».
Концентрация символических значений в пространстве костела
достигает кульминации, когда Мачек срывает простыню-саван с тел
убитых им по ошибке молодых польских рабочих. Крик-вой выры-
вается из груди героя, вмиг осознавшего себя Каином-братоубий-
цей. В этой точке замыкается вспять аллегорическая дуга — в
экспозиционной части фильма акаевцы кощунственно расстрелива-
ют на пороге часовни пытавшегося укрыться от пули невинного по-
ляка. Одновременно отсюда же стартует метафорический мотив са-
вана: Мачек срывает простыню-саван с невинно убиенных
братьев-поляков (69-я минута) // Древновски сдирает с банкетного
стола скатерть-саван, символически предназначенный для Польши
(76-я минута) // смертельно раненый Мачек стягивает с себя окро-
вавленную простыню-саван
(91-я
минута).
176
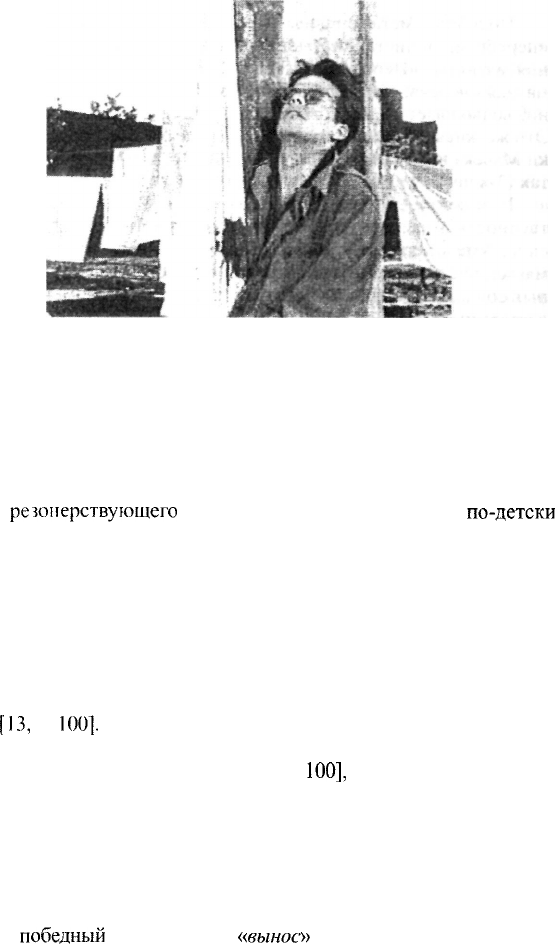
Энергичную аллегорическую модуляцию образ польского флага
приобретает в семантике простыни-савана, укрывающей Мачека
В плотный метафорический строй фильма также вплетен поль-
ский государственный флаг. Его тема начинается с бутафорского
обыгрывания на банкете (53-я минута): два небольших бумажных
флажка, декоративно укрепленные на стене банкетного зала, вытес-
нены на задний план кадра. Затем аналогичный предмет оказывается
в руках
резонерствугощего
редактора Павлежека, который
по-детски
весело им размахивает и выдвигает на первый план экранной компо-
зиции, устанавливая в стакане на столе. Энергичную аллегоричес-
кую модуляцию образ польского флага приобретает в многослойной
семантике простыни-савана, укрывающей Мачека.
Подобное прочтение предложил А. Тарковский: «Герой фильма
"Пепел и алмаз" умирает среди развешанных после стирки простынь,
падая, он прижимает одну из них к груди — на белом полотне появляет-
ся пятно ярко-красной крови: красное и белое, польские национальные
цвета»
(13,
с.
100].
И хотя А. Вайда иронизирует над богатым воображе-
нием русского коллеги: «На белой простыне в черно-белом фильме
кровь может быть только черной» [13, с.
100],
однако очевидно, что в
пространстве сгущенного символизма заключительных сцен развязки
пятно есть знак крови, а значит — знак красного. Тем более что драма-
тургическое развитие образа флага на 93-й минуте фильма завершается
переходом к буквальной репрезентации — портье развертывает настоя-
щее полотнище и выходит с ним из фойе отеля. Однако, учитывая
образно-семантический контекст эпизода, вряд ли можно оценить этот
жест как
победный
— скорее этот
«вынос»
флага ассоциируется с про-
щанием.
177
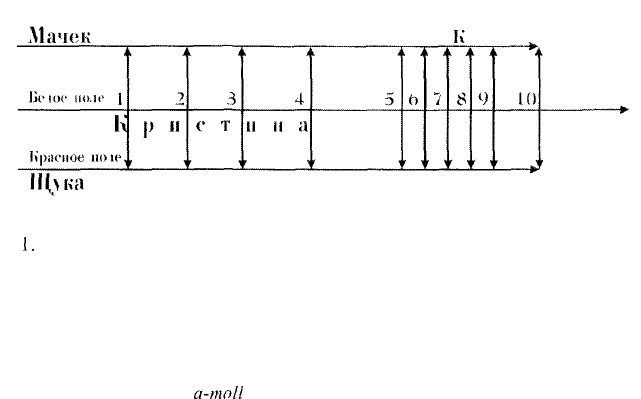
Подобных метафорических арочных фигур, смыкающих через
«переброски» дистанционного монтажа образно-смысловые значе-
ния, в фильме «Пепел и алмаз» великое множество. Например, авто-
матная очередь, выпущенная акаевцами в поляка на пороге часов-
ни, вспыхивает серией огней у него на спине (1-я часть фильма).
Эти же живые языки пламени как вечные огни задрожат от зажигал-
ки Мачека в стаканах со спиртным в память о всех погибших ребя-
тах (3-я часть фильма).
Или лейттема пули, которая представлена как слабая множес-
твенность и как единственная внезапно настигающая смертельная
сила. Умелой твердой рукой Мачек заправляет пули в карабин //
мягкой кистью руки Щука расставляет на столе пули, будто оловян-
ных солдатиков. Оба — в своих номерах в отеле. Момент появления
Кристины в номере Мачека (сцена свидания) сопровождается
пластико-метафорическим аккомпанементом: герой незаметно на
ощупь ищет одну скатившуюся на пол пулю. Кому она предназначе-
на (себе или антагонисту) в этой противофазе любви и смерти?.. Ро-
ковая пуля безжалостно уничтожит и Щуку, и Мачека.
Исходя из всего сказанного, логично предложить в качестве образа-
структуры фильма «Пепел и алмаз» государственный флаг Польши с
его контрастным столкновением по горизонтали красною низа и
белого верха:
1.
Щука и Мачек
2. Отец и сын
3. Сопротивление и коллаборационизм
4. Патриотизм и предательство
5. Банкет // поминки
6. Отряд // банда
7. Победа // поражение
8. Полонез Огинского
a-moll
II полонез Шопена A-dur
9. Оккупация гитлеровской Германии II оккупация сталинского СССР
10. Пепел // алмаз
178
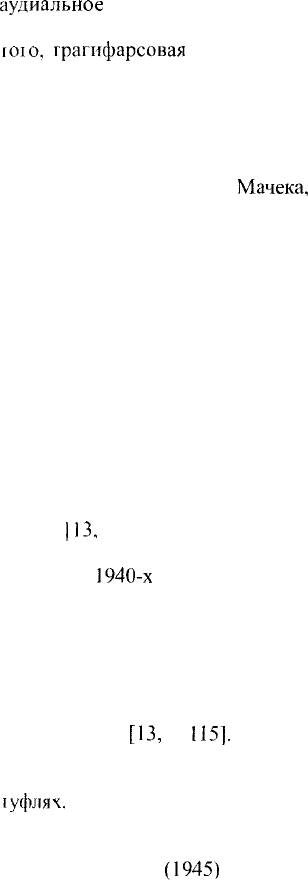
В этом символическом единстве противосложения представле-
ны все главные действующие лица фильма, его черно-белая гамма,
аудиальное
решение с контрастным музыкальным компонентом,
общее метафорическое звучание и единое знаковое поле. Более
того,
грагифарсовая
интонация картины также подчинена этой ху-
дожественной формуле.
Кульминационной вершиной фильма служит экспрессивный эпи-
зод убийства Щуки. Мачек преследует Щуку на пустынной улице,
обходит его, разворачивается и открыто стреляет в упор. И вдруг, не-
ожиданно для себя, подхватывает под руки грузное, оседающее тело
Щуки. Одинокие фигуры
Мачека,
олицетворяющего генерацию сы-
новей, и Щуки, представляющего поколение отцов, застывают
сцепленными лицом к лицу. Эта скорбная символическая скульптура
«предчувствия гражданской войны» контрастирует с победным исто-
рическим контекстом: черное небо озаряется огнями салюта —
Германия капитулировала. Так победа и поражение слились воедино.
Изобразительная стилистика фильма подчинена жесткой фотогра-
фичности черного и белого с широким спектром серых тонов. «Рань-
ше кино было равнодушно к материалу, из которого строилось изобра-
жение, кадр был весь забит фанерой, обклеен обоями, завешен
какими-то драпировками. Словом, сплошное папье-маше. И снимали,
конечно, в павильоне. И вдруг кинематографисты обратились к нату-
ре, грязи, обшарпанным стенам, к лицам актеров, с которых содрали
грим. Образ был проникнут другим чувством, жил другими ритма-
ми...», — писал А. Тарковский, потрясенный фильмом «Пепел и
алмаз»
[13,
с. 99]. Однако натуральность, жизнеподобие кинематогра-
фической фактуры, соответствующей историческому времени фильма
(середина
1940-х
годов), вступают «в конфликт» с обликом и костю-
мом Мачека (середина 1950-х годов). Тип акаевца был хорошо извес-
тен авторам картины и по литературе, и по собственному опыту:
стройные парни, одетые в самодельный пиджак, галифе и высокие бо-
тинки. А. Вайда намеревался привести облик актера Цыбульского в
соответствие с таким прототипом. «Великая моя победа как режиссера
состоит в том, что я этого не стал делать», — признается польский
мастер экрана
[13,
с.
115].
Актер настоял на том, чтобы в художествен-
ном пространстве фильма оставаться самим собой: в неизменных тем-
ных очках, обтягивающих джинсах, короткой куртке и теннисных
туфлях.
В результате оказалось, что данное противосложение типажа и
эпохи не только органично вписалось в общую поэтику картины, но
сработало как знаковый элемент, «стерев» конкретно-исторические
границы события
(1945)
и переведя его в универсальное измерение,
действующее «на все времена».
179
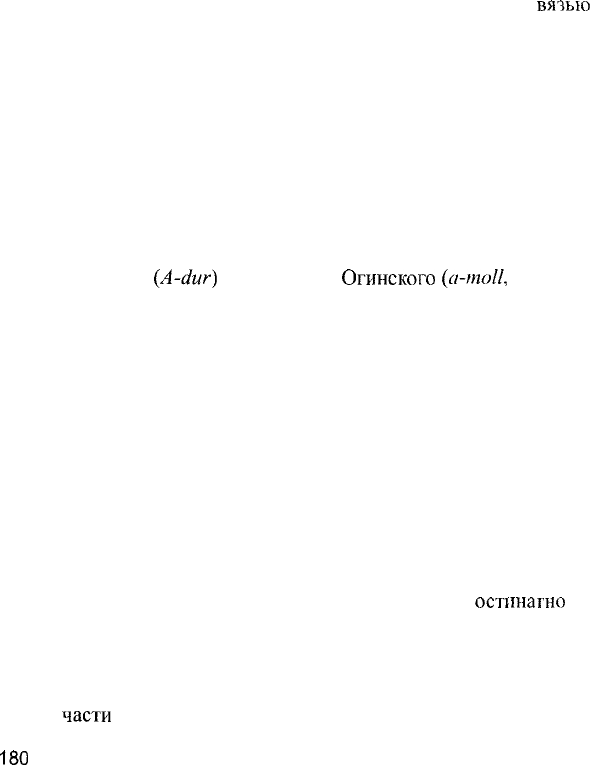
Светотеневая пластика изображения наделена в фильме драма-
тической экспрессией. Как и все другие художественные слагае-
мые, она приобретает метафорический и аллегорический статус в
контексте того или иного события. Мучительная внутренняя борьба
Мачека (убивать или не убивать Щуку) интенсифицирована дина-
микой светотеневых контрастов, то микшируемых в общем сумрач-
ном пространстве гостиничного номера, то, наоборот, создающих
напряженную орнаментику. В этом смысле чрезвычайно ярок эпи-
зод в фойе отеля, когда Мачек скрывается под резной металличес-
кой лестницей, по которой спускается Щука. Ступени, так же как и
оба персонажа, разделены / объединены геометрической
вязью
в
духе древнегреческого меандра.
Финальные кадры картины также выразительно соположены по
световой и теневой доминанте. Параллельный монтаж представляет
протяженную сцену мучительной гибели Мачека в чередовании с
последним танцем в баре отеля. Пронзительная ясность утра (смерть
героя) замещается удушливой серостью герметичного пространства
бара, ставшего аллегорией Кабинета восковых фигур. Здесь под зву-
ки полонеза перемещаются застывшие люди-«манекены», и этот та-
нец теней (макабрический балет) есть бал смерти. Характерно, что
музыкальный компонент в данном случае также активно трансфор-
мирован. А. Вайда сталкивает в одном событии два полонеза — ма-
жорный Шопена
(A-dur)
и минорный
Огинского
(a-moll,
известный
как «Прощание с Родиной»). При этом мажор звучит ложной брава-
дой в фальшивом исполнении расстроенного оркестра, а тихий голос
сменяющего его минора сопровождает конец бала и вынос флага.
В аудиально-визуальном единстве «хмурого утра» на экране просту-
пает образ прощания — серая мгла опустевшего фойе отеля замеща-
ется пронзительно-экспрессивным финальным кадром: Мачек, кор-
чась от боли, умирает в беспомощной эмбриональной позе на ги-
гантской свалке — современной Голгофе для вечно «распинаемого»
мессии. По-детски жалобные всхлипы Мачека заглушает равномер-
ный гул уходящего поезда — символа прошедшей мимо жизни.
Еще одна знаковая шумовая фигура звукового образа фильма —
чеканный топот колонн советских солдат — символизирует нашес-
твие (новую оккупацию Польши). В структуре фильма этот звуковой
«сигнал» отбивает начало 2-й, 3-й, 4-й и 5-й частей,
остинатно
объ-
единяя зону развития действия от завязки до кульминации. Причем,
и эта деталь подчинена собственному драматургическому разверты-
ванию, расширяясь в выразительных элементах соответственно на-
растающей амплитуде композиционных переходов. Так, если в нача-
ле 2-й
части
обезличенный строй советских солдат марширует по
180
