Воробьёв И.Н. Тактика - искусство боя
Подождите немного. Документ загружается.

540
евского Особого военного округа, к моменту нападения немецко-фашистских
войск находилась в пунктах постоянной дислокации в 20-35 км от госграни-
цы. Согласно плану оперативного прикрытия она должна была во взаимодей-
ствии со Струмиловским укрепленным районом занять подготовленную по-
лосу обороны в 5-7 км от границы. Но для этого потребовалось как минимум
5-9 часов. Поднятая в 3 ч. 30 мин 22 июня по тревоге дивизия по решению ее
командира генерал-майора Ф.Г. Сущего пыталась выйти в назначенный ей
район. Но противник упредил дивизию в занятии главной полосы обороны и
ее полки после неудачного встречного боя беспорядочно переходили к оборо-
не. Под огнем противника им не удалось прочно закрепиться и остановить
продвижение немцев.
Анализ этого боевого примера показывает, что даже в такой исключи-
тельно неблагоприятной обстановке, при внезапном нападении противника,
дивизия все же могла более полно использовать свои оборонительные воз-
можности, если заранее был бы отработан вариант занятия обороны в непо-
средственной близости от пунктов постоянной дислокации частей. Боевая
практика воочию показала, что ничто так не вредит делу, как слепая привя-
занность к заранее выработанному плану, шаблонные действия, сковывание
творческой инициативы командиров, офицеров штабов, их схематизм в при-
нятии решений, боязнь ответственности.
Неготовность к отражению вражеского нападения дорого обошлось
нашим вооруженным силам. Дивизии приграничных военных округов, вне-
запно атакованные, были рассредоточены на фронте 3300 км и в глубину бо-
лее чем на 400 км. Несмотря на мужественное сопротивление, армии вынуж-
дены были поспешно отходить на восток. В оборонительных сражениях пер-
вого периода войны они понесли самые жестокие потери: из 5 миллионов во-
еннослужащих Красной Армии в 1941 году 3 миллиона попали в плен. От Бу-
га до Волги простиралась захваченная врагом российская территория, кото-
рую пришлось потом отвоевывать метр за метром с кровавыми боями в дли-
541
тельной борьбе.
Опыт Великой Отечественной войны показал, что ошибки довоенного
периода в подготовке войск все же удалось исправить в ходе боев, но ценой
больших усилий. От одной операции к другой, из года в год боевое мастерст-
во советских войск, искусство командования в подготовке и ведении оборо-
нительных действий неуклонно повышалось. Об этом свидетельствуют сле-
дующие факты. Известно, что в ходе войны качество оружия и боевой техни-
ки не претерпело сколько-нибудь существенных изменений. Однако отличия
в результатах боев, в том числе и в обороне в первом и последующих перио-
дах войны были, можно сказать, разительными. Так, если во время битвы под
Москвой за 67 дней оборонительных боев вражеским войскам удалось про-
двинуться на глубину 250-270 км, то в сражении под Сталинградом за 124
дня немцы продвинулись лишь на 120-150 км. Максимально продвижение
ударных группировок немецко-фашистских войск в ходе оборонительного
сражения под Курском не превышало 35 км.
Искусство подготовки и ведения оборонительных действий советского
командования во время Великой Отечественной войны проявилось прежде
всего в гибком использовании принципа массирования сил и средств на важ-
нейших направлениях. Это нашло свое выражение в том, что на ожидаемом
направлении главного удара противника дивизиям и полкам назначались бо-
лее узкие полосы (участки) и они усиливались более значительным количест-
вом артиллерии, танков, инженерных подразделений. Это обусловило значи-
тельный рост тактических плотностей сил и средств. На важнейших участках
оборона эшелонировалась на более значительную глубину, чем на других на-
правлениях. Наглядное представление о том, как конкретно проявлялся прин-
цип сосредоточения основных усилий в ходе войны можно получить на при-
мере изменения ширины и глубины полосы обороны стрелковой дивизии, а
также роста тактических плотностей в ее полосе, анализируя таблицу 5.1.
Как видно из таблицы, если в первый период войны ширина полосы
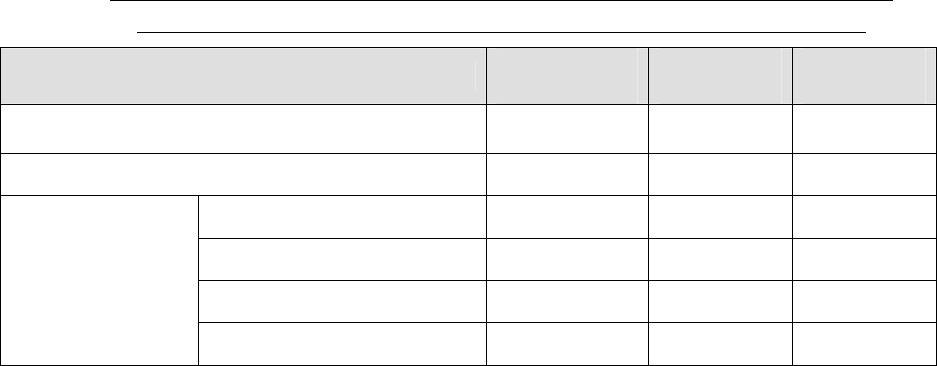
542
обороны стрелковой дивизии составляла 30-40 км, то во второй и третий пе-
риоды она уменьшалась до 6-12 км, это дало возможность повысить плот-
ность сил и средств. Если в начале войны плотность орудий и минометов на
1 км фронта составляла 1-3 единицы, то к концу войны она возросла до 30-
40. Аналогично обстояло дело с танками и противотанковыми средствами.
Соответственно увеличивалась глубина эшелонирования обороны. Как пока-
зано на рис 5.5, если в первый период войны глубина построения боевых по-
рядков дивизии составляла 3-4 км, то к лету 1943 г. она возросла до 15-20 км.
Таблица 5.1
Эволюция принципа сосредоточения основных усилий в обороне
стрелковой дивизии во время Великой Отечественной войны
Стрелковая дивизия
Первый
период
Второй
период
Третий пе-
риод
Сужение ширины полосы обороны, км
30-40 и более
6-14
6-12
Увеличение глубины полосы обороны, км
3-6
6-8
5-9
стрелковых батальонов
0,2-0,4
0,6-1,5
0,8-1,7
орудий и минометов
1-3
18-30
30-40
орудий ПТО
0,5-2
11-14
16-20
Рост плотности
сил и средств на
1 км фронта:
танков и САУ
0,4-1
2-4
5-7
Ярко проявилось искусство советских командиров в совершенствова-
нии системы огневого поражения в обороне. Сосредоточение усилий артил-
лерии в обороне заключалось в заблаговременной подготовке массированно-
го, сосредоточенного, заградительного огня с закрытых огневых позиций на
важнейших направлениях как на дальних подступах к обороне, так и перед
передним краем, на флангах и в глубине, создании на главном направлении
зон сплошного огня, массировании противотанковых средств на танкоопас-
ных направлениях, подготовке маневра огнем артиллерии в целях сосредото-
чения его в короткие сроки на угрожаемых участках фронта. Этому способст-
вовало то обстоятельство, что в ходе войны непрерывно увеличивались огне-
вые возможности дивизии. К концу третьего периода войны по сравнению с
первым возможности стрелковой дивизии по постановке неподвижного и
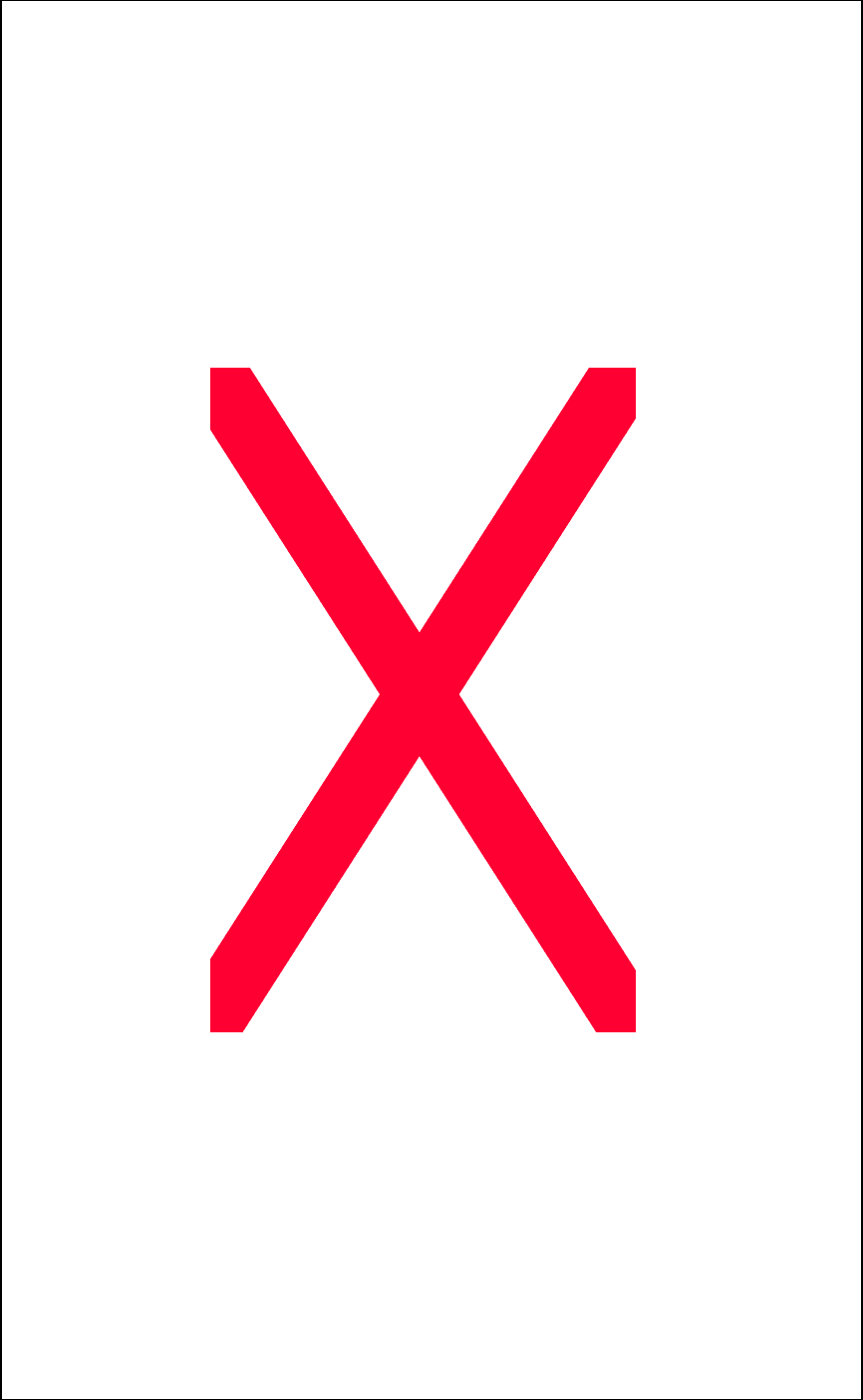
543
Рис. 5.5. Принципиальные схемы организации обороны
стрелковой дивизии по опыту Великой Отечествен-
ной войны

544
подвижного заградительного огня силами штатной артиллерии возросли в 3
раза
1
. К тому же дивизия в ходе войны усиливалась все большим количеством
артиллерии. В результате общая площадь районов массирования огня достиг-
ла в дивизии до 70 и более гектаров. Количество районов сосредоточенного
огня перед фронтом обороны дивизии планировалась от 3-5 до 10, а их уда-
ленность – от переднего края обороны составляла порядка 6 –7 км
2
.
Важным показателем искусства советского командования явилось про-
ведение артиллерийской и авиационной контрподготовки для срыва наступ-
ления противника. Такой метод борьбы с противником впервые был приме-
нен в первую мировую войну. Опыт проведения контрподготовки в операциях
затем был обобщен и развит советским оперативным искусством. В предво-
енный период основные положения о контрподготовке были изложены в про-
екте Полевого устава 1936 г. и Боевом уставе артиллерии Красной Армии
1937 г.
Во время Великой Отечественной войны советское командование нача-
ло организовывать контрподготовку уже в первых оборонительных операци-
ях (в июне 1941 г. на Северо-Западном направлении). Но из-за того, что груп-
пировка противника была разведена слабо, во фронте не хватало артиллерии
и боеприпасов, ее эффект был незначительным. Примерно то же повторилось
в битве под Москвой. Хотя в последнем случае контрподготовка готовилась
командованием Западного фронта более тщательно, но сил и средств для ее
проведения привлекалось мало. Задачей контрподготовки ставилось сорвать
возможное наступление противника. Для этого планировалось подавление и
уничтожение артиллерийским огнем его пехоты и танков в районах сосредо-
точения и на исходных позициях, подавление вражеской артиллерии и нару-
шение управления.
С этой целью в армиях были разработаны подробные планы контрпод-
готовки, предусматривавшие привлечение к ней не только орудий, но и 82-
1
Развитие тактики Сухопутных войск в Великой Отечественной войне. М.: ВАФ,1981, с.181.
2
Развитие тактики Сухопутных войск в Великой Отечественной войне. -С.192.

545
120-мм минометов. 1 и 2 октября 1941 г. артиллерия 16-й армии трижды про-
водила контрподготовку в районе Ярцево продолжительностью до 10 мин. на
фронте 10 км при плотности 30 орудий на один км фронта и расходе 0,3 бое-
вого комплекта. Ее результаты установить не удалось, так как противник не
наступал на этом направлении
1
.
Несколько раз проводилась контрподготовка во время оборонительных
боев под Сталинградом. Ее продолжительность обычно составляла 40-
60 мин. и состояла из 2-3 огневых налетов (по 5-10 мин. каждый) и методиче-
ского огня на подавление. В результате на некоторых направлениях удалось
сорвать атаку противника
2
.
Заслуживает внимание опыт проведения артиллерийской контрподго-
товки в битве под Курском в полосе обороны Центрального и Воронежского
фронтов. Ее продолжительность устанавливалась до 30-40 мин. К решению
задач контрподготовки привлекалось значительное количество артиллерии. В
13-й армии оно достигало 1100 орудий, минометов и боевых машин, что
обеспечивало плотность 36 ед. на 1 км фронта. Общий расход боеприпасов
был определен в 0,25 комплекта. В контрподготовке приняла участие авиа-
ция. Оценивая результаты контрподготовки, Г.К. Жуков писал: «Следует ска-
зать, штабы артиллерии и все командующие артиллерией фронтов, армий и
соединений хорошо и умно поработали над организацией артиллерийской
обороны и контрподготовки»
3
.
В минувшую войну для использования результатов контрподготовки
иногда осуществлялось нанесение удара оборонявшимися войсками перед
передним краем с целью внести замешательство в ряды противника, дезори-
ентировать его в отношении своих планов, усилить эффект огневого удара.
Высокое искусство потребовалось от советского командования в ходе
войны для повышения противотанковой устойчивости обороны, особенно в
1
Отечественная артиллерия. М.: Воениздат. 1986, с. 209, 210.
2
Там же. с. 221.
3
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. т. 2. М.,1974, с. 168 , 170.

546
начальный период. Немецкое командование делало ставку на массированное
применение танков для рассечения обороны. На рис. 5.6 показан один из ва-
риантов построения боевого порядка бронегруппы танковой дивизии немец-
кой армии во Второй мировой войне в наступлении. Из рисунка видно, что
для прорыва обороны противника немцы создавали глубокоэшелонирован-
ный боевой порядок танковых подразделений, поддерживаемых мотопехотой,
ротой тяжелого оружия и подразделениями самоходно-артиллерийских уста-
новок.
Что же касается стрелковых дивизий Красной Армии, то в начале войны
было очень мало противотанковых средств, к тому же использовались они
нерационально, равномерно распределялись по всему фронту обороны. На
1 км фронта приходилось всего 1-2 орудия. По мере увеличения в войсках
ПТС система противотанковой обороны претерпела существенные измене-
ния. Для отражения массированного танкового удара противника при нали-
чии у него плотности 40-60 танков на 1 км фронта обороняющийся вынужден
был создавать глубокоэшелонированную систему противотанковых опорных
пунктов, узлов и районов. За годы войны плотность ПТС в обороне возросла
в 5-8 раз (с 3-4 до 16-30 ед. на 1 км фронта). Глубина эшелонирования ПТС
достигала до 30-35 км
1
. При господстве нашей авиации в воздухе такая сис-
тема противотанковой обороны стала практически непреодолимой для про-
тивника.
Достаточно умело применялись в обороне советскими войсками минно-
взрывные заграждения. Это видно из следующего примера. В Балатонской
оборонительной операции в дивизиях 3-го Украинского фронта средняя
плотность минных заграждений составляла 730 противотанковых и 670 про-
тивопехотных мин на 1 км. На наиболее важных направлениях она достигала
2700 противотанковых и 2500 противопехотных мин
2
. Характерно, что ос-
новная часть заграждений (до 50-60%) сосредоточивалась перед передним
1
Отечественная артиллерия. – С. 249.
2
Военно-исторический журнал, 1969, № 3, с. 19.
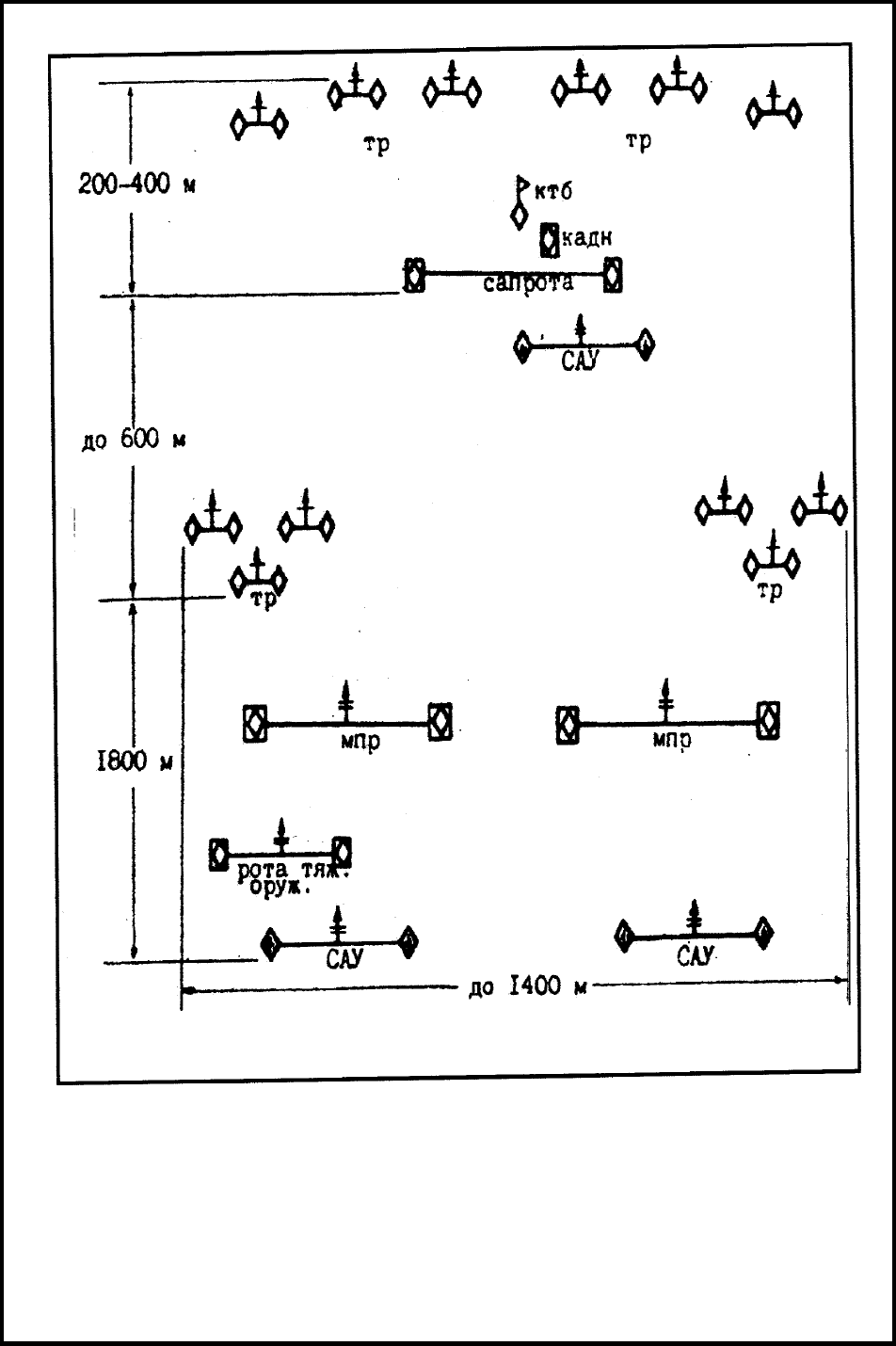
547
Рис. 5.6. Боевой порядок бронегруппы танковой дивизии
немецкой армии во второй мировой войне в насту-
плении

548
краем и в пределах первой позиции. В глубине главной полосы обороны ус-
танавливалось 20-30% мин и 10-20% мин выделялось в резерв для маневра в
ходе боя
1
.
Следует отметить, что при организации обороны советскими войсками
в годы войны имело место немало недостатков. Во-первых, не всегда пра-
вильно определялось направление главного удара противника и соответст-
венно нерационально выбирались районы, где необходимо было сосредото-
чить усилия в обороне. Во-вторых, часто нарушалась маскировка при обору-
довании ключевых узлов обороны, что давало возможность противнику бы-
стро раскрывать их местоположение и принимать меры к подавлению оборо-
нявшихся там подразделений или осуществлять обход таких мест. В-третьих,
районы сосредоточения основных усилий в некоторых соединениях и частях
при длительной обороне с течением времени обычно не менялись и против-
ник, хорошо зная систему обороны, периодически наносил по таким районам
огневые удары, ослаблял их устойчивость.
Сложными путями совершенствовалась теория и практика обороны в
послевоенный период. Если в первое десятилетие после Великой Отечест-
венной войны оборона считалась одним из важнейших видов военных дейст-
вий, то в 60-х годах с массовым внедрением в войска ракетно-ядерного ору-
жия отношение к обороне коренным образом изменилось. В руководящих до-
кументах Вооруженных Сил того времени был зафиксирован, вопреки опыту
второй мировой войны, явно ошибочный постулат: «Оборона – удел слабой
стороны». Это на долгие годы предопределило отношение к обороне как к ка-
тегории «низшего порядка». Ей отводилась второстепенная роль в боевой
подготовке войск.
Командиры стали опасаться преднамеренно прибегать к обороне (ведь
это признак бессилия). Но хорошо известно, что битву под Курском совет-
скому командованию удалось выиграть во многом благодаря тому, что было
1
Развитие тактики Сухопутных войск. -С. 200.
549
принято мудрое и дальновидное решение – заблаговременно перейти к обо-
роне с тем, чтобы, используя ее сильные стороны, измотать и обескровить
ударные группировки противника и создать условия для последующего пере-
хода в наступление, что себя оправдало.
Противоречил опыту войн бытовавший длительное время в советской
теории тезис о том, что оборона является кратковременным явлением, неким
«спутником» наступления. Считалось, что она может применяться лишь на-
коротке, в ходе успешного продвижения войск для того, чтобы отразить
контратаку (контрудар) противника, обеспечить угрожаемый фланг или за-
крепить захваченный рубеж. Длительная, долговременная оборона в опера-
тивном масштабе исключалась. На практике это приводило к тому, что ко-
мандиры и штабы в ходе учений, получив считанные часы на подготовку
обороны, наспех отрабатывали вопросы организации системы огня и взаимо-
действия. Войска не в полном объеме производили инженерное оборудование
позиций. Офицеры не учились, как это делали фронтовые командиры, со всей
скрупулезностью готовить бой, «ползать на животе», выбирая места для рас-
положения огневых точек, подолгу работать в подразделениях, беседовать с
солдатами, изучать их нужды, запросы, настроения, мобилизовать на выпол-
нение боевой задачи. Так утрачивался бесценный боевой опыт.
Рецидивы недооценки обороны проявились в учебной практике еще и в
том, что на занятиях и учениях обороняющиеся войска обычно выступали в
роли подыгрывающей стороны – их действия всецело подчинялись действи-
ям наступающего. Получалось так, что независимо от целесообразности при-
нимаемых командирами решений, обороняющаяся сторона всякий раз была
обречена на неуспех.
Существенное влияние на характер обороны в локальных войнах и воо-
руженных конфликтах 70–90-х г. оказало интенсивное развитие средств воо-
руженной борьбы и организационной структуры войск. Особое внимание в
зарубежных армиях уделялось созданию новых образцов высокоточного ору-
