Васильев B.B., Кротов A.A. История философии
Подождите немного. Документ загружается.


Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
371
непосредственный образ Воли. Воля играет сама с собой, радуется и созидает.
Таким образом, Ницше определяет дионисийское начало как подоснову мира, как
призвание человечества, которое лучше всего выражено в музыке и трагическом мифе, —
как следствие, они лежат в основе замыслов аполлонийской художественной культуры,
всех наших представлений о мире: «это дионисическое подполье мира может и должно
выступать как раз лишь настолько, насколько оно может быть затем преодолено
аполлонической просветляющей и преображающей силой, так что оба этих
художественных стремления принуждены, по закону вечной справедливости, развивать
свои силы в строгом соотношении» (1: 1, 156). Соединение одного и другого в трагедии
позволяет принять мир в его страшной, ужасающей целостности, судьба трагического
героя показывает относительность ценности отдельного существования.
В этой работе Ницше предпринимает и первое критическое наступление на
современную культуру. Ее неподлинность — в увлечении аполлонийским началом,
доверием к научным представлениям и оптимизме. Эта культура, которую Ницше
называет сократически-александрийской, изживает себя и свидетельством тому он
считает состояние образования. Оно поверхностно, чрезмерно логично и рассудочно.
Ницше ищет тот момент, когда гармоничная аттическая культура вдруг стала ущербной,
переориентировалась исключительно на аполлонийское начало. Он связывает этот
момент с так называемым «переворотом» Сократа и представляет здесь свое понимание
фигуры Сократа и ее значения в истории культуры и философии. Именно дерзкая
рассудочность Сократа разложила афинское общество: подчинение истины логической
процедуре диалогического спора, даже если Сократ называл это искусством майевтики,
лишало ценности естественное вдохновение, это был труд — и труд переставал быть
унизительным уделом рабов, — все это в конечном счете подтачивало телесные и
душевные силы греков. Именно Сократ «изгнал музыку из трагедии»: главной целью
культуры стало универсальное рассудочное познание и просвещение, призванное
одновременно научить истине и добродетели каждого.
Однако «пустынное море знания» истощает жизненные силы. В «Опыте самокритики»
(1886), которым Ницше предваряет новое издание этой ранней
488
работы, он пишет, что ему удалось схватить «нечто страшное и опасное, — проблема
рогатая [...] это была проблема самой науки — наука, впервые понятая как проблема, как
нечто, достойное вопроса» (1:1, 49). Как считает Ницше, современная наука уже
убеждается в ограниченности возможностей теоретического разума, сократический
человек уходит из культуры — появляются философские победы Канта и Шопенгауэра,
появляется немецкая музыка от Баха к Бетховену и Вагнеру — возрождается трагедия,
трагическое миропонимание и трагический тип человека. В «Несвоевременных
размышлениях» Ницше посвятит критике музыки Штрауса и философского историзма
Гегеля и Гартмана специальные разделы, выделив пессимизм Шопенгауэра, а в качестве
идеала творчества — музыку Вагнера. «Возрождение трагедии» — цель всей философии
Ницше, которую он формулирует в заключении «Рождения трагедии...»: «Теперь же
следуй за мною к трагедии и соверши со мною жертвоприношение в храме одного и
другого Бога!» (3: 215).
Второй период.
Второй период. И Ницше, как он сам напишет в позднем предисловии (1886)
«изобретает» «свободные умы» — тех, кто сможет не только понять, но и реализовать
этот своеобразный проект «дополуденной философии»(1: 1, 488) очищения человека, — к
ним обращена работа «Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных
умов». На этом основании возникает оценка этого периода философии Ницше как
рационально-оптимистического. Он пишет о странниках, обладающих свободным духом,
преодолевающих застывшие убеждения. По его же более поздней оценке именно здесь
возникает идея: «Нельзя ли перевернуть все ценности? [...] И если мы обмануты, то не мы
ли, в силу того же самого, и обманщики ?» (1: 1, 235). Девять разделов посвящены тем
ценностям, из которых складывается на сегодняшний день понимание «человеческого»:
то, что человек считает своим достижением в познании мира, то, что он относит к сфере
морали, религии, то, что он называет творчеством и культурой, то, что он ценит в других
людях и на чем строит семью, как понимает государство и самого себя. Основой
рассуждений становится учение об аффектах —- «из страстей вырастают мнения,
косность духа превращает последние в застывшие убеждения» (1: 1. 488). Следует
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
372
пересмотреть эти убеждения, убедиться в их недостоверности и относительной
вероятности, как пишет Ницше, и «изменить» им.
Третий период.
Третий период. Какими должны быть правила этого изменения — этому посвящена
работа «Веселая наука». Ницше взял одно из самоопределений поэзии трубадуров,
предполагающей вечно юную любовь без ревности и печали — gaya scienza. Здесь Ницше
использует образ песочных часов для обозначения идеи возвращения, здесь впервые
упоминает Заратустру, сверхчеловеческое, смерть Бога, здесь формулирует задачу
переоценки ценностей и целый ряд значимых образов, которые позже становятся
предметом отдельных работ. Так, например, в поэтическом приложении «Песни принца
Фогельфрая», где очень много автобиографического, Ницше пишет: «Здесь я засел и
ждал, в беспроком сне, По ту черту добра и зла, и мне Сквозь свет и тень мерещились с
утра Слепящий полдень, море и игра. И вдруг, подруга! Я двоиться стал — И Заратустра
мне на миг предстал...» (1: 1, 718).
Именно эта работа оказывается пробой нового стиля — семантической игры,
предполагающей глубокое проникновение, вслушивание в смысл слов, их сочетание, их
воздействие. Как считают исследователи, эта работа повлияла на всю «игровую»
тематику философии ХХ в.: от И. Хейзинги, Л. Витгенштейна и М. Хайдеггера до М.
Фуко, Ж. Делёза и Ж. Деррида. Причем Ниц-
490
ше не только реализует этот стиль в тексте, но в последней части работы описывает
его как новый идеал, «причудливый, соблазнительный, рискованный идеал, к которому
мы никого не хотели бы склонить, ибо ни за кем не признаем столь легкого права на него:
идеал духа, который наивно, стало быть, сам того не желая и из бьющего через край
избытка полноты и мощи играет со всем, что до сих пор называлось священным, добрым,
неприкосновенным, божественным; [...]; идеал человечески-сверхчеловеческого
благополучия и благоволения, который довольно часто выглядит нечеловеческим, [...] —
только теперь [...] начинается трагедия...» (1: 1, 708). В этой работе наиболее очевидна
тематическая и стилистическая последовательность философского развития Ницше.
Темы, которые подвергаются пародии, многочисленны: афористичная форма
изложения позволяет касаться проблем сознания и самосознания, походя замечая,
например, что «развитие языка и развитие сознания (не разума, а только самоосознания
разума) идут рука об руку» (1:1, 675), философского осмысления воли (здесь Ницше
окончательно размежевывается с Шопенгауэром, считая, что он «верил в простоту и
непосредственность всякого воления, — в то время как воление есть лишь хорошо
налаженный механизм, что почти ускользает от наблюдающего глаза» (1: 1, 594),
каузальности (как «последствия древнейшей религиозности» (1:1, 593), и, разумеется,
морали и религии, которые станут в дальнейшем предметом специального рассмотрения.
Отдельно следует сказать о фрагменте, содержательно, эмоционально и стилистически
выделяющемся из всей работы, — «Безумный человек» — именно здесь провозглашается
знаменитое ницшевское «Бог умер! Бог не воскреснет! И мы убили его!» (1:1, 593). В
истории философии существуют диаметрально противоположные интерпретации этого
тезиса: христианские и атеистические. Особое место занимает интерпретация этого
тезиса М. Хайдеггером (14). Но как обвинения Ницше в атеизме, так и предположения о
создании новой религии, заигрывающей с манихейством, не учитывают критический
пафос философии Ницше в целом: он пишет о состоянии современного духа и пытается
направить его к живому идеалу: «Разве величие этого дела не слишком велико для нас?
Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его? Никогда не
было совершено дела более великого, и кто родится после нас, будет, благодаря этому
деянию, принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история!» (1:1, 593). Здесь
следует отметить прежде всего идею смены человеческих ориентиров, переживания
перестройки мировоззрения на том же человеческом еще основании — отсюда возникает
эта «вера в неверие», перекликающаяся с идеями и образами Достоевского. Другой
вопрос — готов ли к этому человек: «Я пришел слишком рано [...], мой час еще не
пробил. Это чудовищное событие еще в пути и идет к нам — весть о нем не дошла еще до
человеческих ушей» (1:1, 593). Поэтому смерть и опустошение оборачиваются
возможностью отказа от всего, навязанного человеку извне и укорененного в
коллективном сознании, — возможностью переоценки ценностей. В предисловии ко
второму изданию Ницше подчеркивает именно эту задачу, он выздоравливает сам и
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
373
«ждет» «философского врача», который будет «рассматривать все эти отважные
сумасбродства метафизики, в особенности ее ответы на вопрос о ценности бытия, как
симптомы определенных телесных состояний»(1: 1, 494). Критика, «сатурналии духа»
наполнены в этой работе «предчувствием будущего», воплощением которого станет
Заратустра.
491
«Так говорил Заратустра» — книга, считающаяся поворотной в философской
биографии Ницше. Прежде всего по стилю, который апеллирует непосредственно к
сопереживанию и эмоциональному восприятию тех значений, от первой части к
четвертой все более личных, которые Ницше считал своими важнейшими открытиями.
Он пишет ее урывками, очень быстро и издает частями, причем четвертая часть,
пародийно напоминающая сюжеты вагнеровского «Парсифаля», была издана,
действительно, как гласит подзаголовок, как «книга для всех и ни для кого» — в
количестве 40 экземпляров, из которых роздано было семь. Каждая часть собрана из
притч, начинается, по правилам греческой риторики, с приглашения к теме, с конкретной
истории, с личного опыта Заратустры, и заканчивается патетической заповедью и
завершением крута: «Так говорил Заратустра».
Именно к этому произведению прежде всего относится характеристика философии
Ницше как музыки и танца. Истины излагаются как откровения, но смысл этих
откровений коренится не столько в непосредственном и общеупотребимом значении
слов, сколько в ритме соединяемых в предложения слов, в их фонетическом созвучии и
их полисемантичности.
В центре работы — фигура Заратустры, которую Ницше «открывает» для себя еще в
«Веселой науке»: пророк Авесты, как считается, реальное историческое лицо. Суть его
проповедей с точки зрения традиции — в идее особой мироупорядочивающей роли
человеческого выбора.
Как считают многие исследователи, Ницше часто отождествляет себя с Заратустрой:
он столь же одинок и переполнен богатством воли и любви, о которой нельзя рассказать
толпе равных перед Богом людей. Это не покинутость, это потребность в вольном
воздухе — жизненная самодостаточность, которая тоже открывается самому Заратустре
не сразу: он сначала идет к людям.
Воля к власти.
Воля к власти. Заратустра описывается через волю, а точнее через волю к власти.
Терминологически Ницше нигде не дает развернутого определения воли в власти. Хотя
уже в «Рождении трагедии из духа музыки» он писал, что только в Афинах осмеливались
говорить о воли к власти. В произведениях Ницше последнего периода этот термин
встречается чаще других. Воля как объяснение всего совершающегося становится для
Ницше своеобразным структурирующим принципом по отношению к другим его идеям.
Во всех проявлениях жизни — «пафос» воли к власти, который несводим к философским
категориям становления, развития, бытия. Именно поэтому идея воли к власти
спровоцировала разнообразные интерпретации и легла в основу компилятивного
произведения «Воля к власти». В нем собраны различные определения воли к власти,
написанные Ницше, видимо, на протяжении всей жизни. У Ницше, действительно, был
проект работы, посвященной переоценке ценностей, который должен был состоять из
четырех частей.
Однако контекст работы по сути отождествляет волю к власти «Will zur Macht» с
волей властвовать, господствовать «Will der Macht», что не соответствует контексту
работ, изданных при жизни философа. Суть воли — в ее стремлении к мощи, к
утверждению жизни. Кстати, есть именно такой русский перевод термина: «воля к
мощи». Именно так понимал Ницше, например, Хайдеггер, отмечая в работе
«Европейский нигилизм», что воля к власти — это не стремление захватить власть.
Главное в ницшеанском понимании воли — ее жизнеутверждающий, творческий
характер. В противоположность другому пониманию воли — как ущербной,
«наказанной» существованием, в том смысле, что ее воление все-
492
гда реализуется в «существующем», которое она не в силах изменить, и поэтому
вынуждена терзаться «деянием и виной», «пока наконец воля не избавится от себя самой
и не станет отрицанием воли»: «Прочь вел я вас от этих басен, когда учил вас: «Воля есть
созидательница»(1: 2, 102).
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.
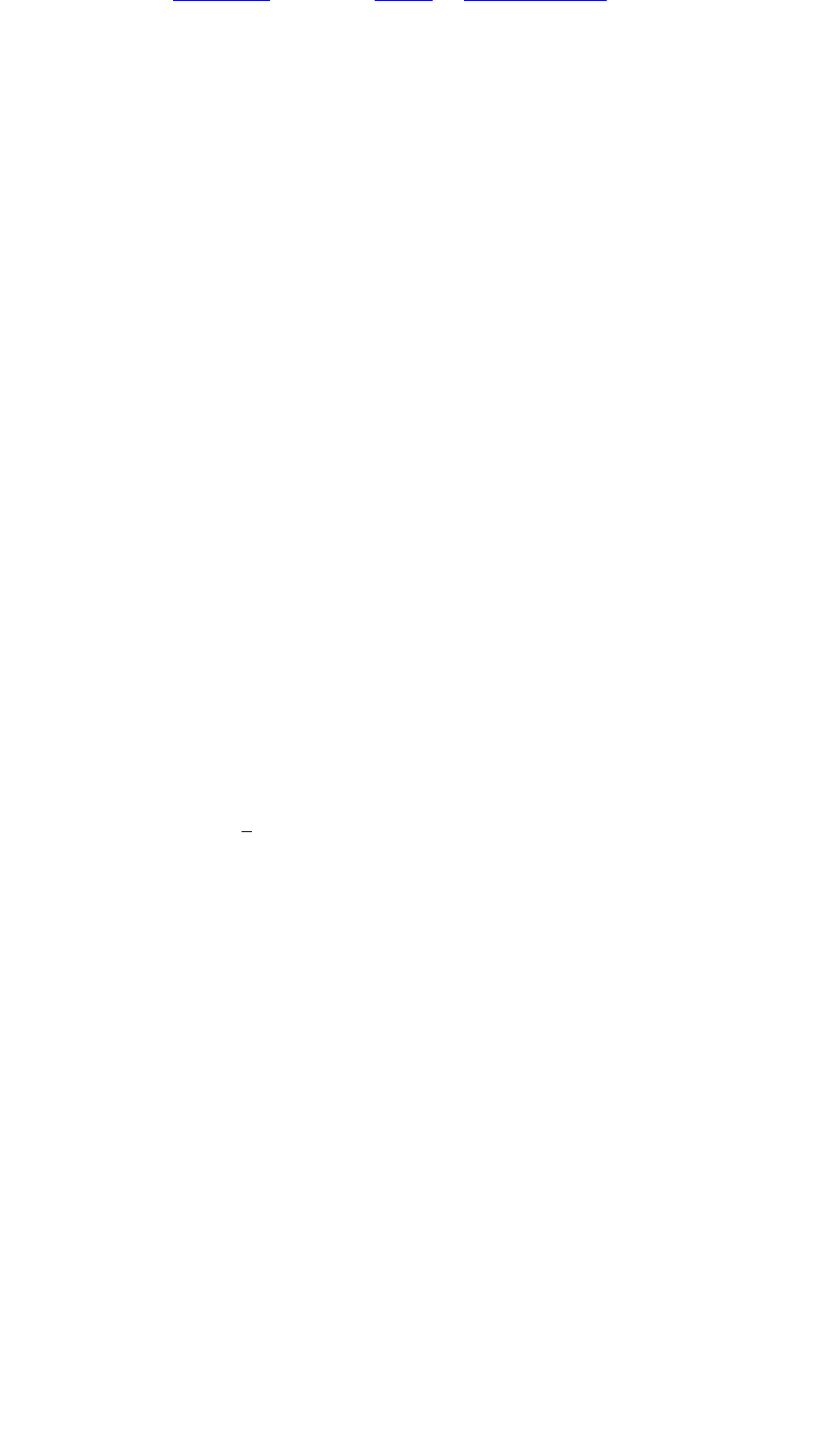
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
374
Совершенно справедливо возникает вопрос о метафизичности понятия воли к власти,
которое он часто отождествляет с волей к жизни. Жизнь понимается как непрерывный
процесс соперничества множества воль, которые стремятся сделаться сильнее, постоянно
увеличивая или теряя свою власть. Однако, согласно Ницше, это не означает, что воля
доступна логике, разумному объяснению и познаваема в традиционном смысле слова.
Принцип противоборства противостоящих воль не сводится к дарвиновской борьбе за
выживание и самосохранение — «борьба идет за преобладание, за рост и расширение, за
мощь воли к власти, которая и есть воля к жиз-ни»(1: 2, 8). Однако и рассуждения о
принципе, и описание жизни как неупорядоченного потока становления Ницше
принципиально не завершает систематическим изложением: он хотел дать «живую»
философию, не выкраивая из нее нечто безжизненное, нечто деревянное,
«четырехугольную глупость», «систему». В этом смысле воля к власти оказывается тем
антиметафизическим центром философии, который заменяет все те упрощения и
предрассудки, по мысли Ницше, которые были приняты в форме понятий каузальности,
субстанции, субъекта, объекта и других в систематической философии.
Такая картина мира определяет и специфическую гносеологическую позицию Ницше.
Мы можем говорить только о том, что мы видим с нашей позиции, исходя из нашей
точки зрения: «Мы не можем ничего сказать о вещи самой по себе, так как в этом случае
мы лишаемся точки зрения познающего». Поэтому она получила название
перспективизма: «есть только одно — перспективное «познание», и чем больше
позволяем мы аффектам говорить о вещи, тем больше глаз, различных глаз имеем мы для
созерцания вещи, тем полнее наше «понятие» о вещи, наша «объективность».
Ключевым для ницшеанской воли к власти оказывается атрибут свободы: «Воля
освобождает: таково истинное учение о воли и свободе — ему учит вас Заратустра» (1: 2,
61). Однако для Ницше эта свобода не предполагает рационально обоснованной цели и
прогресса, более того, она снимает ограничения и дает развернуться самой жизни. Жизнь
можно назвать «единственной целью моей воли».
Учение о сверхчеловеке.
Учение о сверхчеловеке. Этим характеризуется сверхчеловек, Übermensch, о котором
пишет Ницше в первой части «Так говорил Заратустра». Сам Заратустра подчеркивает,
что он учит о сверхчеловеке. Он — «наивысочайшее» самоосуществление воли. Три
стадии превращения, которые мы упоминали, относятся к человеческому духу, который
сам есть «нечто, что должно превзойти»: от реального несовершенного мира и
навязанных извне представлений — к собственной пустыне и свободе «священного Нет»
через битву с Драконом «Ты должен! » — к созданию новых ценностей. Высшие люди —
предшественники сверхчеловека, они смело идут вперед, «дальше их самих», к «стране
своих детей». К сожалению, Ницше даже в притчах не описывал этот творческий этап
более подробно. Этим объясняется своеобразная оценка ценности человека, то есть
современного человека, обремененного всем человеческим: «Человек — это канат,
натянутый между животным и сверхчеловеком, — канат над пропастью... В человеке
важно то, что он мост,
493
а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и гибель» (1:2, 9).
Свобода и презрение к самому себе — вот смысл характеристик сверхчеловека,
утверждающего таким образом саму жизнь.
Образ сверхчеловека противопоставляется образу «последнего человека»: «Земля
стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким» — он
живет дольше всех, но это «самый презренный человек, который уже не может презирать
самого себя» (1: 2, 11). Глупая толпа, слушавшая Заратустру, обрадовалась и была готова
«дать сверхчеловека» взамен на то, чтобы стать последним человеком, не поняв сути
противопоставления.
Все это заставляет нас трактовать художественный образ сверхчеловека как идею
высвобождения человеком жизни в самом себе — в противоположность той
националистской интерпретации, которая была выведена из «Воли к власти» на основе
упоминания «белокурой бестии». По Ницше, «никогда еще не было сверхчеловека» (1:2,
11) .
Представления о сверхчеловеке существовали в истории культуры и философии как
представления о героях и гениях (у софистов, скептиков, философов Возрождения, у
просветителей, в движении «Бури и натиска», в немецком идеализме и т. д.). Однако
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
375
Ницше вводит эту идею как развитие учения о созидательной воле или, что тоже верно,
как основание говорить о созидающей воле и вечном возвращении в том его
амбивалентном понимании, на которое мы еще укажем.
В этом же ключе следует понимать и волю к истине, которая откроет другую
важнейшую книгу этого периода «По ту сторону добра и зла». Речь идет об истине,
отличной от традиционной рационалистической истины, о мышлении, отличном от
традиционного рационалистического мышления: «Могли бы вы мыслить Бога? — Но
пусть это означает для вас волю к истине, чтобы все превратилось в человечески
мыслимое, человечески видимое, человечески чувствуемое! Ваши собственные чувства
вы должны продумать до кон-ца!»(1:2, 60).
Вечное возвращение.
Вечное возвращение. В поздних работах Ницше формулирует и еще одну идею,
которую он считал главным своим открытием — «высшей формулой утверждения,
которая вообще может быть достигнута» и даже специально уточнил в своем дневнике, а
потом в «Ecce homo» время и обстоятельства открытия формулы: она «относится к
августу 1881 года: она набросана на бумаге с надписью «6000 футов по ту сторону
человека и времени». Я шел в этот день вдоль озера Сильваплана через леса...» (1: 2, 743).
Это идея вечного возвращения. Учить вечному возвращению Заратустра начинает только
после того, как наметил перспективу сверхчеловека как стремящегося к наивысшему
проявлению воли к жизни. Сам Заратустра сначала пугается цикличности возвращения: «
— Ах, человек вечно возвращается! Маленький человек вечно возвращается!... А вечное
возвращение даже самого маленького человека! — Это было неприязнью моей ко
всякому существованию» (1: 2, 60).
Но потом выздоравливающий Заратустра переосмысливает это открытие — оно
оказывается связано с идеей сверхчеловека. Но это не план светлого будущего, а жесткий
закон вечного возвращения жизни: «Жизнь есть без смысла, без цели, но возвращается
неизбежно, без заключительного «ничто», «вечный возврат», — принять который может
не каждый: слабый ищет в жизни смысла, цели, задачи, предустановленного порядка;
сильному она должна служить материалом для творчества его. Таков сам Заратустра: «Я
приемлю тебя, жизнь, какова бы ты ни была: данная мне в вечности, ты пре-
494
творяешься в радость и желание непрестанного возвращения твоего; ибо я люблю
тебя, вечность, и благословенно кольцо колец, кольцо возвращения, обручившее меня с
тобою».
Идея вечного возвращения формулировалась в античной философии (Пифагор,
Гераклит, Эмпедокл, стоики, Лукреций и др.) как идея цикличного развития природы.
Ницше приходит вместе с выздоравливающим Заратустрой к идее возвращения как
освобождения и избрания, как обновления и усиления самой жизни. На этом основании
можно сделать предположение, что возвращение не есть повторение того же самого, или
во всяком случае у самого Ницше есть два подхода к возвращению.
Тезис о смерти Бога, таким образом, дополняется идеей о смерти того человеческого,
что сковывает волю: «Прочь от Бога и богов тянула меня эта воля; и что осталось бы
созидать, если бы боги существовали!» (1: 2, 61). О смерти Бога в «Так говорил
Заратустра» сообщается несколько раз: сначала как новость, которую знает Заратустра,
но не знает святой, встретивший его, затем как персонаж, смерть которого вызывает
реакцию толпы, повторяя отчасти сюжет из «Веселой науки», и только потом
раскрывается истинный смысл тезиса — умирает то, что придавало смысл нашей
повседневной жизни как обещание райского блаженства, умирает то, что уравнивает всех
нас и в то же время приписывает значимость каждому ничтожеству, умирает все то, что
мы считали ценностью, или, точнее, было внешним обоснованием ценностей.
Смерть Бога предвещает приход сверхчеловека и только высшие люди могут осознать
смерть Бога. Но это не означает, что сверхчеловек становится на место Бога или, тем
более, что на место Бога становится человек. Это означает радикальную переоценку всех
ценностей. В дальнейшем философы ХХ в., связав идею смерти Бога с идеей о
сверхчеловеке, вывели тезис о смерти субъекта (Ж. Батай, М. Фуко, Э. Левинас и др.).
Под этим понимается принципиальное изменение в философском определении
человеческого — не на противопоставлении, а на обновлении того же самого. Например,
в постструктурализме Ж. Делёза, П. Вирильо, М. Фуко и многих других, прежде всего
политических философов это получило достаточно спорное определение трансгрессии —
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
376
перехода границ того же самого. > Принципиально важной в этом отношении является
реакция человека« Показательна притча «Праздник осла», из-за которой сестра Ницше не
хотела включать четвертую часть в новое издание «Так говорил Заратустра», — она
возвращает нас к дионисийскому началу, о котором шла речь в «Рождении трагедии из
духа музыки», к веселью, которое свойственно высшим людям, — изобретение праздника
оказывается добрым знамением, по словам Заратустры, грядущих изменений.
Переоценка ценностей.
Переоценка ценностей. Какой должна быть философия, чем и как она предполагает
заниматься, от каких ценностей следует отрешиться, какая мораль губит волю к жизни —
эти проблемы затрагиваются в последних работах Ницше. И прежде всего в работе «По
ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего». Последовавшая за ней «К
генеалогии морали» должна была стать приложением к тексту «По ту сторону добра и
зла». Эти две работы выявили внутренние причины упадка человеческого духа и
предложили новый метод анализа этих явлений. Предшествующая «философия
догматиков», назойливо стремившаяся к истине, бессмысленно тратила усилия — «и
быть может, недалеко то время, когда снова поймут, чего, собственно, было уже
достаточно для
495
того, чтобы служить краеугольным камнем таких величественных и безусловных
философских построек, какие возводились до сих пор догматиками, — какое-нибудь
суеверие из незапамятных времен (как, например, суеверие души, еще доныне не
переставшее бесчинствовать под видом суеверных понятий «субъект» и Я), быть может,
какая-нибудь игра слов, какой-нибудь грамматический соблазн или смелое обобщение
очень узких, очень личных, человеческих, слишком человеческих фактов» (1:2, 239).
Воля к истине должна рассматриваться теперь не с точки зрения противопоставления
истины и лжи, правды и заблуждения. Противопоставление и апелляция к чистому духу и
добру самому по себе являются «самым худшим, самым томительным и самым опасным
из всех заблуждений». К философским проблемам следует подходить с позиции
«перспективности, то есть условия всяческой жизни».
Такова будет новая философия, нарождающийся «новый род философов»,
искусителей не будет догматическим в том смысле, что новые философы не будут
претендовать на то, чтобы их личная истина становилась всеобщей истиной, они будут
свободными. Так же нелепо обвинение новой философии в мстительности и злобе —
рассуждения Ницше представляют образ любви, которая бы утверждала волю и
разрушала бы то, что ей противно: «где нельзя уже любить, там нужно — пройти мимо!
— Так говорил Заратустра и прошел мимо шута и большого города» (1:2, 128). Так же
следует понимать и афоризм о философствовании молотом: «Но всегда к человеку влечет
меня сызнова пламенная воля моя к созиданию; так устремляется молот на камень» (1:2,
62).
А главное — они будут совершенно другими, они не будут защищать существующие
ценности и быть современными в том, чтобы поддерживать все нововведения в области
идей.
Ницше имел в виду прежде всего такие новые ценности, как демократия, социализм,
феминизм — все это, по мысли Ницше, является препятствием для свободного
проявления жизни, поскольку позволяет толпе, массе, слабому, женщине властвовать
наравне с тем, кто несет в себе воплощенный жизненный закон. Негативизм Ницше, к
которому часто несправедливо сводится его философия, предполагает оптимизм и
жизнеутверждающее созидание: «Созидать — это великое избавление от страдания и
облегчение жизни. Но чтобы быть созидающим, надо подвергнуться страданиям и
многим превращениям» (1: 2, 61). Отказ от существующих и функционирующих
ценностей обосновывается именем высшего закона, стоящего «по ту сторону добра и
зла».
На первый план в критической части ницшеанской философии выходит, таким
образом, мораль и религия, прежде всего христианство. Этому посвящены названные
работы и произведение «Антихрист», которое должно было стать первой частью
«Переоценки всех ценностей». Моральные и религиозные ценности исторически и
социально относительны, на практике они порождают противоречия, они исторически
изменчивы. Их появление нельзя объяснить целесообразностью или неким единым
основанием. Показать конвенциональность действующих моральных добродетелей, их
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
377
конструктивистский, а не сущностный характер призвана генеалогия морали. Это
принципиально новая дисциплина, задачей которой должно стать историческое
исследование происхождения предрассудков. Это разоблачение искусственной и
противоестественной конструкции того, что считается объективно данным, истинным,
исходным — моральных ценностей. Главным критерием должна стать самоочевидность,
которая не предполагает априорности, логичности, гипотетичности как обосновывающих
право моральных ценностей на существование.
496
Три проблемы кажутся Ницше наиболее показательными — рессентимент
(ressentiment), вина и нечистая совесть, а также аскетизм. Наиболее яркой видится идея
рессентимента, объясняющая происхождение многих моральных переживаний: это
своеобразное, чуть ли не рефлекторное, воспроизведение негативной эмоции, которая
появляется из-за бессилия. По мысли Ницше, слабый человек из-за отсутствия
внутренней жизненной силы чувствует зависть, ревность, ненависть, желание отомстить.
Однако эти чувства опять-таки из-за слабости не находят своей реализации, что
усиливает эффект рессентимента — т. е. воспроизведение состояния бессилия по
отношению к объекту и в результате самобичевание, или самоотравление
сконструированными искусственными запретами и нормами, что придает исходному
злобному чувству маску благочестия и моральности.
Рессентимент может быть направлен вовне — это «восстание рабов в морали», или
обращен на самого себя — это аскетизм. И то и другое оказываются идеалами,
проповедуемыми христианством и социализмом. Христианство, имеющее долгую и
разрушительную, по мнению Ницше, историю, является главным виновником такого
разложения духа, которое мы наблюдаем сегодня. В истории современной мысли
философия Фридриха Ницше занимает особое место. Независимо от ее содержательной
оценки она, несомненно, оказалась одной из самых влиятельных в ХХ в., выходящей за
рамки немецкой философии. Философия Ницше оказалась в эпицентре политической
истории, стала предметом вольной интерпретации, и в этом препарированном виде —
формирующим фактором манипуляции массовым сознанием. Это вызывает
дополнительный интерес и требует еще более бережного отношения к исходным идеям.
Ницше по праву считается основоположником философии жизни, в рамках которой
возникают ее «академическая» версия В. Дильтея (1833— 1911), интуитивизм А.Бергсона
(1859—1941), философия культуры О. Шпенглера (1880— 1936), социология культуры Г.
Зиммеля (1858 — 1918), мифология культуры Л. Клагеса (1872 - 1956) и др.
Идеи Ницше оказали непосредственное влияние на теорию архетипов К. Юнга,
экзистенциальную феноменологию М. Хайдеггера, М. Шелера, герменевтику П. Рикёра и
Г. Гадамера, на экзистенциалистские учения К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, А. Камю.
Следует выделить влияние философии Ницше на постструктурализм, который часто
определяют как неоницшеанство, в рамках которого на основе идеи воли к власти Ницше
возникает концепция микрофизики власти М. Фуко, удовольствия от текста Р. Барта,
образ множественной поверхности Ж. Делёза, соблазна Ж. Бодрийара; на основе идеи
вечного возвращения — идея повторения и различия Ж. Делёза; на основе идеи
сверхчеловека — идея сверх-складки Делёза и многие другие.
Но даже не принимая идеи Ницше непосредственно, не ссылаясь на них, философы
ХХ века вобрали в себя бесценный опыт его философствования.
Литература
1. Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990 .
2. Ницше Ф. Избранные произведения: В 3 т. М., 1994.
3. Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001.
497
4. Белый А. Кризис культуры // На перевале. Берлин, 1923.
5. Данто А. Ницше как философ. М., 2000.
6. Делёз Ж. Ницше. М., 1999.
7. Деррида Ж. Шпоры: Стили Ницше // Вопросы философии. 1988. № 2.
8. Ницше: pro et contra. Антология. СПб., 2001.
9. Риль А. Фридрих Ницше как художник и мыслитель. СПб., 1901.
10. Слотердайк П. Мыслитель на сцене. Материализм Ницше // Ницше Ф. Рождение
трагедии. М., 2001.
11.Фридрих Ницше и философия в России // Сборник статей. СПб., 1999.
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.
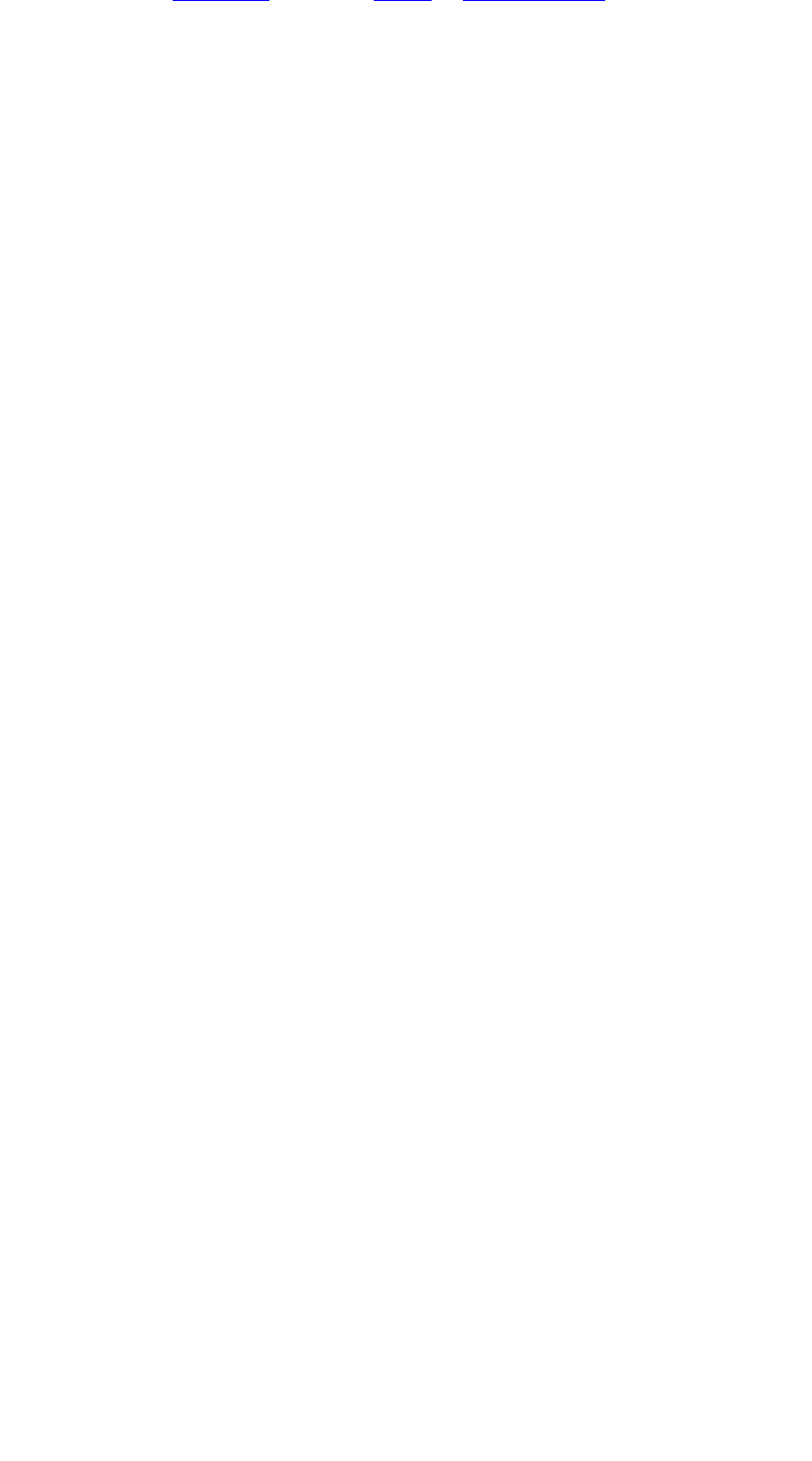
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
378
12. Юнгер Ф. Ницше. М., 2001.
13. Deleuze G. Nietzche et la philosophie. Paris, 1962.
14. Heidegger M. Nietzsches Wort Gott ist tot // M. Heidegger Holzwege. Fr. aM., 1950.
15. Heidegger M. Nietzsche. 2 Bd. Pfullingen, 1976.
16. Jaspers K. Nietzsche. Einführung in das Verstandnis seines Philosophierens. В., 1947.
17. Kofman S. Nietzsche and Metaphor. Stanford, CA, 1993.
18. Pannwitz R. Einführung in Nietzshe. München, 1920.
19. Podach E. F. Nietzches Zusammenbruch. Heidelberg, 1930.
20. Scott Ch. E. The Question of Ethics, Nietzsche, Foucault, Heidegger. Bloomington, IN,
1990.
Глава 10. БЕРГСОН
Анри Бергсон родился в 1859 г. в Париже. До 19 лет он остается гражданином
Великобритании, так как его мать Катрин, увлеченная искусством и привившая сыну
любовь к английскому языку, литературе и поэзии, была англичанкой. Анри,
воспитывавшийся в пансионах с 9 лет, окончательно решает остаться во Франции и
продолжить образование в лицее Кондорсе. Бергсон серьезно и успешно занимался
математикой: преподававший ему известный математик Дебов поместил студенческую
статью Бергсона в свою книгу о Блезе Паскале и современной геометрии, и за нее
Бергсон получил свою первую премию — «Анналов математики». Переход Бергсона в
1881 г. в Эколь Нормаль, где он учился потом философии вместе с Дюркгеймом, стало
большим разочарованием для его профессоров: «Вы могли бы стать математиком, а
пожелали всего лишь быть философом». Проблематика, интересующая Бергсона, — это
прежде всего проблематика научного знания. Он находится под впечатлением
англосаксонской философии второй половины XIX в., прежде всего Г. Спенсера, а также
целой плеяды французских авторов: Равессона, своеобразно толковавшего идеи де
Бирана о соотношении фактов и внутренней жизни, Лашелье, предложившего свою
интерпретацию индукции, и преподававшего в то время в Эколь Нормаль, Э. Бутру,
развивавшего кантовские идеи применительно к современным законам естественных
наук. Бергсон занимается переводом Лукреция и готовит, как это было принято, две
выпускные диссертации: «Чувственное познание по Аристотелю» и «Непосредственные
данные сознания». Над последней он работал в течение двух лет, уже занимая
преподавательскую должность в Клермон-Ферране, но именно в этой работе, вышедшей
в 1889 г. под названием «Очерк о непосредственных данных сознания», содержится
поворотное, по мнению самого Бергсона, открытие — длительность (la duree): «До того
момента, как я осознал длительность, я могу сказать, что я жил снаружи по отношению к
самому себе». Развивая идеи двойственной природы нашего познания, Бергсон, занимая с
1890 г. должность профессора Коллеж де Франс, углубляется в проблемы психологии —
этому посвящена «Материя и память» (1896). Более специальная работа — «Смех.
Очерки о значении комического» (1900) — не менее детально описывает
психологический феномен смеха и те ошибочные интерпретации, которые существовали
в истории философии. Своеобразной реконструкцией метафизики — революционным
интуитивизмом — становится «Творческая эволюция» (1907) и предваряющее ее
«Введение в метафизику» (1903). Именно «Творческая эволюция», где вводится понятие
творческого порыва (élan vital), сделала Бергсона для многих — например, Джеймса,
Маритэна — культовой фигурой. Его лекции чрезвычайно популярны в Анг-
499
лии, США, Испании — в 1919 г. выходит первый сборник его выступлений «Духовная
энергия», второй сборник — «Мысль и движущееся» ( 1934) станет последней
прижизненной публикацией Бергсона. Он становится академиком (1920), в 1917 г. его
направляют с особой миссией в США, затем он работает в Лиге Наций в «Комиссии по
интеллектуальному сотрудничеству» до тех пор, пока артрит не вынуждает его оставить
пост ее президента. В 1928 г. он получает Нобелевскую премию по литературе, после
этого он наконец заканчивает еще один труд, столь же фундаментальный, детально
проработанный, как и все немногие работы Бергсона, — на этот раз посвященный
человеческому обществу «Два источника морали и религии» (1932). В эти годы на
Бергсона сильное влияние оказывает католицизм, и он, согласно многим свидетельствам,
собирается перейти из иудаизма — религии его родителей — в католичество, но волна
антисемитизма заставляет его отложить эти планы: «Я предпочту остаться среди тех, кто
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
379
завтра будет изгоем». После оккупации Франции фашистами он отказывается от
предложенного ему звания «Почетный ариец» и идет в бесконечную очередь регистрации
евреев, простужается и через два дня — 7 января 1941 г. — умирает от воспаления
легких.
Бергсон является родоначальником интуитивизма, поскольку он противопоставил
рациональным познавательным способностям способности интуиции. Только интуиция
способна схватить истину — истину целостной и изменчивой жизни. На этом основании
Бергсона считают представителем так называемой академической философии жизни,
которая старается решить традиционные проблемы философии, исходя из того, что
основным специфическим предметом ее внимания должна быть жизнь.
Учение о длительности.
Учение о длительности. В «Очерке о непосредственных данных сознания» Бергсон,
во многом под влиянием идей эволюционизма Г. Спенсера и, в частности, его разработки
проблемы времени в «Основных началах», вводит свое знаменитое понятие длительности
(la durée), которое оказывается определением сознания: «Чистая длительность есть
форма, которую принимает последовательность наших состояний сознания, когда наше Я
просто живет, когда оно не устанавливает различия между наличными состояниями и
теми, что им предшествовали» (1: 93). Бергсон ставит своей задачей определить сознание
так, чтобы возникла предельно широкая картина индивидуальной духовной жизни,
включающей мысли, образы, эмоции, в противовес популярному тогда количественному
подходу в психологии. Ему важно разобраться с тем, как работают понятия в
современной науке, прежде всего механике и математике. Но при этом он вышел на
самые острые в то время дискуссии в области психологии. Например, «Элементы
психофизики» (1860) Г. Т. Фехнера предлагали точную формулу соотношения
психического (чувства-восприятия) и физического (стимул) сознания. Бергсон считает,
что то, что мы воспринимаем за шкалу — лишь качественная трансформация данных, и
следует исходить из чистого качества по отношению к сознанию. Духовная жизнь не
подчиняется детерминистским законам науки. Длительность отлична от
детерминистского понимания пространства и времени. Казалось бы, эта идея присуща
самым разным наукам, в том числе и психологии, но, по мнению Бергсона, ни в одной
науке нет концепции, в которой время было представлено так, как мы его переживаем.
Идея Бергсона состоит в том, что переживание времени совпадает с последовательностью
состояний нашего сознания, которая не сводится к фиксации отдельных единообразных
моментов — универсальных дискретных единиц. Бергсон дает в качестве примера сюжет
с ча-
500
сами: когда я слежу глазами за стрелками часов, то я считаю одновременности, а не
измеряю длительность, — вне меня, в пространстве, есть только одно-единственное
положение стрелок, от прошлого ничего не осталось, но «внутри же меня продолжается
процесс организации или взаимопроникновения фактов сознания, составляющих
истинную длительность» (1: 96). Только благодаря этой длительности я представляю себе
прошлые положения в тот самый момент, когда я воспринимаю данное положение.
Сознание в широком его понимании, или истинное, основное Я со всем единством
многообразия, состоит в чистом переживании длительности — в чистом протяжении
времени. Во многом Бергсон опирается на априоризм И. Канта, согласно которому
пространство и время суть априорные формы чувственности. Время — особая форма
чувственности, поскольку является «внутренней», структурирует Я и, как отмечается у И.
Канта, оказывается основой опыта, конституирующего чувственный материал на основе
чистых понятий рассудка по принципу так называемого схематизма времени. Но Кант, с
точки зрения Бергсона, путает пространство и время, считая время столь же
схематичным, дискретным, как и пространство. Следует противопоставить длительность
и пространство. Тем более что всегда существует опасность бессознательно заменить ее
пространством, когда мы хотим ее измерить. Однако интуитивистское разрешение
противопоставления пространства и времени — Как результата непосредственного
схватывания — сопровождается у Бергсона так называемым атомистским аргументом:
непрерывность истинного понимания времени противопоставляется дискретности
рационального понятия пространства. Именно поэтому аргументация Бергсона не
подошла современным философам, выстраивающим концепцию непрерывного
изменчивого пространства и апеллирующим к геометрии положения — топологии — в
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
380
противовес дискретной Евклидовой геометрии. Я, понятое как длительность, будет
показано как проявление «неудержимой свободы». Для Бергсона это принципиально
важно, это конечная цель исследования: «надо переместиться в чистую длительность,
чтобы вновь обрести себя, действовать свободно».
Психология.
Психология. Двойственная теория познания, представленная в первой работе
Бергсона, должна быть дополнена психологией, которая объяснила бы механизм такого
познания. Этому посвящена работа «Материя и память». Основные срезы сознания —
восприятия и воспоминания — в современной Бергсону психологии рассматривались как
различные по степени интенсивности явления одной природы. В этом была особенность
и английской философии Нового времени, повлиявшей на всю островную философию
ХХ в.: реальность воспринятого объекта и идеальность представленного — суть одно и
то же. Как отмечает сам Бергсон, психологическая проблема превращается таким образом
в проблему метафизическую, которая требует принципиально нового решения: проблема
определения памяти, не сводящего память к функционированию материи — мозга.
Поэтому Бергсон начинает с условного «чистого восприятия», то есть тело
рассматривается как математическая точка в пространстве, а само восприятие как
математический момент во времени, и обнаруживается, что восприятие — это
«виртуальное действие вещей на наше тело и нашего тела на вещи» (1: 306), состояние
мозга является продолжением восприятия, начавшимся действием. Мозг регистрирует то,
что полезно для действия. В этом смысле, по мнению Бергсона, следует понимать
интеллектуальные иллюзии, которые сводят всю духовную деятельность ис-
501
ключительно к мозговой. У Бергсона есть замечательное образное определение
характера мозговой деятельности: мозг работает как орган пантомимы, он оживляет
мысль, переводит ее в движение и мимику. Поэтому психологический анализ должен, во-
первых, вернуться к проблеме объяснения происхождения умственных функций, а во-
вторых, специальное внимание обратить на метафизическое объяснение механической
привычки действовать. Когда мы добавляем субъективные моменты — придаем телу его
протяженность, а восприятию — его длительность, или, соответственно, аффективность и
память, то окажется, что чистое восприятие не является чистым созерцанием или
возвращением к воспоминанию, которое считалось ослабленным восприятием. Бергсон
критикует теорию ассоциаций прежде всего за то, что все воспоминания и наша работа с
ними рассматриваются как звенья восприятия по принципу сходства или смежности.
Даже критики ассоцианизма не видят истинной природы ассоциаций. Согласно Бергсону,
есть срез действия, где телесно закреплены некие двигательные привычки — ассоциации
разыгрываемые — автоматическая двигательная реакция на сходную внешнюю
ситуацию, а есть срез грезы, где никакое действие не примешивается к образу, это сфера
чистой памяти, сфера духа. Чистое воспоминание соприкасается с чистым восприятием,
отчасти связанным с телесным, в точке реального восприятия, где все оказывается
связано с длительностью и памятью. Точка пересечения спонтанного разума с телесным
дает нам феномен ассоциаций, появления наиболее простых общих идей. Разум, чтобы
дополнить свои воспоминания или локализовать их, должен перейти от бедных
воспоминаний, предназначенных для непосредственного телесного действия, к более
широкому кругу сознания, удалиться от действия. Здесь нет механических операций
разума, это переход на уровень, несводимый к телесному, действующему,
материальному, — переход на уровень духа. Воспоминание не может быть поэтому
результатом церебрального состояния. Это сфера духа. Память отделима от мозговой
деятельности и именно благодаря памяти мы обретаем чувство собственного Я — все
богатство нашего внутреннего духовного мира, не связанного с внешними действиями.
Главный вывод рассуждений о материи и духе, с точки зрения самого Бергсона,
состоит не в подтверждении дуализма, а в устранении или смягчении проблемы «тройной
противоположности непротяженного и протяженного, качества и количества, свободы и
необходимости» (1: 313), связанной с дуализмом. Получается, что «непосредственная
данность, реальность представляет собой нечто промежуточное между разделенной на
части протяженностью и чистой непротяженностью: это то, что мы назвали
экстенсивным» (1: 313 — 314). Это свойство восприятия, которое активно используется
рассудком в интересах действия: абстрактное пространство, например, позволяет нам
манипулировать множественной и бесконечно делимой протяженностью, мы можем
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.
