Торкунов А.В. Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-2002. Том 1
Подождите немного. Документ загружается.


А.Д. Богатуров
как в работах Ленина незабвенная коммунистическая партия фигурирует в роли
революционного авангарда рабочего класса
33
. Как Ленин не считал нужным
поднимать весь класс до уровня авангарда, так и Булл+— к его чести+— не
настаивал на расширении мирового общества до масштабов всего сообщества
наций.
Он справедливо полагал, что и в международном сообществе между
странами может быть много общего+— например, стремление снизить
вероятность войн, чтобы избежать потерь. Но лишь в мировом обществе,
настаивал Булл, государства спаяны глубокой приверженностью единым
стандартам этики и морали. Войны как таковые, считал он, утрачивают в такой
ситуации смысл; они противоречат общему настрою государств мирового
общества уважать в отношениях между собой свободу, демократию и мир как
ценности для каждого и условия процветания для всех. Отсюда знаменитый
романтический вывод: демократии (по определению) не воюют между собой
(не могут, не предназначены для того, чтобы воевать).
Булл в самом деле не помышлял об «экспорте мирового общества», то
есть о его взрывном распространении на весь мир, хотя в принципе чего-то
подобного не исключал. Идея мировой пролетарской революции была ученому,
по-видимому, слишком отвратительна, и он постарался уберечь свою схему от
вульгарного прозелитизма. Да и в целом дух его работы был преимущественно
оборонительным: постулируя избранность демократических стран, даже если
она была избранностью меньшинства, как ценность, автор стремился
отграничить «авангард» мира от его «арьергарда»
34
.
Самозащитный пафос Булла соответствовал духу первой половины 70-х
годов с естественным для западного интеллекта шоком от поражения США во
Вьетнаме (1973), с одной стороны, и дерзкой «нефтяной атаки» арабских стран на
Запад (1973–1974)+— с другой. На таком фоне идея мирового общества
подчеркивала ценность консолидации развитых стран: демократии, не воюющие
друг с другом и рожденные для сотрудничества, представали залогом
благоденствия+— прежде всего для «мирового общества», а также и всех
остальных стран.
Хотя до перестройки Булл не дожил, его идеи, похоже, «оплодотворили»
целое поколение писавших о глобализации. Поскольку обстановка изменилась,
их интерпретации утратили оборонительно-мобилизующий настрой оригинала.
Многообразные теории глобализации приобрели настолько отчетливые черты
наступательности, что ассоциируются сегодня не с «гетто избранничеств», а с
призраком «мировой либеральной революции»+— зеркального отражения
коминтерновской химеры всемирной пролетарской революции,
перекодированной сообразно реалиям конца XX века.
Мировое общество, которое исходно мыслилось как привилегированный
клуб цивилизованных стран, после распада СССР и разворота
постсоциалистических государств к сотрудничеству с Западом стало почитаться
безальтернативной перспективой всего человечества. Разумеется, если оно не
вознамерится во вред себе же остаться за порогом райской обители
индустриальных и постиндустриальных культурности и благополучия. Из вполне
искренних побуждений странам международного сообщества стали предлагать
поскорее «подрасти» до уровня мирового общества. При этом им, с одной стороны,
сулили помощь и поддержку, а с другой+— попугивали тем, что рано или поздно
81

А.Д. Богатуров
глобализация «все равно неизбежно» приведет к их поглощению сверхмощной
экономической машиной Запада. Международное сообщество стало выглядеть
внешней оболочкой разбухающего ядра мирового общества, которую ему
предстояло неминуемо заполнить.
Так из синтеза исходной идеи мирового общества и наслоившихся на нее
концепций глобализации на Западе выросла новая интеллектуальная парадигма
и этико-теоретическая платформа международных отношений. Концепция
«расширения демократии», которую весной 1993+года огласил помощник
президента США по национальной безопасности Энтони Лейк, сыграла роль
политико-идеологического обрамления, рассчитанного на практическую
реализацию этой платформы. Начало переговоров о расширении НАТО в
1997+году и параллельное распространение европейских интеграционных
структур на Восток стали рубежными событиями+— начало осуществляться то,
что предначертали теоретики. Экспансия
35
мирового общества на планете стала
главной тенденцией международной жизни 90-х годов. В Восточной Европе, на
постсоветском пространстве, кое-где в Азии, вообще всюду, где можно, начали
культивировать слабые и неустойчивые посттоталитарные плюралистические
режимы рыночной ориентации. Каждый из них претендовал на звание
демократического.
II
Экспансия мирового общества в сферу международного сообщества не
была, разумеется, плодом одних лишь мыслительных упражнений теоретиков и
конъюнктурных побуждений политиков. Ее фундаментом служили как
материальные, так и виртуальные новации, обобщаемые в обыденном
политологическом дискурсе расплывчатым и неточным словом
«глобализация»
36
. В литературе 90-х годов оно в различных сочетаниях
обозначало по меньшей мере восемь основных тенденций и явлений:
1) объективное усиление проницаемости межгосударственных
перегородок (феномены «преодоления границ» и «экономического
гражданства»
37
);
2) резкое возрастание объемов и интенсивности трансгосударственных,
транснациональных перетоков капиталов, информации, услуг и человеческих
ресурсов;
3) массированное распространение западных стандартов потребления,
быта, само- и мировосприятия на все другие части планеты;
4) усиление роли вне-, над-, транс- и просто негосударственных
регуляторов мировой экономики и международных отношений
38
;
5) форсированный экспорт и вживление в политическую ткань разных
стран мира тех или других вариаций модели демократического государственного
устройства;
6)+формирование виртуального пространства электронно-коммуникацион-
ного общения, резко увеличивающего возможности для социализации личности, то
есть для непосредственного приобщения индивида (пассивно или интерактивно),
где бы тот ни находился, к общемировым информационным процессам;
7) возникновение и культивирование в сфере глобальных
информационных сетей образа ответственности всех и каждого индивида за
82

А.Д. Богатуров
чужие судьбы, проблемы, конфликты, состояние окружающей среды,
политические и иные события в любых, возможно, даже неизвестных человеку
уголках мира;
8) возникновение «идеологии глобализации» как совокупности
взаимосвязанных постулатов, призванных обосновать одновременно благо и
неизбежность тенденций, «работающих» на объединение мира под руководством его
цивилизованного центра, под которым так или иначе подразумеваются США и
«группа семи».
Простой обзор проявлений глобализации позволяет подразделить их на
материальные (объективные) и виртуальные (манипуляционные). К первым
относится все, что касается реального движения финансовых потоков и его
обеспечения, трансферта технологий, товаров и услуг, массовых миграций,
строительства глобальных информационных сетей и+т.п. Ко вторым+—
содержательное наполнение этих сетей, распространение определенных
ценностей и оценочных стандартов, формирование и продвижение
предназначенных международному общественному мнению психологических и
политико-психологических установок. Очевидно, глобализация+— это не только
то, что существует на самом деле, но и то, что людям предлагают думать и что
они думают о происходящем и его перспективах.
Последнее уточнение важно. В самом деле, если материальные
проявления глобализации не вызывают сомнений, так как их ежечасно
подтверждает жизненная практика, то ряд «выводов», формально апеллирующих
к материальной стороне глобализации, не кажутся ни безупречными, ни
единственно возможными вариантами понимания действительности. Во всяком
случае, в той мере, в какой позволяют судить опыт и анализ ситуации на
пространстве новых государств в зоне бывшего СССР, и в частности в России. К
такому же эффекту приводят и размышления о необходимости анализировать
международные отношения выходя за рамки системного взгляда на реальность.
В российской политико-интеллектуальной ситуации наиболее
сомнительными кажутся три постулата теорий глобализации:
• кризис и устаревание государства,
• модернизация и вестернизация как естественный результат глобализации,
• «демократическая однополярность» как предпочтительный способ
самоорганизации международной структуры.
III
В отечественной традиции идея отмирания государства хорошо известна по
трудам коммунистов и левых социал-демократов, которые позаимствовали
представление о возможности заменить старое государство «свободно
самоуправляющимися» сообществами граждан из западноевропейских источников.
Правда, с победой советской власти в России и возникновением «реального
социализма» гипотезу отмирания государства отодвинули в неопределенное
будущее. Важнейшей национальной задачей стало считаться укрепление
социалистической державы, как то было при Романовых применительно к империи.
Ситуация принципиально не менялась до конца 80-х годов, когда Михаил Горбачёв
вынужденно и боязливо приступил к реформе государственной системы+—
83

А.Д. Богатуров
изменению отношений компартии с государством и модификации основ советской
федерации.
Попытка отказаться от презумпции ценности государственнического
начала окончилась для СССР плачевно. Правда, лично Борису Ельцину игра на
антигосударственнической волне принесла успех. Она позволила ему прийти к
верховной власти в результате «отделения» Российской Федерации от СССР.
Смутные годы всеобщей суверенизации и кризисов самоопределения (в
частности, чеченская война 1994-1996+годов), нестабильности государственных
институтов по инерции проходили под знаком отрицания «старого» государства.
Это оборачивалось отрицанием государства вообще и единого государства в
частности, пока в сентябре 1998+года не было сформировано правительство
Евгения Примакова, обозначившего поворот к возвращению
государственнической идеологии+— правда, в измененном виде. Вторая
чеченская война придала государственничеству воинственно-реставрационные
формы. Страна стала возвращаться к опоре на сильное государство как на
главный, хотя и не единственный и не монопольный инструмент защиты
национальных интересов.
События 1998–1999+годов в России позволили организационно
оформиться тенденции, которая и до того выделяла ее на фоне процессов в
Европе. Там в 80–90-е годы интеллектуалы и политики были последовательно,
добровольно и даже несколько самоистязательно настроены на отрицание
национально-государственных начал и идеализировали надгосударственные,
интеграционные и регионалистские начала. Присоединяя к себе Центральную
Европу (и прежде всего ГДР), Европа Западная готовилась отречься от
отдельных германского, французского, итальянского или британского
государств во имя консолидации коллективной субъектности Европейского
союза. Его непосредственными участниками вместе (а со временем и наряду) с
историческими государствами+— Францией, Германией, Испанией и
Соединенным Королевством+— могли бы стать входящие в них исторические
области (Корсика, Савойя, Бавария, Страна Басков, Шотландия), а может быть, и
новообразования («трансграничные еврорегионы» вроде украино-русино-
венгерских Карпат, австро-итальянского Притиролья, польско-германской
Померании или+— как знать+— русско-литовско-польско-немецкой Пруссии-
Калининграда)
39
.
Европа, которая в результате революций национального самоопределения
XIX века начала превращаться в современный мировой центр, прошла в XX
через порожденные национализмом мировые войны, чтобы на склоне
тысячелетия снова столкнуться с той же угрозой в условиях мира, благополучия
и даже богатства. Реагируя на возрождение националистической угрозы
«изнутри», западно-европейские интеллект и политическая воля стали
вырабатывать собственный, точно учитывающий региональную специфику
рецепт: как предупредить эту угрозу и управлять вызревающим конфликтом.
Среди «евролибералов» появился почти ажиотажный интерес к проблеме
«устаревания» национального государства. Этот «индуцированный невроз»
распространился по всему миру, включая США
40
. Европейский проект поистине
отважен и грандиозен. Попытки осуществить его заставляют следить за собой с
замиранием сердца; чему он научит Россию в случае своего успеха или
неуспеха?
84
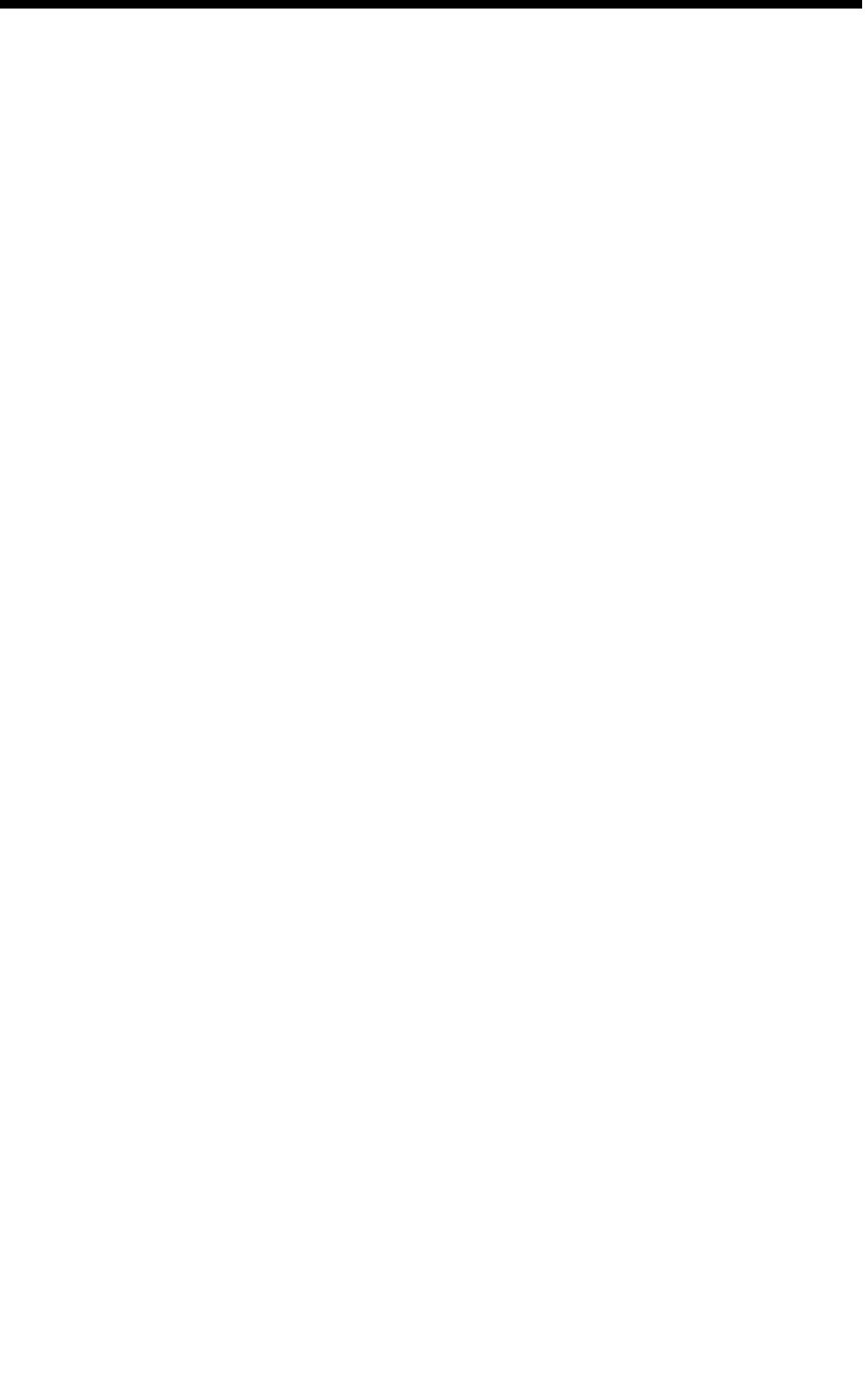
А.Д. Богатуров
Европейский рецепт предлагает «растворить» проблему самоопределения
отдельных этнических групп в интеграции всех европейских народов. Чем
острее ощущают в Лондоне шотландскую и североирландскую угрозы, в
Париже+— корсиканскую, в Мадриде+— каталонскую и басконскую, а в Риме+—
южно-тирольскую и ломбардскую, тем с большим нажимом политики говорят
об ускорении интеграции. Укрепляя национальное начало, западно-европейские
страны создают средство, которое позволило бы им обуздать радикальное
самоопределение. Устремление понятное, пока западноевропейцы работают над
решением собственных проблем, но и угрожающее, когда методы
наднационального регулирования экспортируют за пределы «интегрированной
Европы»+— на Балканы или на территорию бывшего СССР.
Теории глобализации безапелляционно акцентируют мировые тенденции
к модернизации и преодолению «отсталости» по известным лекалам. В качестве
универсальных предлагают образцы решений, выработанные на основе
грандиозного, но специфичного западного опыта. Пока он воздействует на умы,
демонстрируя свою привлекательность, оснований возражать нет. Но когда
стандарты «мирового общества» насаждают силой, следует называть вещи
своими именами. Форсированные попытки действовать исходя из «вторичности»
и ненужности государственного суверенитета там, где забота о его укреплении
объективно составляет главную задачу, приводят к кровавым конфликтам.
Пример насильственного проецирования стандартов мирового общества на
«приграничные» зоны+— ситуация на Балканах.
Понятно, что европейские лидеры болезненно воспринимают обострение
проблем самоопределения в этой части мира: из западноевропейских столиц она
выглядит естественной сферой влияния «Большой Европы»+— почти так же, как
большинство российской элиты смотрит на зону СНГ. Но типологически
«неинтегрированная» Европа существенно отличается от «интегрированной». И
дело не во взглядах лидеров: отрекшийся от коммунизма покойный хорватский
президент Франьо Туджман ни в теории, ни в практике ничем не отличался от
«условно коммунистического» сербского президента Слободана Милошевича.
Однако Хорватию произвольно зачислили в партнеры Запада, а из Сербии сделали
изгоя+— за то, что она пыталась сделать в Косове именно то, что несколькими
годами раньше Загреб сделал при поддержке Запада в Сербской Крайне. Хорватия
и Сербия дрались за то, что считали самым главным,+— за свое новое
государственное «я». Либеральные трактаты об общемировой тенденции к
отмиранию государства казались им вычурным конструктом утомленного
сытостью интеллекта.
С точки зрения западноевропейских стран разумно спешить в «над-
Европу», готовить теоретическую и политико-идеологическую почву для
грядущего слияния. Во-первых, для западноевропейцев фрагментация
государств Старого Света+— реальная угроза, на которую следует реагировать.
Во-вторых, с 1870+по 1945+годы Западная Европа прошла через три
изнурительные войны (франко-прусская и две мировые), в которых как раз и
шла борьба за окончательное оформление системы европейских национальных
государств. Эта часть Европы созрела для «преодоления» традиционной
государственности.
Большинство же новых государств Юго-Восточной, Восточной Европы и
зоны бывшего СССР не столько страшатся национализма, сколько признательны
85

А.Д. Богатуров
ему как основной движущей силе, благодаря которой они возникли на карте
мира. Ни у одной из таких стран, включая Россию, не было возможности
«пресытиться» государственностью и «устать» от нее. В России
западноевропейские рекомендации «преодолевать» государственность при
помощи интеграции и рационализации кажутся либерально-утопическим
аналогом провалившихся советских попыток перенести отсталые общества из
средневековья прямо в «социализм» и «коммунизм», минуя рыночные
отношения и начальное промышленное производство. Даже в новой России,
выкарабкавшейся из-под обломков Союза, ощущается страх перед новой
эскалацией территориального распада+— на него-то и среагировала в 1999+году
российская элита, попытавшись (возможно, временно) вернуться к идее
укрепления государственности.
В принципе теоретики упрекают государство справедливо. Во-первых,
они сомневаются, нужно ли оно в условиях, когда каждый гражданин в
отдельности может напрямую обратиться для защиты своих интересов в
международные правозащитные, судебные и другие органы+— от
Международной амнистии до Международного суда. Во-вторых, в стабильной
Западной Европе убедительно звучат слова о необходимости защищать не
всесильное государство от людей, а наоборот. В-третьих, надгосударственные и
трансгосударственные субъекты (международные финансовые институты и
МНК) действительно обладают ресурсами, которые намного превосходят
возможности большинства государств. Поэтому их суверенитет, во всяком
случае экономический, становится фиктивным. Наконец, в-четвертых, как
отмечают исследователи, «обычное» государство не способно регулировать
межэтнические отношения, которые успешнее разрешимы в рамках
надгосударственных общностей.
Вряд ли кто-либо возьмется всерьез оспаривать любое из этих замечаний по
сути. Эти и другие слабости государства очевидны и россиянам. Но в России
потребность граждан в защите от государства по-иному соотносится с защитой
граждан при его помощи. Найти управу на произвол российского чиновника можно
было бы, хотя и с трудом, также и в Гааге (в Москве выросла целая сеть агентов,
оказывающих соответствующую помощь гражданам). Но как с помощью санкций
извне России защитить жителей Ставрополья, Ростовской области и даже Москвы
от изгнания из родных домов, похищений, взрывов, террора и рэкета?
Там, где ситуация нестабильна и опасна, у идеи отмирания государства
нет прочной основы. Ослабление государственного начала в России грозит
распадом страны. Игнорировать эту опасность не решаются сейчас даже
убежденные радикал-демократы. Не случайно прозападный Союз правых сил+—
преемник демократического движения начала 90-х+— прошлой осенью
решительно перешел на государственнические позиции в политических
вопросах, продолжая отстаивать идею свободного рынка.
Не менее показателен опыт стран СНГ и большей части государств
Восточной Европы, где преобладает тенденция не к «преодолению» государства,
а к его всемерному усилению. Оно должно служить в первую очередь силовому
регулированию внутренних гражданских отношений (Хорватия, Сербия,
Румыния, Латвия, Эстония, Белоруссия, Грузия, Казахстан, новые государства
Центральной Азии), противостоянию гипотетической или реальной внешней
угрозе (Албания, Македония, Армения, Азербайджан), задачам социально-
86

А.Д. Богатуров
экономического развития (Украина). Наконец, всем перечисленным
государствам наступательная государственническая философия политики
служит инструментом утверждения (часто избыточного) новой идентичности.
Замечу, что и в той части Североамериканского материка, которую занимают
Соединенные Штаты, важнейший постулат глобализации+— «одоление»
государства надгосударственностью+— вызывает сегодня больше сомнений, чем
понимания.
IV
«Невместимость» международных реальностей в русло теорий
глобализации часто сводят к воздействию фактора исторической
асинхронности+— отставания России и связанной с ней поясной зоны
Центральной Евразии от Западной Европы и Северной Америки. Такое
объяснение тоже не может удовлетворить. Рискну поэтому усомниться в том,
насколько обоснованны глобализаторские построения с точки зрения их
методологии.
Теории глобализации исходят из единственной версии понимания
мирового развития+— линейно-прогрессивной. Если полагаться на нее, то
действительно следует ожидать, что «отставшие» страны со временем
«подтянутся», просветятся, избавятся от ненужной архаики традиций,
осовременят себя по образу и подобию передового Запада. Это подготовит их к
вхождению в мировое общество. При таком взгляде трудно возражать против
того, что весь мир «естественно обречен» рано или поздно стать сплошным
Западом, а международное сообщество+— мировым обществом. Не вызовет
сомнений и нынешняя однополярная структура международных отношений, так
как она наилучшим образом способна распространять импульсы глобализации в
ее вестернизаторской версии.
Всякая теория склонна к упрощениям, и глобализаторская+— не
исключение. Ее краеугольный постулат о перспективе общего уподобления
постиндустриальному западному обществу строится на понимании связей между
субъектами как жестких и лучевых. Имеется в виду, что такие связи проникают
повсюду и на своем пути все видоизменяют. Им отводится роль инструмента
унификации мира, формирования в нем единообразных пластов социальной,
международной и иной реальности (общие стандарты потребления, поведения и
быта, единые ценности, сходные политические практики, модели поведения,
родственные художественные вкусы и+т.п.).
Однако распространение импульса по лучу+— не единственно возможный
тип связей в социальной и международной среде. Они бывают не только
жесткими, пронзающими и лучевыми, но и мягкими, гибкими и
опоясывающими. А значит, передаваемое через них воздействие не обязательно
должно «вонзаться вглубь», а может растекаться по поверхности, вдоль внешних
мембран-оболочек объекта+— что и происходит на деле. Конечно,
видоизменяющие импульсы могут просачиваться сквозь мембраны-оболочки
вовнутрь, но лишь постепенно, дозированно и в меру проницаемости мембран.
Внешние импульсы способны менять внутренние структуры объектов, но не
обязательно радикально, уподобляя их источнику первичного импульса.
87

А.Д. Богатуров
Следуя такой логике, страны, не входящие в «гетто избранничеств»
мирового общества (Россия в том числе), не обязательно должны поддаваться
воздействию внешнего мира настолько, чтобы видоизменялась их сущность,
заданная геополитической ситуацией, культурной традицией и историей.
Причем эти общества могут избегать уподобления, прагматически используя
благоприятные элементы внешних воздействий, допуская их в одни и не
допуская в другие сферы своей внутренней жизни. Так, Япония и Корея, освоив
западные стандарты бизнеса, не позволили внешним влияниям разрушить
традиционные для них модели производственного поведения (отношение к
работе как к сакрализованному долгу; соотношение между потреблением и
отдыхом, с одной стороны, накоплением и трудовыми занятиями+— с другой, в
котором важнее считаются последние, и+т.п.). Более того, сумев найти
оптимальные сочетания новаций и архаики, эти страны сами приобрели черты
новой субъектности, выступая в качестве образца для подражания в глазах самих
западных обществ.
Общества, относительно удаленные от «мирообщественного центра» и
ставшие объектами модернизаторства (цивилизаторства, глобализаторства),
развили в себе особую внутреннюю структуру+— конгломерат, позволяющий
успешно совмещать новое и архаичное начала так, что они не уничтожают друг
друга, а образуют отдельные анклавы
41
.
Анклавы со-полагаются и влияют друг на друга, но не образуют общего
однородного качества через традиционную цепочку: разрушение исходных
качеств+— слияние-сплав+— синтез и образование нового свойства. Анклавы
устойчивы, потому что на протяжении исторически продолжительных периодов
их стабильно востребует общество, причем в свойственном каждому из них
исключительном качестве. Поэтому три века модернизации так и не сделали
Россию (не могли сделать!) «современной» в западном смысле слова. Однако
она развила в себе обширный анклав «современного», который продолжает
сосуществовать с еще более масштабным анклавом традиционного
(неформальные общественные отношения, быт, модели экономического и
политического поведения).
Конгломеративная структура типична для России, а также большинства
других «переходных обществ» восточно-европейского и постсоветского ареалов,
Китая, Индии, Японии и ряда других не западных государств. Сама по себе она не
обрекает общество на отставание и застой, ее можно превосходно приспособить к
восприятию новаций. Просто каждый анклав воспринимает их по-своему, меняясь
в пределах собственной структуры. Общий потенциал накопленных в обществе
новшеств нарастает, но анклавная структура не разрушается, и соотношение
между анклавами (двумя или более) остается более или менее устойчивым.
К примеру, нынешние отношения между российскими губернаторами и
членами федерального правительства, конечно же, отличаются от тех, что
существовали между приказными дьяками и просителями во времена Алексея
Михайловича. Но в обоих случаях эти отношения регулировали и регулируют не
столько писаные законы, сколько неформальные связи и симпатии-антипатии
(взывающие к землячеству, родству, знакомству, совместной учебе,
принадлежности к одним и тем же клубам, гласным и негласным объединениям по
интересам и+пр.).
88

А.Д. Богатуров
Точно так же «современные» для начала XVIII века бюрократические
методы управления при Петре Великом отличаются от теперешних процедур, но
круговая оборона чиновников перед просителями-гражданами, и сегодня
бесправными, принципиальных изменений не претерпела. Фактический
механизм, при помощи которого люди преодолевают бюрократические тупики,
как и триста лет назад, зависит от того, есть ли у заявителя каналы
неформального воздействия на разрешающую инстанцию. Чиновнику выгодно
представляться носителем «современного», и потому, агитируя в соответствии с
новыми законами за избрание в законодательное собрание «своего» депутата, он
ведет себя в духе времени. Но прозрачность прохождения бумаг через его
ведомство ему совсем не выгодна, потому что в других случаях он поступает
вполне «традиционно» (например, вымогает мзду с просителей).
Примеры легко умножить. Для моего рассуждения важнее зафиксировать,
что общество и элита в равной мере нуждаются как в современном, так и
архаичном. И до тех пор пока эта мотивировка сохраняется, «многокамерная»,
конгломеративная структура общества не изменится, как не менялась она в
принципе за последние три столетия. По этому поводу можно сокрушаться или
ликовать, но исходить из того, что «скоро» все станет по-другому, нельзя. Один
из главных недостатков современной российской политологии состоит, на мой
взгляд, в том, что она вот уже десятилетие держится на зарубежных наработках,
позабыв о необходимости наряду с их освоением углубленно изучать
фактическое развитие российской действительности. Это позволило бы на базе
накопленного материала прийти к обобщениям, которые способны уточнить и в
ряде существенных положений дополнить зарубежные теории.
Можно ли считать, что структура современных международных отношений
анклавно-конгломеративна? Отвергать эту версию только из-за того, что
образованное сознание привыкло полагать иначе, оснований нет. Как нет их и для
того, чтобы считать, будто единство мира можно понимать только как единство
системное, построенное на жесткой взаимосвязи входящих в систему элементов,
под воздействием которых сама система с течением времени тяготеет к
однородности.
Ни практически, ни теоретически мир не утратит цельности, отказавшись
от линейно-прогрессивного credo. Как хорошо известно (в частности,
благодаря работам по синергетике), движение-развитие может происходить по
колебательным, спиралеобразным и даже более сложным траекториям.
Например, спиралевидно-циклический взгляд на историю легко объясняет рост
безграмотности среди отдельных категорий населения постиндустриальных
США и посттоталитарной России.
Думаю, что взгляд на мир как на конгломерат взаимодействующих, но не
обреченных на взаимное уподобление анклавов (через фактическое поглощение
не-Запада Западом) соответствует живой реальности. Такой подход отличается
от видения мира сквозь призму глобализации-вестернизации в трех отношениях.
Во-первых, он органичнее сочетается с фактическим многообразием мира,
находя естественное структурное местоположение и функцию как для западных,
так и не западных его составляющих. Мир перестает, как сегодня, делиться на
«Запад» и «недо-Запад», который должен стать Западом, но еще этого не сделал
из-за неразумия, «отсталости» и злонамеренного (коммунистического) упрямства.
89

А.Д. Богатуров
В идеале мир-конгломерат предстает состоящим из нескольких
равноположенных частей-анклавов, непохожих и не стремящихся походить
друг на друга, но взаимно влияющих и взаимно приспосабливающихся. Причем на
«поверхности» такого образования постепенно складывается стабилизирующий
его общий пласт разделяемых всеми ценностей (например, мира). Однако
внутренняя организация каждого анклава не разрушается только потому, что
более развитому анклаву (в данном случае мировому обществу) по
экономическим, экологическим и ресурсным соображениям выгодно побыстрее
освоить пространство соседних анклавов+— даже ценой их разрушения.
Во-вторых, достоинство анклавно-конгломеративного видения мира+— и в
его миролюбивом, примирительном характере, контрастирующем с
воинственностью глобализационных теорий, их нескрываемой ориентацией на
поглощение «отсталого» «передовым» и борьбой различных цивилизационных
сущностей за выживание. При предлагаемом подходе новый мировой антагонизм
перестает быть неизбежным. Намечаются пути его предупреждения: отказ от
форсированных попыток модернизации+— даже из благородных побуждений
поделиться лучшими стандартами политического устройства, хозяйствования,
потребления и быта.
В-третьих, предлагаемый подход представляет собой, по сути дела,
вариант средоохранной (и в этом смысле экологической) рационализации. Он
противостоит инструменталистско-преобразовательскому отношению мирового
общества к среде своего обитания+— международному сообществу. Такой
подход призывает считаться с ним как с равнозначной составляющей
международных отношений, а не бессильным объектом «мирообщественных»
устремлений. Миру, может быть, стоит помедлить, чтобы осознать, куда ведет
постиндустриализм с его постоянно растущим потреблением ресурсов и
обеднением культурно-духовного многообразия планеты.
Анклавно-конгломеративный подход по-своему воплощает идею
целостности мира. Он предполагает, что в планетарном организме действуют
единые естественно-материальные закономерности, задающие человеческой
общности основные параметры поведения. Но вместе с тем противостоит попыткам
преподнести один из вариантов рационализации этого поведения (соблазнительный
с позиций современного потребления) в качестве высшего достижения людского
интеллекта.
Современная рациональность и сопутствующее ей понимание добра и
зла неразрывно связаны с потребительским отношением к среде+—
социальной, страновой, межстрановой и+т.п. Этот вектор развития, который
порожден материальными интересами и сверхмощными движущими силами
межнациональных корпораций скорее всего будут действовать и впредь. С
этой точки зрения глобализационные теории выполняют прикладную роль,
обосновывая наименее затратные пути для бесконфликтного расширения
природной базы такой модели роста. Однако ресурсоемкий тип развития
устаревает, и природно-ресурсный (прежде всего экологический) кризис на
планете может этот процесс неожиданно ускорить.
V
90
