Пережигина Н.В., Солондаев В.К. Проблемы нормы и патологии психического и моторного развития
Подождите немного. Документ загружается.


3. Бгажнокова И. М. Психология умственно отсталого школьника. М., 1987.
4. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе.//Хрестоматия по
возрастной психологии. Часть I. М., 1999. С.270-283.
5. Голованова Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка. Учебное пособие для
студентов высших учебных заведений. - СПб.: Речь, 2004. - 272 с.
6. Гончарова Е.Л. Специальная психология [электронный ресурс]// АЛЬМАНАХ
ИНСТИТУТА КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ РАО. №5, 2002 г. -
http://www.ise.iip.net/almanah/5/index.htm
7. Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. Реабилитация средствами образования: особые
образовательные потребности детей с выраженными нарушениями в развитии// Сб.
научных трудов и проектных материалов ИПН РАО «Подходы к реабилитации
детей с особенностями развития средствами образования». – М., 1996.
8. Дети с глубокими нарушениями зрения. / Под. ред. Земцовой М.И., Каплан А.И.,
Певзнер М.С. – М., 1967.
9. Дети с задержкой психического развития. - М.,1984
10. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития
детей. – М., 1995.
11. Иванова Н.Л., Конева Е.В., Коряковцева О.А. «Психология современного
подростка: поведенческие проблемы, воспитание толерантности». Ярославль, 2001.
12. Интегрированное обучение детей с нарушением слуха / Под ред. Л. М.
Шипицыной. СПб., 1999
13. Коррекционная педагогика / Под ред. Б. П. Пузанова М., 1999.
14. Крайг Г. Психология развития. С-Пб., 2000.
15. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения до 17 лет.
М., 1998.
16. Люблинская А.А. Детская психология. - М.,1970.
17. Малофеев Н.Н. Специальное образование в России и за рубежом. - М.,1996.
18. Морозова Н.Б. Психические расстройства и их роль в виктимном поведении детей
и подростков [электронный ресурс] //
http://www.rusmedserv.com/psychsex/teens/psihvikt.htm
19. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство,
отрочество. - М., 2001.
20. Обухова Л. Ф. Эпигенетическая теория развития личности Эрика Эриксона
[электронный ресурс] // www.eduhmao.ru .*
21. Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. М., 2002
22. Патопсихология. Хрестоматия / Сост. Н. Л. Белопольская. М., 1998.
23. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. М.,2000.
24. Практикум по олигофренопсихологии / Под ред. А. Д. Виноградовой. М., 1985.
25. Практикум по патопсихологии / Под ред. Б. В. Зейгарник. М., 1985.
26. Психологическая помощь при нарушениях раннего эмоционального развития. /
Сост.Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг. - М.,2001.
27. Психологические особенности слепых и слабовидящих школьников / Под ред. А.
И. Зотова. Л., 1981
28. Психология глухих детей. / Под. ред.И.М. Соловьева. Ж.И. Шиф, Т.В. Розановой и
Н.В. Яшковой. - М.,1971
29. Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития/Сост. и
общ. ред. В.М. Астаповой, Ю.В. Микадзе. – Спб: Питер. 2002.
30. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. С-Пб.,2000.
31. Раменская О. П. Психологическое изучение личности дошкольника с
церебральным параличом. М., 1980.
32. Ранний детский аутизм / Под ред. Т. А. Власовой и др М., 1981.
31

33. Ремизова Г.Е. Общение ребенка со сверстниками в дошкольном возрасте
[электронный ресурс] / www.eti-deti.ru
34. Рубинштейн С.Я Психология умственно отсталого школьника. - М., 1986.
35. Сапогова Е.Е. Психология развития человека. Учебное пособие. М.,2001.
36. Семаго Н. Я., Семаго М. М. Проблемные дети. М., 2000
37. Слепоглухонемота: исторические и методологические аспекты. Мифы и реальность
/ Под ред. А. В. Суворова. М., 1989.
38. Слот В., Спанярд Х. Нидерландская модель социальной помощи детям и
подросткам, ориентированная на социальную компетентность.//Вестник
психосоциальной и коррекционной работы. 200 1, №1.
39. Солнцева Л.И. Тифлопсихология детства. – М., 2000.
40. Сорокин В. М., Кокоренко В. Л. Практикум по специальной психологии: Учебно-
метод. пособ. / Под. научн. ред. Л. М. Шипицыной. — СПб.: Издательство «Речь»,
2003.- 122с.
41. Сорокин В.М. Специальная психология.
42. Специальная психология / Под ред. В.И. Лубовского. – М., 2003
43. Туревская Е.И. Возрастная психология. // www.tgpu@tula.net
44. Учащиеся вспомогательной школы. / Под. ред. М.С.Певзнер, К.С.Лебединской. -
М., 1979.
45. Флейк-Хобсон К. и др. Развитие ребенка и его отношений с окружающими.
М.,1993.
46. Чадина Т.А. Психолого-педагогические предпосылки формирования духовно-
нравственных качеств младшего школьника [электронный ресурс] //
http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?
a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=3752&PHPSESSID=c
62996f20e70854b02ee20d31f9ad362
47. Шипицына Л. М. Необучаемый ребенок в семье и обществе. СПб., 2002.
48. Юрьев А.И. Концепция стратегической психологии // Ежегодник Российского
психологического общества: Материалы 3-го Всероссийского Съезда психологов.
25-28 июня 2003 года: том VIII - СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та, 2003. С. 595-632.
49. Understanding of child development. N.Y., 1988.
РАЗДЕЛ: НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ МОТОРНОГО РАЗВИТИЯ.
Часть I. Накопление незрелости в развитии моторных функций в
детском возрасте, как системная проблема.
Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление уровня
сформированности навыков и умений, структуры школьных знаний, являясь
необходимым компонентом диагностической психологической практики, ориентирована
на выявление статики функционирования и объективного уровня психической зрелости
ребенка, тем не менее не направлена на определение причин и генеза
несформированности школьных навыков. Анализом этих проблем занимается
нейропсихология. При этом следует помнить, что речь идет об общепопуляционных
детских проблемах, которые равно могут проявляться как у детей с проблемами в
развитии и нуждающихся в специальной помощи (являющиеся объектом внимания
специальной психологии), так и детей не входящих в сферу её внимания.
нейропсихологический подход в данном случае выступает как метод и качественный
критерий оценки уровня и глубины проблемы, а также базы и основания для помощи
32
ребенку.
Сегодня проблема дефицитарности школьного уровня зрелости стоит в двух
аспектах: 1.а). По данным психолого-педагогической диагностики мы имеем рост числа
детей, приходящих в школу с дефицитом школьной зрелости; б). Сам норматив школьной
зрелости существенно снижен по сравнению с уровнем 10-20 - летней давностью; 2.а).
Коррекционно-развивающие мероприятия 3-типов (медико-оздоравливающие,
валеологические; педагогически-развивающие; коррекционно-дефектологические)
выстроенные по мере углубления воздействия на дефектную структуру навыка, не
достигают необходимого эффекта, б) и часть детей по мере заострения проблем их
успеваемости в школе, выводятся из класса в альтернативные формы обучения,
соответствующие их интеллектуальным возможностям. То есть, мы имеем, как снижение
норм интеллектуального развития наших детей, так и исчерпание, или несоответствие,
старых средств коррекционно-развивающего типа мере и глубине дефицитарности в
формировании интеллектуального дефицита наших детей.
Представления о том, что будто-бы «ребенок стал другим», мягко говоря,
свидетельствуют только о несостоятельности взрослых и специалистов разобраться в
вопросе «а что считать нормой детского развития?». Следует учитывать, что
анатомическая норма функционирования человеческого организма и базирующаяся на ней
физиология жизнедеятельности, устойчивые понятия и на протяжении хотя бы 2 000 лет
имеют неизменяемый и достаточно устойчиво воспроизводящийся тип. Если сопоставлять
норму интеллектуального развития во времени по письменным источникам, трудам и
художественным произведениям, то так же не обнаруживаем существенных
интеллектупльных сдвигов, несмотря на различия в языках и динамиках изменения
языков. Тогда что же происходит сегодня? Возможно, как один из вероятных ответов,
следует рассматривать качественные связи изменений интеллектуальных линий развития
подрастающих членов общества с социальными запросами, давлениями, общими
трансформациями в составе традиций и норм жизнедеятельности социума, к которому
принадлежит ребенок. В этой структуре взаимонаправленных влияний наиболее
уязвимыми оказываются пластичные механизмы развивающегося организма, страдают не
только и не столько социоадаптирующие возможности ребенка, сколько его психо-
эмоциональные и психо-физические качества, которые и перенапрягаются в связи с
возросшими требованиями к адаптации в резко меняющихся социальных условиях.
Поэтому моторный аспект развития ребенка (и следует помнить, что моторика является
единственным эффекторным путем самовыражения, даже для эмоции) в этих критических
условиях будет центральным, проявляющим все трудности и проблемы развития. И
именно ему следует уделять наибольшее внимание в диагностике и развитии.
Как показывают наши собственные популяционные нейропсихологические
исследования школьной зрелости, собранные более чем за 10 лет на Ярославской земле,
мы имеем дело с ростом не только дефицитов в формировании школьных навыков, но с
углублением базового (моторного) дефицита, приводящего к нарушению всей
функционально системной пирамиды Высших психических процессов, обеспечивающей
интеллектуальное развитие ребенка.
Данное утверждение можно проиллюстрировать материалами исследований:
§1.Исследование (1992г.) готовности к обучению в школе детей
1985года рождения.
Общие данные состояния интеллектуального развития популяции детей г. Тутаева,
достигших школьной зрелости в 1992 году, (1985 года рождения) можно считать вполне
благополучными и нормативными. Данный материал можно взять за точку отсчета и
сравнения для выделения основных тенденций становления моторики и управления
моторными программами у современных детей. Моторный статус данных детей
сопоставим с описанным моторным нормативом развития детей 6-7 лет
33
предреволюционной поры и детей в 1927-1932 годах (по материалам Озерецкого-
Гуревича), косвенно он соотносим с данными спортивных исследований 70-80 годов
описывающих нормы отбора детей в школы спортивного резерва и установления
нормативов сдачи ГТО.
В те годы, определение школьной зрелости или готовности к школе было
обязательной процедурой и проходило в два этапа, первым был психологический, а
вторым - педагогический. В рамках психологического этапа определялся уровень
развития психических процессов ребенка, уровень произвольности внимания и
сформированность произвольного контроля за своим поведением, определялась степень
социальной подготовленности к переходу к новой форме деятельности. В задачи
педагогической диагностики входило определение уровня сформированности и степени
зрелости школьных навыков. Это были годы, когда девизом всех детских садов было –
“Все дети в школу читающими!” Акцент на раннее чтение был повсеместным, г.Тутаев не
был исключением. Опробовались разные системы раннего обучения чтению. Дети –
воспитанники подготовительных к школе групп детского сада имели в день по 3-4
групповых занятия по 30 минут каждое, направленных на развитие речи, навыков
мышления, ручного труда, рисования. Занятия физкультурой в лучшем случае были 2-3
раза в неделю, во время прогулок на улице дети развлекались самостоятельно.
Психологический этап включал определение уровня готовности к школе
педагогическим психологом по специально сформированному набору методик, в которые
входили: беседа с ребенком для определения уровня социальной зрелости и общей
осведомленности, задания на произвольное внимание и контроль за своей деятельностью
включали одновременно методики на диагностику готовности руки к письму
(графический диктант, по образцу и под диктовку, что является аналогом
нейропсихологической пробы “заборчик”), и диагностику зрительного гнозиса (субтест из
методики Векслера), для диагностики мыслительных процессов использовали
классификацию и методику Выготского –Сахарова, уровень сформированности
пространственных процессов оценивался в рисунке – свободное рисование домика и
перерисовывание домика, речевые процессы оценивались по методике Ярослава Ирасека.
Диагностика в г.Тутаеве проводилась группой дипломированных психологов – практиков
с опытом работы в школе и клинике. В процессе обучения диагностированных детей в
первом классе результаты психолого-педагогической диагностики, верифицировались
нейропсихологическими методами исследования, в ходе которой была уточнена структура
несформированности школьной зрелости у детей неготовых к обучению. По результатам
психолого-педагогической (первый этап) диагностики выделились пять уровней
школьной зрелости – норма, соответствовавшая хорошему в гибком темпе выполнению
методик, ориентированности в социальных проблемах и достаточному уровню
произвольности внимания и контроля за своим поведением. Для нормы было возможно
наличие некоторых парциальных отклонений в общей структуре готовности к школе, то
есть процессы могли быть не все одинаково успешными или высокими. Два более
высоких уровня отличались от нормы темпом выполнения заданий в сторону большей
скорости и гибкости перестройки с задания на задание, легкостью схватывания
инструкций, формирования переносов и обобщений. А два более низких уровня
характеризовались нарастанием трудностей, требовавших большего участия психолога в
выполнении заданий, вплоть до совместного выполнения, развернутости объяснений,
нарастания неровностей и парциальностей в степени развитости психических процессов.
Распределение обследованных детей 1985 г.р. по уровням школьной зрелости.
В результате проведения такой развернутой и тщательной диагнотики было
выделено 172 ребенка со сниженной школьной зрелостью из 590 детей идущих в школу в
1992 году. То есть, 418 детей, что составляет 70%, были достаточно хорошо
сформированы в психическом плане. 172-а выделенных ребенка были дообследованы в
ходе обучения в первом классе. Они разделились на три подгруппы, имевших разную
34
структуру дефицитов и по разному проявлявших себя в ходе обучения в первом классе. 58
детей, большинство из которых оказались девочками (10% из всех обследованных), имели
высокий уровень ситуативной и личностной тревожности, который и был отмечен в ходе
диагностики, он-то и не позволил им в экспертной ситуации показать себя с наилучшей
стороны. Эти дети обучались в обычных классах, они все показали хорошие и высокие
школьные успехи. Многие из них дополнительно обучались в музыкальных или
художественных школах, кружках другого профиля. Это как раз пример относительности
результатов психолого-педагогической диагностики и возможности ошибки.
Отдельно следует сказать о группе детей (16 человек) стойко демонстрировавших
крайне низкий уровень сформированности психических процессов и имевших стойкие
проблемы в овладении школьной программой. Эти дети имели сочетание неблагополучия
раннего медицинского анамнеза и социального неблагополучия, обучались они в классах
выравнивания. Большинство этих детей имели выставленным диагноз ЗПР.
Для оставшихся 98 детей (17% от обследованных) характерна была незрелость
психических процессов, несформированность Высших Психических Функций к началу
обучения в школе, диагнозов не имели, в группе сверстников были достаточно
адаптированы. Эти 98 детей в ходе обучения в первом классе показали различную
динамику в формировании школьных навыков, и именно они были объектом основного
наблюдения в ходе обучения в первом классе. Динамика в ходе первого класса такова:
а)24 ребенка, занимавшихся в кружках системы дополнительного образования, показали
спонтанную компенсацию своих дефицитов, общий статус состояния ВПФ-ций у них
значительно вырос в ходе первого года обучения в школе. б)У 12 детей, так же можно
было бы говорить о некотором облегчении дефицитов, степень которого не затрагивала
структуры дефицита, но отражалась на характере адаптации в школе и достаточной
успешности в обучении. в)62 ребенка сразу и стойко имели проблемы в школьной
успеваемости, часть из этих детей ещё на уровне педагогической диагностики была
отмечена и определена в классы выравнивания.
Таким образом, на 1992 год мы имели статистически нормативное распределение
выборки детей 1985 года рождения по уровню школьной зрелости, соответствовавшее
кривой Гаусса, только 15% детей (16 детей (3%) с выставленным диагнозом ЗПР, 62
ребенка с глубокой степенью незрелости ВПФ-ций (10%), и 12 детей (2%) с незрелостью,
давших приспособительный адаптивный к дефициту эффект в ходе обучения в первом
классе) с низкой Школьной Зрелостью углубили дефициты и были неуспешны в школе
при обучении в первом классе.
Нейропсихологическая структура дефицита, лежавшая в основе незрелости или
задержки развития ВПФ-ций, сочетала в себе проявления моторно-чувствительной
незрелости, как следствия проблем раннего онтогенеза (трудности родов, частые ОРВИ с
лечением в стационаре особенно до 3 лет, социально-бытовые проблемы), дефициты
зрительно-пространственной сферы, дефициты фонетического анализа, в системном плане
отмечались дефициты формирования лобных отделов, связанных не только с общей
произвольной регуляцией внимания, памяти, поведения, но и со связной речью и
сложными моторными программами. В результате такой структуры дефицита ВПФ-ций
при обучении в школе дети имели трудности формирования образа буквы, трудности
перехода от буквенного к слоговому, и от слогового с орфографическому чтению,
дефектность формирования состава числа и т.д. в восходящем системном порядке.
Вес моторных проблем в формировании этих отклонений был не самым высоким,
он сочетался со зрительно-образными дефицитами, дефицитами формирования лобной
произвольности, то есть школьная незрелость обусловливалась системным сочетанием
многих причин, действовавших на ребенка, каждая отдельная, независимо действовавшая,
причина (частые болезни, или голодание, или перекосы в программных моментах в д/саду,
и т.д.) не вызывала необратимых функциональных дисгармоний, которые не могли бы
быть преодолены с процессе спонтанного развития. Что свидетельствует о том, что
35
общество, несмотря на скудость возможностей, обусловленных социальными реформами
перестройки, ещё обеспечивало спектр социально-педагогических стимулов (в виде
системы дополнительного образования, требований к ребенку и родителю, общим духом
заинтересованности в ребенке), позволявших ребенку компенсировать ранее возникшие
функциональные дефекты не осознавая данный процесс как компенсаторный или
коррекционный.
Иначе говоря, в 1992 году два фактора развития – биологический, или физио-
генетическое развитие организма ребенка и его ЦНС в рамках развертывания
генетической программы развития, и социальный, или система воспитательно-
педагогических норм, мер, требований, программ, обеспечивающих становление
социализированной личности, действовали вполне содружественно и сбои их
взаимодействия происходили только при сверхординарных сочетаниях причин.
§2.Особенности моторного статуса детей 1983-1989 гг. рождения по
данным нейропсихологических исследований в детском саду.
Перекрывавшая по годам исследования в г. Тутаеве работа с детьми детского сада, за
1991-1996 гг. показала интересный эффект резкого роста детей с некомпенсированным
накоплением моторного левшества и моторной незрелости в старших и подготовительных
группах. На диаграмме приведены процентные показатели моторной незрелости среди 75
детей, выпускников подготовительных групп детского сада за 1991-1996 гг.
(Соответственно – дети рождения 1983- 1989 годов). Среди детей 1987 –1988 годов
рождения, ранний возраст которых пришелся на перестройку в обществе, резко возросло
число леворуких, а также общее число детей испытывавших трудности в усвоении
моторных программ в целом. Процент детей с накоплением левшества вырос резко - на
24-25 ребенка в группе было до 16 левшей или амбидекстров. Проблемы накапливались в
общей координаторной несформированности, моторной неловкостью, возросло
количество детей с дислалиями и дизартриями. Моторные трудности у детей создавали
проблемы на занятиях гимнастикой, танцами, рисованием. В этот же период резко
увеличилось число детей с гиперкинетическими проявлениями в поведении.
В нейропсихологическом статусе аналогично обозначились трудности выполнения
рисуночных проб, проб на конструктивный праксис, мануальных проб Хэда (в равной
степени страдал и лобный контроль, и выбор пространственного положения рук), заданий
с кубиками Косса. Но неожиданнее всего выглядели пробы на реципрокную координацию
и динамический программный праксис. Для детей с моторными трудностями оказались
затруднительными не только и не столько пространственные пробы, сколько все пробы с
динамическим моторно-программным компонентом.
Таким образом, начиная с 1995 – 1996 гг. (дети рождения – 1987-1988-1989 гг.) в
моторном статусе выпускников детского сада можно было наблюдать накопление
моторной незрелости, признаков невыравненной и некомпенсированной латеральной
асимметрии моторных (и сенсорных) функций, которые в совокупности создавали
условия (по законам системного взаимодействия) для задержки и накопления асинхроний
в развитии функциональных систем всех Высших корковых процессов.
§3.Нейропсихологические исследования моторного статуса младших
школьников 1995-1996-1997 гг. рождения.
Исследования моторного статуса детей в начальной школе в 2001-2002 годах
показывают, что
1) дети в 1 классе не справляются с пробами, с которыми справлялись дети до
1985г.р.в 5 –6 летнем возрасте;
2) сравнивая качество выполнения проб на реципрокную координацию и пробы
36
«КЛР» детей рождения 1995-1997 гг. и детей рождения 1987-1988 гг., следует отметить
значимое смещение в сторону большей представленности моторной незрелости и
углубления дефицита у детей 1995-1997 гг. рождения;
3) сравнивая материалы исследований моторного статуса детей 1995-1997 гг.
рождения и первоклассников 1992 г. рождения, надо отметить, что уровень
несформированности реципрокной координации, свидетельствует о глубокой задержке
формирования мозолистиго тела в передних отделах мозга, что вызывает тревогу о риске
развития дислексии.
Интересно, что шкоьники, с относительным благополучием в моторном статусе,
перед школой занимались подготовкой, но различных видов – 1 ребенок занимался в
школе раннего развития, 2 занимались гимнастикой и отдельно прошли группы
подготовки к школе в центре «Лад», только одна девочка занималась танцами.
Таким образом, мы видим очевидно накопление несформированностей и
незрелостей в общем, моторном статусе первоклассников в 2001-2002 гг.
Комплексное оценивание состояние здоровья и нервно-психического статуса
детей: Пытаясь объяснить причины, лежащие в основании данной проблемы, безусловно,
необходимо отметить накопление соматического неблагополучия в детской популяции:
1.Если в валеологических оценках состояния здоровья первоклассников 1992 года
рождения проводившихся в гимназии, отмечается снижение здоровья детей, но все-таки
говорится о присутствующих среди них 2 здоровых, то при оценке анамнестических
данных первоклассников 1995-1997 гг. рождения мы таковых не нашли, а на 58 детей двух
первых классов насчитали 75 меддиагнозов, и практически 100% отягощенность раннего
неврологического анамнеза, мягкие несоответствия сроков в раннем моторном развитии, в
некоторых случаях имели место косвенные указания на возможные задержки раннего
речевого развития. Наличие возможных ранних задержек или искажений речевого
развития совпадает и отражается в общей динамике овладения школьными навыками -
риск дислексии, суммарно по двум обследованным классам языковой школы, составил
36%, что и было, к сожалению, реализовано в ходе второго года обучения.
К сожалению, общий уровень закладки будущих моторных проблем у
новорожденных исходно весьма велик. По современным данным, исследователи Москвы
отмечают – 86% отягощенность перенатального анамнеза у новорожденных, по данным
Ярославских исследований популяционного речевого развития малышей от рождения до
3-х лет имеет место 96% отягощенность раннего неврологического анамнеза малышей.
Младенцы рождаются с функциональной незрелостью, закономерно переходящей в
задержку или асинхронию формирования всех психических функций. Наиболее доступно
наблюдению на ранних этапах онтогенезе именно моторное развитие ребенка, а чуть
позже оказывается доступным наблюдению опытного специалиста речевое развитие
ребенка (гуканье, гуление, лепет). Наблюдение и диагностика сенсорных функций на
ранних стадиях онтогенеза, особенно в младенчестве крайне затруднена и о многих
психических процессах этой области можно говорить, опираясь лишь на косвенные
свидетельства поведения младенца. Однако, опираясь на закономерности системно-
функциональной организации корковых процессов, необходимо отметить, что, мы же
имеем дело сегодня с перинатальной незрелостью всех базовых составляющих
психического развития ребенка – моторики, чувствительности, зрительного и слухового
восприятия. Ввиду же системного и сквозного качества (включенности в каждый
психический процесс и функцию) моторных процессов, обеспечивающих общую
психическую эффекторику, необходимо отметить её качественную доминанту в
системной преемственности в развитии психических процессов в онтогенезе.
Даже отсроченное проявление мягких форм моторной незрелости, на относительно
стабильном общем фоне развития ребенка, благополучии в школе, опасно проявлением
функциональными дестабилизациями в ходе нормальных кризисов развития, например
пубертата. Не следует забывать о том, что моторика являются стержневой
37
функциональной опорой в становлении всей вертикали интеллекта, в том числе и речи.
Поэтому, у детей с моторной незрелостью в пубертате, а также в целом в интеллекте,
закономерно отслеживаются множественные дефициты в системе внимания, памяти, речи,
пространственного и логического мышления. Закономерно, что педагоги, работающие с
детьми, не видят проблем ребенка в этом свете, а, как правило, квалифицируют их в
личностных категориях – лени, несобранности, грубости, агрессивности, эгоизме и т.д.
Проблема компенсации моторной незрелости не может быть решена только на
уровне введения здорового образа жизни, хотя его пропаганда необходима для устранения
биологических факторов риска рождаемости детей с грубой патологией. К началу
обучения в школе структура моторной незрелости или минимальных асинхроний в
моторном развитии обрастает множественными стихийно созревающими компенсациями
и дополнительными механизмами, временно, на момент проявления дисфункции,
улучшающими адаптацию ребенка к среде. При этом взрослые до поры до времени также
стихийно эксплуатируют пластичные механизмы развивающегося детского мозга,
нагружают ребенка занятиями, которые в большей степени делают акцент на
аналитических способах деятельности, т.е. прежде времени готовности биологических,
мозговых механизмов переходят к стимуляции левополушарных структур. В большой
моде у родителей и воспитателей и поныне остаются аналитического типа занятия по
раннему чтению, письму, развитию речи, в целом занятия по подготовке к школе с
серьезными высаживаниями за парты на 30-40 минут, требующих от детей длительного,
произвольного сохранения внимания в статичной позе на чем-то умном и порой и самому
педагогу понятному только отчасти. Этим занятиям отдается предпочтение в ущерб
необходимых по возрасту и особенностям общего функционального развития детей
подвижным играм, синтетическим видам деятельности – рисованию, пению, танцам и
гимнастике с музыкальным сопровождением.
С точки зрения нейропсихологии вопрос состоит в определении времени
а)закладки основного неблагополучия, б)возможного приложения стихийного или
организованного коррекционного усилия. На наш взгляд, опираясь на логику
взаимодействия факторов развития в онтогенезе, на современном этапе состояния
общества и процесса ращения молодого поколения налицо рассогласование механизма
взаимодействия двух факторов развития – биологического (в виде развертывания
генетической программы организма и его НС) и социального (в виде воспитательного
процесса). Сегодня, при накоплении неблагополучия со стороны биологических
механизмов, при, казалось бы, многочисленных программах обучения и развития детей,
почему-то дети оказываются депривированными и недополучают чего-то важного в своем
анатомо-физиологическом, нервно-психическом, эмоционально-личностном и
когнитивном развитии.
Таким образом, нейропсихологический системный анализ позволяет полагать, что
проблема лежит не со стороны каждого отдельного фактора, а коренится в
рассогласовании их взаимодействия, особенно на самых ранних этапах постнатального
онтогенеза. К рассмотрению этого аспекта мы приступим в следующей части работы.
Часть 2. Проблемы системного подхода к анализу нарушений
моторного развития.
§1.Постановка проблемы факторов.
Таким образом, очевидным и наглядным является утверждение наличия снижения
в интеллектуальном, когнитивном, речевом, и прочем развитии современного ребенка,
роста числа и процентной составляющей патологии в детской среде любого возраста.
Указывается и на углубление дефицита. При этом те методы коррекции и развития,
которые работали вчера, сегодня не являются эффективными.
38
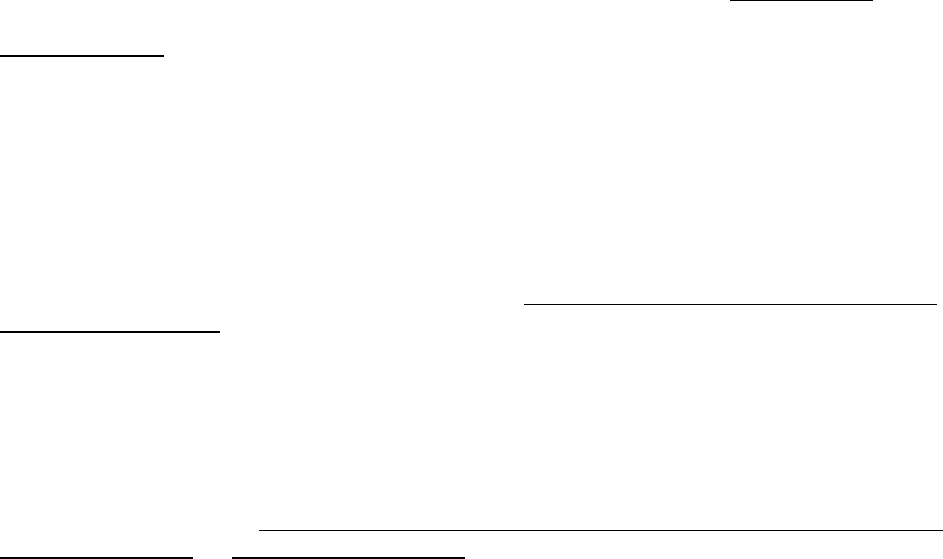
Состояние соматического, нервно-психического здоровья детей оценивается как
сниженное или снижающееся. Уровень соматического, неврологического неблагополучия
при рождении весьма высок и приближается к 90 - 100%. В начальной школе количество
диагнозов на одного ребенка составляет 2-3. Не следует думать, что речь идет только о
гипердиагностике или злонамеренности медицины, в большинстве своем за диагнозом
стоят некоторые вполне визуализируемые и поведенчески определяемые проблемы
ребенка.
Классификация причин, приводящих к такому положению, позволяет выделить два
традиционных фактора – биологический, который перечисляет – медицинские,
генетические, акушерские, экологические причины, приводящие к нарушению
функционирования организма на разных стадиях его формирования. При этом вне
зависимости от этиологии действующей патологической причины, действует закон
времени – чем раньше она действует, тем грубее и тяжелее последствия. (картинка). И
социальный, описывающий особенности изменений происходящих в родительской среде
(от материально- профессиональной составляющей до характера организации быта) и в
педагогической, анализирующий особенности программного обеспечения
воспитательного и обучающего процесса в детских садах и школах.
Анализу каждого фактора посвящено много работ и уже можно на этом не
останавливаться дополнительно. Все что говорится – истина, и необходимый материала
нормального скрининга, в котором отсеиваются зерна от плевел. Однако если заглянуть в
прошлый век, то окажется, что все описываемые причины уже, в той или иной степени,
имели место в истории развития человека. Вопрос состоит только в глубине и системной
степени действия.
С позиций системного подхода, корень проблемы состоит не столько в каждом
факторе отдельно, и даже не в утяжелении их, а в системном и временном расхождении
их взаимодействия.
§2. Закон строгой комплементарности биологического и социального
факторов в общем развитии человека. Роль периодов сензитивности
в интеграции факторов развития.
В плане взаимодействия факторов на уровне развивающегося человека они
конкретизируются как: фактор развертывания генетической программы развития
нервной системы, и фактор воспитания, которые комплементарны друг другу, также
как две части спирали ДНК. Проблемам взаимодействия факторов в психическом
развитии ребенка и человека посвящены многие лекции в курсе общей психологии и
клинической психологии, однако приходится останавливаться на этом специально в виду
насущной необходимости.
Развертывание генетической программы предполагает достаточно жесткие
принципиальные сензитивные периоды, которых на несколько порядков больше, чем это
описано Д.Б. Элькониным. Каждый такой период запускается сложнообусловленной
системой триггерных механизмов педагогически - средового, воспитательно-
родительского типа. Генетическая программа предполагает и задает рамки (временные и
качественные характеристики) средового (воспитательного) стимула, только при наличии
которых она вступает в новый период своего развертывания. При этом генетическая
программа организована по системному типу и предполагает наличие множества
подпрограмм разного уровня сложности и системно-функционального соподчинения,
которые запускаются каждая своим стимулом с тем же типом кодирования его
особенностей.
Сензитивный период характеризуется, как известно, повышенной
восприимчивостью организма к стимульным воздействиям определенного типа, которая
(восприимчивость) обусловлена особым состоянием НС, связанным с предварительным,
39
заданным генетически, обильным развитием межклеточных связей, готовностью мозга
принять и обработать информацию. Если информации нет, то вся готовность мозга
принять её оказывается напрасной и для самого мозга, и его клеток свидетельствует о
ненужности всех заранее выработанных связей, что является сигналом для клеточного
самоуничтожения, что тоже контролируется генетически. Более того, все клетки,
породившие дополнительные дендриты и аксоны, уничтожаются (апоптозируются,
рассасываются) как балластные, внешне же (на КТ) мозг выглядит вполне нормально,
рефлексы сохранны и парезов нет, но мозговые клеточные и проводящие механизмы
оказываются существенно сниженными. В следующий активный период (сензитивный)
вступает уже меньшее число клеток и формируется меньшее число дендритов и аксонов.
На поведенческом уровне это выглядит следующим образом: Если ребенок глух,
или его сделали слабослышащим (например – пролечили канамицином в ранний период
становления слухового аппарата), или родители не разговаривают, не поют, или слушают
теле-радио, или громкую и грубо ритмическую музыку, то есть к ребенку в самый ранний,
до 3-х месяцев период, не поступает адресной, четко различимой речи, то генетическая
программа все равно запустит механизм формирования гуканья и гуления, но без
нормативной поддержки – данная функциональная возможность угаснет, ранее, чем
появится лепет. Однако лепет все-таки возникнет, генетическая программа вновь запустит
очередной сензитивный период и раскроется для информации, но клеточные механизмы,
её обслуживающие, будут более бедными, чем у ребенка без депривации вышеописанного
типа, с нормативным участием воспитывающего взрослого в гулении ребенка. В
депривирующих условиях лепет угаснет ещё быстрее, чем гуление, не перейдя плавно к
репетициям, прасловам и нормативному развитию речи, первой фразе.
В результате мы будем иметь сначала снижение сроков наступления значимых
моментов речевого развития, а затем, у этого же ребенка - формирование качественных
особенностей дефицитарности в речи. Именно на это указывает докторское исследование
(логопедо-нейропсихологическе) состояния речи у детей всех школьных возрастов с ЗПР,
ОНР, ЗРР выполненное Т.А. Фатекова (2003), дефицит остается стойким до
постшкольного возраста. Мы сегодня, косвенно, видим этот системный дефицит в
снижении требований к владению родным языком при поступлении в ВУЗы, и уже при
обучении в нем.
Аналогичным образом выглядит проблема с моторным развитием, которая от
незначительной задержки формирования сидения, ползания, стояния и ходьбы
оборачивается нарушениями координации, манифестации активности мозолистого тела,
нарушениями межполушарного взаимодействия, дефектностью пространственного
мышления и многим другим. А в начале все выглядит «ЧУТЬ-ЧУТЬ», как незначительное
отклонение в сроках появления того или иного умения. Аналогичную картину мы
наблюдаем в становлении внимания, мнестических механизмов, мышления.
Можно описать ситуацию более конкретно: Очень часто при проведении
нейропсихологического исследования ребенка приходится обращать особое внимание на
ранний моторный онтогенез. Анализируя выписку из истории развития, или
амбулаторную медицинскую карту, видишь рассогласования в записях врача и медсестры,
характеризующие прохождение ребенком этапов раннего моторного развития. Например,
в карте медсестра пишет: «Сосет корочку, делает плясовые движения в возрасте 5-6
месяцев», а записях педиатра относящихся к 8-му месяцу жизни ребенка: «мальчик не
переворачивается, не садится». Реально, ребенок пеленался и лежал до 8-ми месяцев в
кроватке практически без движения, современные и молодые мама и папа сдавали
экзамены и выясняли отношения, бабушка-логопед заботилась о правильном питании
кормящей мамы, медсестра делала записи под копирку, а педиатр осматривал ребенка по
декретным срокам – «зев, кожные покровы - в норме». При рождении – Апгар 8/9 баллов.
В результате, как ни странно, и к пяти годам ребенок не заговорил, работа бабушки с уже
пятилетним мальчиком по развитию речи с картинками и с куклами «би-ба-бо»
40
