Микешина Л.А. (Сост.) Философия науки. Хрестоматия
Подождите немного. Документ загружается.


искусства в системе абстракций. Наука — прикладная логика, ибо она создает средства движения знания к
новым результатам.
Всякая наука на основе своих теоретических построений создает правила, регулирующие дальнейшее
движение познания своего предмета. Где есть правила движения мысли, там есть логика. (С. 491-492)
Наука — <...> логически организованная система теорий, а не механическая совокупность их. Именно в этой
связи теорий заключается особенность науки как системы знания. Система нигде не является самоцелью,
она выступает средством решения каких-то задач; в науке она строится с несколькими целями: 1)
достигнутые результаты познания выявить во всей полноте, 2) использовать полученное знание для
движения к новым результатам. Во втором случае система становится методом. Зрелость науки
определяется ее методом, наличие которого свидетельствует о способности возникшей системы знания к
саморазвитию, обогащению новыми положениями. <...> (С. 492)
Система и метод в науке взаимосвязаны. В качестве объективной основы научного метода выступает
система знания, отражающая закономерности движения изучаемого предмета. Но само по себе познание
объективных закономерностей еще не составляет метода, необходимо на основе этого познания выработать
приемы, способы теоретического и практического постижения объекта. Система науки непосредственно
направлена на полное выражение достигнутого знания свойств и закономерностей объекта.
82
Задачей метода науки является достижение новых результатов, в нем зафиксированы способы движения к
ним, в нем как бы воедино соединяются познанное в объективном мире с человеческой
целенаправленностью на дальнейшее познание и преобразование объекта. Система научного знания
реализует себя в методе познания и практического действия. (С. 493-494)
Элементы логической структуры науки
Наука как система знания имеет свою структуру, выполняющую определенные логические функции.
Приобретение наукой логической структуры предполагает прежде всего более или менее строгое выделение
предмета ее изучения, особенности которого во многом определяют ее. Первой в истории строгой научной
системой, имеющей ярко выраженную логическую структуру, является геометрия, изложенная в «Началах»
Евклида. В ней, во-первых, очерчен предмет — простейшие пространственные формы и отношения; во-
вторых, знание приведено в определенную логическую последовательность: сначала идут определения,
постулаты и аксиомы, потом формулировки теорем с доказательствами. В ней выработаны основные
понятия, выражающие ее предмет, метод доказательства, и она по праву считается одним из первых
образцов дедуктивной системы теорий <...> (С. 494)
Конечно, науки различаются по их предмету, степени зрелости их развития. Поэтому можно говорить о
своеобразии логической структуры каждой науки. Но эти специфические особенности могут быть вскрыты
специалистами каждой отдельной области, и они представляют интерес только для них. Для логики же
научного исследования чрезвычайно важно выявить логическую структуру построения науки вообще. Само
собой разумеется, что эта структура будет носить до некоторой степени характер идеала, к которому
должны стремиться науки в своем развитии.
Нельзя выявить логическую структуру науки путем сравнения структур различных отраслей знания на всех
этапах их исторического развития и нахождения общего в их построении. <...> Поэтому существует один
путь — рассматривать современные зрелые отрасли научного знания, в которых наиболее четко выражена и
уже осмыслена структура; на основе анализа этих отраслей знания попытаться уловить тенденцию в
развитии структуры науки, образующую реальный идеал научного знания. Элементами логической
структуры науки являются: 1) основания, 2) законы, 3) основные понятия, 4) теории, 5) идеи. (С. 497)
ХИЛАРИ ПАТНЭМ. (Род. 1926)
X. Патнэм (Putnam) — философ, логик, одна из наиболее значимых фигур в американской философии
последних пятидесяти лет. Сфера его философских интересов включает проблемы философии математики и
естественных наук, философии языка и сознания, общей теории познания. На идейную эволюцию Патнэма
оказали влияние работы его учителей У.Куайна и Г. Рейхенбаха, а также Л. Витгенштейна, М. Даммита, Д.
Деннета, Н. Гудмена. Работая в идейно-теоретическом контексте аналитической философской традиции, он
подверг резкой критике базовые установки аналитической философии, прежде всего сведение философии к
лингвистическому анализу. Центральным сюжетом и задачей его философских исследований является
обоснование концепции научного реализма. В острых спорах с двумя крайними позициями —
абсолютизмом («метафизическим» реализмом) и релятивизмом — он пытается выработать реалистическую
концепцию, свободную от догматизма и субъективизма, свойственных этим двум крайностям. В фокусе
философского рассмотрения Патнэма — проблемы истины, объективности и научной рациональности.
В идейной эволюции Патнэма отчетливо выделяются три периода, отмеченные тремя версиями
реалистической доктрины: «научный реализм» («Разум, язык и реальность», 1975), «внутренний реализм»
(«Разум, истина и история», 1981) , «естественный реализм» («Реализм с человеческим лицом», 1990).
Патнэм формулирует концепцию научного реализма, оспаривая постпозитивистскую идею о
несоизмеримости научных теорий и отсутствии роста научного знания; создает новую (каузальную) теорию
значения. В ходе теоретического развития концепции реализма Патнэм отказывается от доктрины научного
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
51 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
51

реализма и осуществляет критику лежащей в основе этой доктрины корреспондентной теории истины, с ее
непроясненной идеей соответствия знания реальности. Он выдвигает концепцию истины как рациональной
приемлемости при «эпистемически идеальных условиях». Разводя понятия истины и рациональной
приемлемости, Патнэм показывает, что истина не зависит от исторически изменчивых критериев
рациональности. Он отстаивает кантианскую идею непознаваемости вещей, как они существуют вне
концептуализаций нашего опыта. Но именно идея опыта, «когнитивной ответственности» перед миром как
фактора-ограничителя наших теоретических конструкций придает новый смысл понятию объективности и
позволяет Патнэму избежать антиреалистических следствий. Концепция «естест-
84
венного реализма» решает проблему статуса наших ментальных репрезентаций. Он отстаивает взгляд на
человеческий опыт как на активную деятельность живого существа в мире и обосновывает реальность
объектов обыденного восприятия.
О.В.Вышегородцева
Интернализм и релятивизм
Интернализм не является легковесным релятивизмом, заявляющим, что «годится все». Отрицать, что имеет
смысл задаваться вопросом, «отображают» ли наши понятия что-то, совершенно не затронутое
концептуализацией, — это одно; однако считать, на этом основании, что любая концептуальная система
столь же хороша, как и любая другая — это нечто совсем иное. Например, предположим, что какой-то не
слишком умный человек воспринял эту идею всерьез и предложил бы такую теорию, которая утверждает,
что человек способен летать без помощи технических средств. Если бы он попробовал применить свою
теорию на практике, выпрыгнул бы ради этого в окно и чудом остался в живых, то он вряд ли после этого
стал бы придерживаться этой теории. Интернализм не отрицает того, что в отношении знания играют роль
опытные исходные данные, знание не является рассказом, который не имеет иных ограничивающих условий,
кроме внутренней согласованности; однако он и в самом деле отрицает, что существуют такие исходные
данные, которые сами не формировались бы до известной степени нашими понятиями, тем словарем,
который мы используем для того, чтобы фиксировать и описывать их, или же что существуют
предпочтения. Даже наше описание наших собственных ощущений, которое было — в качестве исходной
точки знания — столь дорого сердцу целых поколений эпистемологов, испытывает мощное воздействие (как
и наши ощущения, коли на то пошло) множества наших концептуальных предпочтений. Сами исходные
данные, на которые опирается наше знание, являются концептуально инфицированными; однако лучше
иметь инфицированные исходные данные, чем вообще не иметь никаких данных. Если инфицированные
данные — это всё, чем мы располагаем, даже в этом случае все то, что нам доступно, сохранило бы свою
значимость.
Высказывание, или целая система высказываний — т.е. теория или концептуальная схема, — становятся
рационально приемлемыми в значительной степени благодаря своей согласованности и пригодности;
благодаря согласованности «теоретических» или менее опытных убеждений друг с другом и с более
опытными убеждениями, а также благодаря согласованности опытных убеждений с теоретическими
убеждениями. Согласно тому взгляду, который я буду развивать, наши понятия согласованности и
приемлемости тесно переплетаются с нашей психологией. Они зависят от нашей биологии и нашей
культуры; они никоим образом не являются «свободными от ценностей». Но они суть наши понятия, и
притом понятия
Приводимый текст взят из книги: Патнэм X. Разум, истина и история. М., 2002.
85
чего-то реального. Они определяют своеобразную объективность, объективность для нас, даже если она не
является метафизической объективностью Божественного Взора. Говоря по-человечески, объективность и
рациональность — это то, чем мы располагаем; а это лучше, чем ничего.
Отрицать идею, что существует когерентная «внешняя» перспектива, т. е. теория, которая просто истинна
«сама по себе», безотносительно к каким-либо возможным наблюдателям, не означает отождествлять
истину с рациональной приемлемостью. Истина не может быть отождествлена с рациональной
приемлемостью по одной простой причине: истина считается свойством высказывания, и как таковая она не
может быть потеряна, тогда как обоснование (justification) — может. Высказывание «Земля — плоская»
было, что весьма вероятно, рационально приемлемо 3000 лет тому назад; однако оно рационально
неприемлемо в настоящее время. Однако было бы ошибкой утверждать, что высказывание «Земля —
плоская» было истинно 3000 лет тому назад; поскольку это означало бы, что форма Земли изменилась. В
действительности рациональная приемлемость и инициируется личностью, и соотносится с ней. Вдобавок к
этому рациональная приемлемость есть дело степени; об истине тоже иногда говорят как о деле степени
(например, мы иногда говорим, что выражение «Земля представляет собой шар» приблизительно истинно);
однако под «степенью» в данном случае имеется в виду точность высказывания, а не степень
приемлемости или обоснованности.
Вышеприведенные соображения, на мой взгляд, свидетельствуют не о том, что точка зрения экстерналиста
все же является истинной, но что истина представляет собой идеализацию рациональной приемлемости. Мы
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
52 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
52

рассуждаем так, как если бы идеальные с точки зрения эпистемологии условия и в самом деле имели место и
мы называем высказывание «истинным», как если бы оно было обоснованно в подобного рода условиях.
«Эпистемологически идеальные условия» чем-то напоминают «плоскости, лишенные трения»; в
действительности мы не можем достичь эпистемологически идеальных условий или даже быть абсолютно
уверенными в том, что мы достаточно к ним приблизились. Однако в действительности нельзя создать и
плоскости, лишенные трения, и все-таки разговор о плоскостях, лишенных трения, имеет свою «наличную
стоимость», поскольку мы можем приблизиться к ним в очень высокой степени.
Вероятно, может создаться впечатление, что объяснение истины в терминах обоснования при идеальных
условиях представляет собой объяснение ясного понятия при помощи терминов смутного понятия. Однако
«истинно» не является столь ясным, как только мы отходим от таких заезженных примеров, как «снег бел».
В любом случае я пытаюсь дать не формальное определение истины, но неформальное разъяснение этого
понятия.
Если сравнение с плоскостями, лишенными трения, оставить в стороне, то к числу двух ключевых идей
теории истины как идеализации относится (1) то, что истина независима от обоснования здесь и сейчас, но
не может считаться независимой от любых обоснований. Утверждать, что высказывание истинно, означает
утверждать, что оно могло бы быть оп-
86
равдано. (2) Вторая важная идея сводится к тому, что истина считается чем-то устойчивым и
«непротиворечивым»; если и высказывание, и ero отрицание могли бы быть «оправданы» даже при самых
идеальных условиях, то нет никакого смысла утверждать, что такое высказывание имеет истинностное
значение.
Теория «подобия»
Теория, согласно которой истина есть соответствие, является достаточно естественной. Возможно, до Канта
вообще нельзя отыскать какого-либо философа, который не придерживался бы корреспондентской теории
истины.
Недавно Майкл Даммит провел различие между не-реалистической (т. е. той, что я называю
«интерналистской») и редукционистской точками зрения для того, чтобы указать, что редукционисты могут
быть метафизическими реалистами, т.е. приверженцами корреспондентской теории истины. Редукционизм,
если рассматривать его с точки зрения отношения к классу утверждений (например, утверждений
относительно ментальных событий), представляет собой точку зрения, согласно которой факты,
находящиеся за пределами этого класса, «делают истинными» утверждения этого класса. Например,
согласно одной из разновидностей редукционизма, факты, связанные с поведением, «делают истинными»
утверждения относительно ментальных событий [Имеется в виду доктрина бихевиоризма в психологии и
философии сознания, согласно которой предметом психологического исследования могут быть только акты
поведения человека, доступные для внешнего наблюдения. — Прим. пер.]. В качестве другого примера
можно привести точку зрения епископа Беркли, согласно которой сфера того, что «реально существует»,
исчерпывается сознаниями и их ощущениями. Эта точка зрения является редукционистской, поскольку
Беркли считает, что предложения о столах, стульях и иных обычных «материальных объектах» в
действительности делают истинными факты, касающиеся ощущений.
Если точка зрения является редукционистской относительно утверждений одного вида, но настаивает при
этом на корреспондентской теории истины применительно к предложениям редуцирующего класса, то эта
точка зрения есть, в своей основе, точка зрения метафизического реализма. Подлинно не-реалистическая
точка зрения является не-реалистической во всех отношениях.
Очень часто делают ошибку, когда считают философов-редукционистов не-реалистами, однако Даммит,
конечно же, прав; их разногласия с другими философами касаются того, что в действительности
существует, а не понятия истины. Если мы избежим этой ошибки, то в этом случае заявление, которое я
только что сделал, а именно, что невозможно найти такого философа до Канта, который бы не был
метафизическим реалистом, по крайней мере в отношении тех утверждений, которые они считали
базисными или не поддающимися редукции, будет выглядеть намного более убедительным.
Древнейшей формой корреспондентской теории истины, существующей уже приблизительно 2000 лет,
является та, что античные и средневе-
87
ковые философы приписывают Аристотелю. Я не уверен, что Аристотель и в самом деле придерживался ее;
однако на это указывает его язык. Я буду называть эту теорию теорией референции как подобия; поскольку
она считает, что отношение между репрезентациями в нашем уме и внешними объектами, на которые эти
репрезентации указывают, представляет собой буквальное подобие.
Эта теория, как и современные теории, использует идею ментальной репрезентации. Это представление, т.е.
образ внешней вещи, который есть у ума, Аристотель называет фантасма, т.е. образ. Отношение между
образом и внешним объектом, благодаря которому образ репрезентирует уму внешний объект, состоит
(согласно Аристотелю) в том, что образ имеет одинаковую с внешним объектом форму. Поскольку образ и
внешний объект сходны между собой (имеют одинаковую форму), ум, имея доступ к образу, имеет также и
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
53 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
53

непосредственный доступ к самой форме внешнего объекта.
Сам Аристотель говорит, что образ не разделяет с объектом такие свойства, как краснота (т.е. краснота в
наших умах не является буквально тем же самым свойством, что и краснота объекта), которое может быть
воспринято благодаря только одному органу чувств, но разделяет такие свойства, как длина или форма,
которые могут быть восприняты при помощи более чем одного органа чувств (которые являются «общим
воспринимаемым» в противоположность «единичным воспринимаемым»).
В XVII веке теория подобия начинает претерпевать ограничения, значительно большие по своим
масштабам, чем те, что имели место при Аристотеле. Так, Декарт и Локк считают, что в случае «вторичного
качества» такого, как цвет или степень плотности ткани, было бы абсурдно предполагать, что свойство
ментального образа является буквально тем же самым свойством, что и свойство физической вещи. Локк
был сторонником корпускулярной доктрины, т.е. приверженцем атомистической теории материи, и,
подобно современному физику, он считал, что чувственно данной красноте моего образа красной ткани
соответствует не простое свойство ткани, но весьма сложное диспозиционное свойство или «способность»:
способность вызывать ощущения именно этой разновидности (ощущения, которые проявляют «субъективно
красное», выражаясь языком психофизики). В свою очередь, эта способность имеет свое объяснение,
которое не было известно во времена Локка, состоящее в особенной микроструктуре кусочка ткани,
благодаря чему он избирательно поглощает и отражает световые волны различной длины. (Этот вид
объяснения был дан уже Ньютоном.) Если мы говорим, что обладание такой микроструктурой означает
«бытие красным» в случае с кусочком ткани, то ясно, что какой бы ни была природа субъективно красного,
событие в моем уме (или даже в моем мозге), которое происходит тогда, когда я имею ощущение красного,
не влечет за собой чего-либо «субъективно красного» в моем уме (или мозге). Те свойства физической вещи,
которые делают ее частным случаем физически красного, и свойства ментального события, которые делают
его частным случаем субъективно красного, совершенно отличны друг от друга. Красный кусочек ткани и
красный вторичный образ не являются буквально подобными. Они не имеют общей Формы.
88
Из-за тех свойств (форма, движение, местоположение), которые в силу своей корпускулярной философии
Локк был вынужден считать базисными и не поддающимися редукции, он, однако, стремился
придерживаться теории референции как подобия. (В действительности некоторые исследователи Локка в
настоящее время спорят по этому поводу; однако Локк и в самом деле утверждал, что в случае первичных
качеств имеется «подобие» между идеей и объектом и что «нет подобия» между идеей красного или теплого
и краснотой или теплотой объекта. И то прочтение Локка, которое я описываю, было широко
распространено как среди его современников, так и среди читателей XVIII столетия). (С. 76-82)
УМБЕРТО МАТУРАНА. (Род. 1928)
У.Р. Матурана (Maturana) — известный ученый, нейробиолог из Чилийского университета. В 1960 году,
отойдя от принятой биологической традиции, рассмотрел живые системы не в отношении с окружающей
средой, но через системы реализующих их процессов; результаты были изложены в статье
«Нейрофизиология познания» (1969). В 70-е годы работал в биологической компьютерной лаборатории
известного исследователя «кибернетики самонаблюдающих систем» X. фон Фёрстера (Иллинойский
университет, США). В дальнейшем Матурана совместно со своим учеником Ф. Варелой опубликовал книги
«Автопоэзис и сознание» (1980), «Древо познания» (1984, пер. на рус. яз. 2001), где изложены новые
фундаментальные идеи, в частности о познании, которое рассматривается как «непрерывное сотворение
мира через процесс самой жизни». Вводится междисциплинарное понятие автопоэзиса (auto — сам, poiesis
— создание, производство), обозначающее самопостроение, самовоспроизводство, как одно из направлений
теории самоорганизации. Этот подход к познанию предполагает идеи синергетики, междисциплинарный
синтез исследований в области нейробиологии и нейролингвистики, искусственного интеллекта,
когнитивной психологии и эпистемологии. Общее направление концепции близко эволюционной
эпистемологии.
Л.А. Микешина
Мы стремимся жить в мире уверенности, несомненности, твердокаменных представлений: мы убеждены,
что вещи таковы, какими мы их видим, и не существует альтернативы тому, что мы считаем истинным.
Такова ситуация, с которой мы сталкиваемся изо дня в день, таково наше культурное состояние, присущий
всем нам способ быть человеком.
Всю нашу книгу надлежит рассматривать как своего рода приглашение воздержаться от привычки впадать в
искушение уверенностью (1, с. 13-14).
<...> то, что мы принимаем как некое простое восприятие чего-то (например, пространства или цвета), в
действительности несет на себе неизгла-
Приводятся фрагменты из работ:
1. Матурана У.Р., Варела Ф.Х. Древо познания. Биологические корни человеческого понимания. М., 2001.
2. Матурана У. Биология познания // Язык и интеллект. М., 1996.
90
димую печать нашей собственной структуры.... Наш опыт теснейшим образом связан с нашей
биологической структурой. Мы не видим «пространство» мира, мы проживаем поле нашего зрения. Мы не
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
54 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
54

видим «цветов» реального мира, мы проживаем наше собственное хроматическое пространство (1, с. 20).
<...> Рефлексия — это процесс познания того, как мы познаем. Это акт обращения к самим себе. Это
единственный шанс, который предоставляется нам, чтобы обнаружить нашу слепоту и осознать, что
уверенность и знание других столь же подавляющи и иллюзорны, как и наша уверенность и наше знание.
Именно этот особый акт познания того, как мы познаем, традиционно ускользает от внимания нашей
западной культуры. Мы настроены на действие, а не на размышление, поэтому наша жизнь, как правило,
слепа по отношению к самой себе. Как будто некое табу говорит нам: «Знать о знании запрещается» (1, с.
21).
<...> к феномену познания нельзя подходить так, будто во внешнем мире существуют некоторые «факты»
или объекты, которые мы постигаем и храним в голове. ...Эта взаимосвязь между действием и опытом, эта
нераздельность конкретного способа существования и того, каким этот мир предстает перед нами,
свидетельствуют, что каждый акт познания рождает некий мир. ...«Всякое действие есть познание, всякое
познание есть действие». ...Любая рефлексия, включая рефлексию основ человеческого знания, неизбежно
осуществляется в пределах языка, и это является нашей отличительной особенностью как людей и как
существ, действующих по-человечески. По этой причине язык также является нашей отправной точкой,
нашим когнитивным инструментом, пунктом, к которому мы будем постоянно возвращаться. ...«Все, что
сказано, сказано кем-то» (1, с. 23).
<...> Механизм рождения нашего представления о мире — насущный вопрос познания. Сколь бы обширным
ни был наш опыт, рождение мира связано с самыми глубокими корнями нашего когнитивного бытия. А
поскольку эти корни исходят из самой сути биологической природы человека... рождение мира проявляется
во всех наших действиях и во всем нашем бытии. Оно заведомо и зачастую наиболее очевидным образом
сказывается на всех аспектах нашей социальной жизни, а также на формировании человеческих ценностей и
предпочтений. При этом не существует разрыва между тем, что социально, и тем, что является достоянием
отдельной человеческой личности, и их биологическими корнями. Феномен познания носит целостный
характер, и если рассматривать его во всей широте, то он всюду имеет одну и ту же основу (1, с. 24).
<...> Мы заявляем, что живые существа характеризуются тем, что постоянно самовоспроизводятся. Именно
на этот процесс самовоспроизводства мы указываем, когда называем организацию, отличающую живые
существа, аутопоэзной организацией (1, с. 40).
<...> Интересно отметить, что операциональная замкнутость нервной системы свидетельствует о том, что
принцип ее функционирования не укладывается в рамки ни одной из двух крайностей — ни
репрезентационалистской, ни солипсистской.
91
Он не может быть солипсистским потому, что, будучи составной частью организации нервной системы,
участвует во взаимодействиях нервной системы с окружающей средой. Эти взаимодействия непрерывно
вызывают в нервной системе структурные изменения, которые модулируют ее динамику состояний.<...>
Принцип работы нервной системы не может быть и репрезентационалистским, поскольку при каждом
взаимодействии именно структурное состояние нервной системе определяет, какие возмущения возможны и
какие изменения могут их вызывать. Поэтому было бы ошибочным утверждать, будто нервная система
имеет входы или выходы в традиционном смысле. Это означало бы, что такие входы или выходы являются
составной частью определения системы, как в случае компьютера или других машин, спроектированных и
построенных человеком. Такой подход вполне разумен, если мы имеем дело со спроектированной кем-то
машиной, основная особенность которой заключается в способе нашего взаимодействия с ней. Но нервную
систему (или организм) никто не проектировал; она возникла в результате филогенетического дрейфа
единств и сосредоточена на их собственной динамике состояний. Следовательно, нервную систему
необходимо рассматривать как единство, определяемое своими внутренними отношениями... Иначе говоря,
нервная система отнюдь не выбирает «информацию» из окружающей среды вопреки часто встречающемуся
утверждению. Наоборот, нервная система создает мир, указывая, какие паттерны окружающей среды могут
считаться возмущениями и какие изменения возбуждают их в организме. Широко известная метафора,
называющая мозг «устройством, занимающимся обработкой информации», не только сомнительна, но и
заведомо неверна (1, с. 149).
Если задуматься над тем, каким критерием мы пользуемся, когда говорим, что некто обладает знанием, то
станет ясно, что под знанием мы понимаем эффективное действие в той области, в которой ожидается ответ.
Иначе говоря, мы ожидаем эффективного поведения в контексте, который мы задаем своим вопросом.
Таким образом, два наблюдения, произведенные над одним и тем же субъектом в одних и тех же условиях,
но при различной постановке вопроса, могут привести к различным когнитивным оценкам поведения
субъекта (1, с. 153).
<...> оценка знания всегда производится в контексте отношений. В таком контексте структурные изменения,
запускаемые в организме возмущениями окружающей среды, представляются наблюдателю откликом на
окружающую среду. Наблюдатель ожидает, что, исходя из этого отклика, ему удастся оценить структурные
изменения, вызванные в организме. С такой точки зрения любое взаимодействие организма, любое
наблюдаемое поведение может быть оценено наблюдателем как когнитивный акт. Точно так же факт жизни
- сохранения неразрывного структурного сопряжения как живого существа — состоит в знании в пределах
области существования. Короче говоря, жить означает познавать (жить означает совершать эффективные
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
55 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
55

действия в области существования в качестве живых существ) (1, с. 154).
<...> наблюдение возникает вместе с языком как ко-онтогенез в описаниях описаний. Вместе с языком
возникает и наблюдатель как оязыченная
92
сущность; оперируя в языке с другими наблюдателями, эта сущность порождает себя и свои обстоятельства
как лингвистические распознавания своего участия в лингвистической области. Смысл возникает при этом
как отношение лингвистических различий. И смысл становится частью нашей области сохранения
адаптации. Все это, вместе взятое, и означает быть человеком. Мы занимаемся описанием описаний,
сделанных нами самими (как это делает данная фраза). Действительно, мы наблюдатели и существуем в
семантической области, созданной нашими операциями в языке, где сохраняется онтогенетическая
адаптация (1, с. 186).
<...> теория познания должна показать, каким образом познание порождает объяснение познания. Такая
ситуация весьма отлична от той, с которой обычно приходится сталкиваться, когда сам феномен объяснения
и феномен, подлежащий объяснению, принадлежат различным областям (1, с. 211).
Действительно, если мы исходим из предположении о существовании объективного мира, независимого от
нас как наблюдателей и доступного нашему познанию через нашу нервную систему, то мы оказываемся не в
состоянии понять, каким образом наша нервная система, функционируя в своей собственной структурной
динамике, тем не менее создает образ независимого от нас объективного мира. Но если мы не исходим из
предположения о существовании объективного мира, независимого от нас как наблюдателей, то все
выглядит так, как если бы мы полностью принимали, что все относительно и все возможно, отрицая тем
самым всякую закономерность. Так мы сталкиваемся с проблемой понимания того, каким образом наш
повседневный опыт (практика нашей жизни) связан с окружающим миром, наполненным регулярностями,
которые в любой момент времени являются результатом наших биологических и социальных историй.
И снова нам приходится идти по лезвию бритвы, избегая впадать в крайности репрезентационализма
(объективизма) и солипсизма (идеализма). Наша цель... понять регулярность мира, все время ощущаемую
нами, но без какой-либо независимой от нас точки отсчета, которая придала бы достоверность нашим
описаниям и когнитивным утверждениям. Действительно, весь механизм порождения нас самих как авторов
описания и наблюдателей говорит нам о том, что наш мир как мир, который мы создаем в сосуществовании
с другими, всегда будет представлять собой смесь регулярности и изменчивости, сочетание незыблемости и
зыбкости, столь типичное для жизненного опыта человека, если вглядеться в него пристальнее ( 1, с. 212-
213).
<...> человеческое познание как эффективное действие принадлежит биологической области, но всегда
проживается в той или иной культурной традиции. Объяснение когнитивных явлений, предложенное нами в
этой книге, основано на традиции науки и остается в силе, покуда удовлетворяет научным критериям.
Особенность этого объяснения внутри самой научной традиции, однако, в том, что оно порождает
фундаментальное концептуальное изменение: познание не касается объектов, ибо познание — это
эффективное действие, и по мере узнавания того, как мы познаем, мы порождаем самих себя. Познание
нашего познания — это не линейное объяснение, начинающееся с некоторой абсолютной точки и
развивающееся до полного завершения по мере того, как все становится объясненным (1, с. 215).
93
<...> мы обладаем только тем миром, который создаем вместе с другими людьми, и что только любовь
помогает нам создавать этот мир.
Мы утверждаем, что корень всех неприятностей и затруднений, с которыми нам приходится
сталкиваться сегодня, заключается в нашем полном неведении относительно познания. Речь идет не о
знании, а о знании знания, которое становится настоятельно необходимым (1, с. 219).
Биология познания
Человек познает, причем способность к познанию у него обусловлена его биологической целостностью;
кроме того, человек знает, что он познает. Являясь фундаментальной психологической, а значит, и
биологической функцией, познание направляет его действия во Вселенной, и благодаря знанию он уверен в
своих деяниях. Кажется, будто возможно объективное знание, а благодаря объективному знанию Вселенная
начинает казаться системной и предсказуемой. Однако знание как переживание — это нечто личностное и
частное, что не может быть передано другому. <...> Суть познания в качестве биологической функции
такова, что ответ на вопрос «Что есть познание?» должен возникнуть из понимания знания и познающего
субъекта, возникающего из способности последнего к познанию. К такому пониманию я и стремлюсь.
Эпистемология
Главное притязание науки — объективность. Наука пытается делать утверждения о Вселенной, прибегая для
этого к тщательно определяемой методологии. Но в самих истоках этого притязания заключена слабость
науки — в ее априорном допущении, будто объективное знание — это описание того, что познано. Такое
допущение вызывает вопросы: «Что значит познавать?» и «Как мы познаем?» <...> (2, с. 95).
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
56 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
56

Наблюдатель
(1) Все сказанное сказано наблюдателем. Речь наблюдателя обращена к другому наблюдателю, в качестве
которого может выступать он сам; что справедливо для одного, то справедливо и для другого. Наблюдатель
— человек, то есть живая система, поэтому все, что справедливо относительно живых систем, справедливо
также относительно самого наблюдателя.
(2) Наблюдатель созерцает рассматриваемую им сущность (в нашем случае — организм) и одновременно
Вселенную, в которой эта сущность находится (окружающую среду организма). Это позволяет ему
взаимодействовать и с той и с другой, располагая такими взаимодействиями, которые по необходимости не
входят в область взаимодействий наблюдаемой сущности.
(3) Одним из атрибутов наблюдателя является способность к независимым взаимодействиям с наблюдаемой
сущностью и с отношениями последней. И сущность, и отношения являются для него единствами
взаимодействий (сущностями).
(4) Для наблюдателя сущность является сущностью, когда он может описать ее. Описать — значит
перечислить актуальные и потенциальные
94
взаимодействия и отношения описываемой сущности. Поэтому описать какую-либо сущность наблюдатель
может лишь в том случае, если имеется по крайней мере еще одна сущность, от которой он может отличить
первую, имея возможность наблюдать взаимодействия или отношения между ними. На роль второй
сущности, являющейся для описания референтной, годится любая сущность, однако в пределе референтной
сущностью для любого описания является сам наблюдатель.
(5) Множество всех взаимодействий, в которые может вступать та или иная сущность, является ее областью
взаимодействий. Множество всех отношений (взаимодействий, опосредованных наблюдателем), в которых
сущность может наблюдаться, является ее областью отношений. Она принадлежит когнитивной области
наблюдателя. Сущность является сущностью, если у нее есть некоторая область взаимодействий, причем эта
область включает в себя взаимодействия с наблюдателем, который может специфицировать для нее каждую
область отношений. Наблюдатель может определить сущность, специфицировав для нее некоторую область
взаимодействий. Таким образом, наблюдатель может обращать в единстве взаимодействий (сущности) часть
какой-либо сущности, группу сущностей или же их отношения.
(6) Наблюдатель может определить в качестве сущности и самого себя, задавая собственную область
взаимодействий; при этом он может оставаться наблюдателем этих взаимодействий, обращаясь с ними как с
независимыми сущностями.
(7) Наблюдатель — живая система, поэтому, чтобы понять познание как биологическое явление,
необходимо учитывать наблюдателя и его роль в познании и дать им объяснение <...> (2, с. 97-98).
Когнитивный процесс
(1) Когнитивная система — это система, организация которой определяет область взаимодействий, где она
может действовать значимо для поддержания самой себя, а процесс познания — это актуальное
(индуктивное) действование или поведение в этой области. Живые системы — это когнитивные системы,
а жизнь как процесс представляет собой процесс познания. Это утверждение действительное для всех
организмов как располагающих нервной системой, так и не располагающих ею (2, с. 103).
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЕКТОРСКИЙ. (Род. 1932)
В.А. Лекторский — специалист по теории познания и философии науки, доктор философских наук,
профессор, академик Российской академии образования, член-корреспондент Российской академии наук,
главный редактор журнала «Вопросы философии», входит в руководство многих международных
философских организаций. Разрабатывает концепцию деятельностного и социокультурного анализа
познания, исследует субъективную и объективную рефлексию, процесс рефлексии над научными теориями
— эпистемологию в целом. В отечественную теорию познания вошли его концепции о субъекте познания,
существовании двух типов субъектов — индивидуального и коллективного, нашедшие отражение в
монографиях «Проблема субъекта и объекта в классической и современной философии» (М., 1965),
«Субъект, объект, познание» (М., 1980). Им разрабатываются представления о классической и
неклассической эпистемологии (теории познания), реализуется методологический принцип —
рассматривать познание «с позиций анализа коммуникативных процессов», при этом коммуникация
трактуется как диалог и рациональная критика. Исследуются рациональность и ее типы, взаимоотношение
научного и вненаучного знания, проблемы толерантности, гуманизма в научном познании, современное
отношение науки и религии. Еще одна область исследования — философия психологии: философские
предпосылки теории деятельности, культурно-исторической теории Л.Выготского и генетической
эпистемологии Ж.Пиаже. Многие из работ переведены на европейские языки.
Л.А.Микешина
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
57 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
57

Самосознание и рефлексия. Явное и неявное знание
Поскольку мы начинаем наш анализ с исследования индивидуальных эмпирических субъектов и их
взаимоотношений, постольку констатация того факта, что в обычном самосознании дано определенного
рода знание, вряд ли может встретить какие-либо возражения. Позже мы попытаемся объяснить и те факты,
которые Кант и Сартр истолковывают как принци-
Приводятся отрывки из следующих работ:
1. Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1980.
2. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001.
96
пиальное различие сознания (самосознания) и знания. Мы отмечали то важное, зафиксированное в
современной психологии обстоятельство, что объективная амодальная схема мира, лежащая в основе всех
типов и видов восприятия, предполагает также включенную в нее схему тела субъекта. Именно знание
положения своего тела в объективной сетке пространственно-временных связей, знание различия между
объективными изменениями в реальном мире и сменой субъективных состояний сознания, знание связи той
или иной перспективы опыта с объективным положением тела субъекта — все эти разнообразные виды
знания включены в «спрессованном» виде в элементарный акт самосознания, тот акт, который
действительно предполагается любым познавательным процессом. Без самосознания субъект не в состоянии
определить объективного положения дел в мире. Когда имеет место такой специфический и высший вид
отражения, как познание, субъект не просто знает нечто, но и сознает, что он это знает, т.е. всегда
определенным образом относится к своему знанию и самому себе. В противном случае познание не имело
бы места. <...> (1, с. 252)
<...> До сих пор мы исходили из того, что в знании субъекту представлен мир объектов, которые осознаются
в качестве таковых. Это относится и к такому связанному с индивидуальным субъектом виду знания, как
восприятие, и к таким объективированным видам знания, как научные теории. Между тем самосознанию не
презентирован его объект (не следует смешивать самосознание с рефлексией). Когда я воспринимаю какую-
то группу объектов, я вместе с тем сознаю отличие своего сознания от этих объектов, сознаю
пространственно-временное положение своего тела и т.д. Однако все эти факты сознания находятся не в его
«фокусе», а как бы на «заднем плане», на его «периферии». Непосредственно мое сознание нацелено на
внешние объекты, которые являются предметом знания. Мое тело, мое сознание, мой познавательный
процесс в этом случае не входят в круг объектов опыта, предметов знания. Таким образом, предполагаемое
любым опытом знание о себе, выражающееся в виде самосознания, — это знание особого рода. Его можно
было бы несколько условно назвать «неявным знанием» в отличие от знания явного, с которым мы обычно
имеем дело. Цель познавательного процесса — получение явного знания. Неявное знание выступает как
средство, способ получения явного знания. (1, с. 255)
Обоснование и развитие знания
Поскольку одна из важнейших задач теоретико-познавательного анализа — а может быть, даже и
единственная задача, — рассуждали многие философы, состоит в разрешении проблемы обоснования
знания, то, очевидно, в ходе этого анализа следует выявить и расчленить все предпосылки знания, в том
числе и те, которые связаны с самосознанием. Теоретико-познавательное исследование должно все неявное
сделать явным, т.е. осуществить абсолютно полную рефлексию.
Как мы помним, одно из предлагавшихся решений этой проблемы состояло в утверждении о том, что
рефлективное отношение Я к самому себе характеризует высшее основоположение всякого знания.
Формулирующее это рефлективное отношение суждение считалось абсолютно бесспорным
97
и неопровержимым. В этой связи теоретико-познавательная рефлексия над знанием была истолкована как
рефлексия Я над самим собой.
Мы пытались раскрыть те тупики, неразрешимые трудности, в которые неизбежно упирается принятие
подобной установки в теории познания. В частности, мы стремились показать, что любое знание, и прежде
всего знание о положении дел в мире внешних объектов, хотя и предполагает самосознание субъекта, в
принципе не может быть сведено к рефлексии субъекта над самим собою. А поскольку знание о внешних
объектах никогда не может быть абсолютно бесспорным — в том смысле, что оно принципиально не
допускает никаких дальнейших уточнений и исправлений, — сколь бы практически достоверным оно ни
было, возникают естественные сомнения в необходимости поиска абсолютных начал и совершенно
бесспорных утверждений в качестве основоположений знания.
Эти сомнения усиливаются, когда мы принимаем во внимание опыт современной науки по решению
проблемы обоснования тех или иных видов специально-научного знания. Мы уже отмечали, например,
невозможность полного сведения теории арифметики к теории множеств или же одной физической теории к
другой, так же как невозможность редукции теоретического знания — к совокупности протокольных
высказываний, предложений о «чувственных данных» или же к лабораторным операциям. Разные
образования знания связаны между собой не посредством редукции, а иным способом. С этим
обстоятельством приходится серьезно считаться при решении проблемы обоснования знания.
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
58 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
58
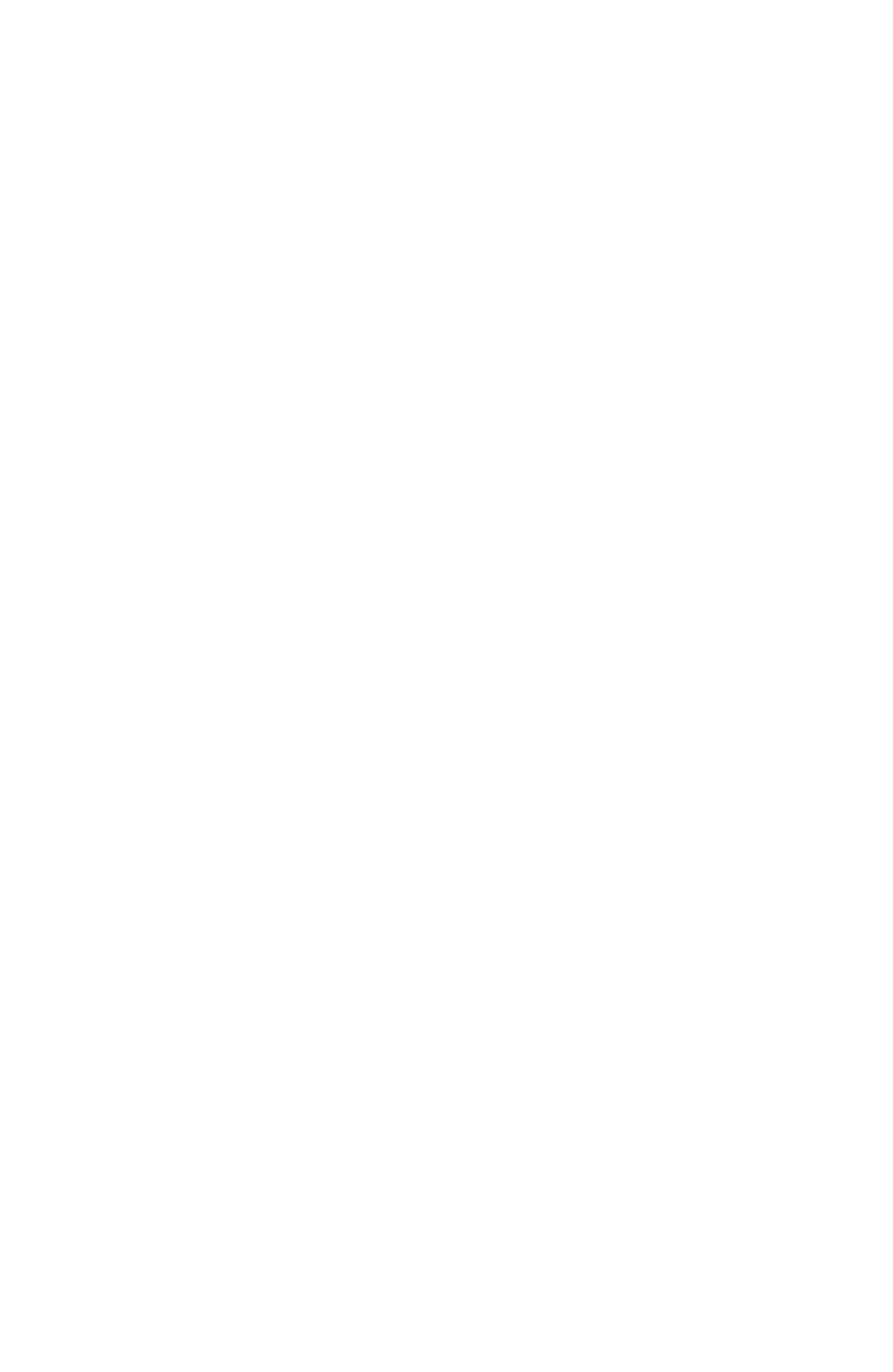
Однако все же остается вопрос: а в какой мере возможна абсолютная полнота рефлексии, в какой степени
поддаются выявлению, прояснению и расчленению предпосылки знания?
Пытаясь ответить на этот вопрос, вспомним рассуждения Куайна о проблеме радикального перевода. Куайн
обращает внимание на то, что язык, на котором мы говорим, дан нам иным образом, чем язык чужой,
исследуемый нами. В отношении последнего мы ставим вопрос о соотношении его выражений с реальными
объектами и действительными ситуациями, т.е. осуществляем рефлексию над этим языком. Что же касается
нашего языка, то он непосредственно презентирует нам картину мира, а нe собственную структуру. Мы
знаем свой язык в том смысле, что умеем им пользоваться для передачи того или иного объективного
содержания. Но это неявное знание. Язык для нас неотделим от тех объектных знаний, которые мы
получаем с его помощью, и даже как бы «не замечается» нами, находится «на заднем плане» сознания. (Это
не исключает возможности рефлексии над собственным языком. Но в этом случае мы вынуждены
«расщепить» свой язык на два. Один из них будет объектным, изучаемым языком, т.е. начнет играть уже
совсем иную роль, чем это было до сих пор, и выступать уже не как естественно данное сознанию неявное
знание, а как совокупность теоретических гипотез, идеализации и т.д. Второй же язык, с помощью которого
мы изучаем первый, сохраняет качества неявного знания.) Допустим, что мы исследуем структуру теории
арифметики и пытаемся выявить ее онтологию, т.е. совершаем над этой концептуальной системой акт
теоретической рефлексии. В этом случае в качестве средства рефлексии мы
98
используем теорию множеств. В контексте исследования теория множеств не является объектом рефлексии
и принимается как нечто знакомое и ясное. Возможна и обратная задача — перевод утверждений теории
множеств на язык теории арифметики. Тогда уже сама теория множеств будет объектом рефлексии, а теория
арифметики будет приниматься как нечто нерефлектируемое в данном контексте. (1, с. 256-257)
Таким образом, даже в такой науке, как математика, в которой проблема обоснования знания занимает
серьезное место и в которой рефлексия над существующими системами знания играет огромную роль,
каждая процедура рефлективного анализа предполагает некую нерефлектируемую в данном контексте
рамку неявного «обосновывающего» знания. Гораздо большую роль неявное знание играет в науках
фактуальных, т.е. в тех дисциплинах, которые имеют дело с объяснением эмпирических фактов. Как
правило, в этих науках исследовательская деятельность непосредственно направлена на мир реальных
внешних объектов, а не на саму теорию. Разработка, развитие теоретической системы и ее приложение к
эмпирии — обычно одно неотделимо от другого — выступает для исследователя как выявление
объективных связей самой действительности.
Теоретическая концептуальная система не рассматривается в этом случае отдельно от тех знаний о реальных
объектах, которые формулируются при ее помощи. Теории в такого рода дисциплинах обычно не
формализуются, нередко и не аксиоматизируются. Правила обработки эмпирических данных, нормы и
стандарты рассуждений, способы выбора значимых проблем не формулируются эксплицитным образом, а
задаются вместе с исходными содержательными «парадигмальными» предпосылками теории, т.е. в качестве
неявного знания. <...> Это не означает, что в развитии естественно-научного знания теоретическая
рефлексия не играет никакой роли (хотя названные нами теоретики науки склонны всячески принижать эту
роль, и в этом пункте они искажают действительное положение дел).
Следует заметить, что отмеченная особенность рефлексии — диалектическая взаимосвязь рефлектируемого
и нерефлектируемого знания — в полной мере проявляется и в отношении тех видов знания, которые
существуют в необъективированной форме, т.е. принадлежат индивидуальному субъекту (восприятие,
воспоминание и т.д.), а также в отношении самого индивидуального сознания. Как мы подчеркивали,
каждый акт индивидуального познания предполагает самосознание, т.е. неявное знание субъекта о себе
самом. Можно попытаться превратить это неявное знание в явное, т.е. перевести самосознание в рефлексию.
В этом случае субъект анализирует собственные переживания, наблюдает поток своей психической жизни,
пытается выяснить характер своего «Я» и т.д. Кажется, что в этом акте рефлексии «Я» просто сливается с
самим собой. В действительности дело обстоит не так. Каждый акт рефлексии — это акт осмысления,
понимания. Последнее же всегда предполагает определенные средства понимания, некоторую рамку
смысловых связей. Вне этой рамки невозможна и рефлексия. Вместе с тем предполагаемая актом рефлексии
смысловая рамка не рефлектируется в самом этом акте, а, «выпадая» из него, берется в качестве его
средства, т.е. неявного знания. Расчлененность потока психической жизни, содержа-
99
тельная определенность всплывающих в сознании образов, пространственно-временная отнесенность
воспоминаний — все это дается сознанию в акте индивидуальной рефлексии. Однако сами способы
смыслового оформления этой данности не рефлектируются. Поэтому в процессе субъективной рефлексии не
возникает вопроса о принципиальной возможности иных смысловых характеристик психической жизни, т.е.
о возможности другого содержания и структуры психической жизни, чем та, которая дана субъекту в
процессе самонаблюдения. Выпадает, по крайней мере, частично из акта рефлексии и само «Я», ибо, если
оно делает себя объектом собственной рефлексии, то оно же должно и осуществить этот акт в качестве
субъекта. А это значит, что «Я» как субъект рефлексии нерефлектируемо, пока мы находимся в границах
индивидуального сознания. (1, с. 258-260)
Значит ли сказанное, что нерефлектируемое, неявное знание вообще не может быть объектом рефлексии,
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
59 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
59

навечно обречено остаться на «периферии» сознания и в принципе не поддается анализу? Вовсе нет.
Средство рефлексии, ее смысловая рамка сама может стать предметом рефлективного анализа, но для этого
она должна быть осмыслена с помощью иной смысловой рамки, которая в новом контексте будет оставаться
нерефлектируемой. Заметим при этом, что не следует неявное знание понимать в качестве чего-то
иррационального или же как некое произвольное допущение, не имеющее отношения к реальной
действительности. На самом деле в этого рода знании всегда с определенной степенью точности отражаются
объективные зависимости, и в целом ряде случаев практическая и познавательная деятельность не
нуждаются в специальном анализе, по крайней мере, некоторых познавательных предпосылок, из которых
они исходят. Вместе с тем существуют обстоятельства, когда подобный анализ оказывается необходимым.
Как мы уже отмечали, именно так обстоит дело, например, при исследовании оснований математики.
Обратим внимание на следующий важный момент. В том случае, когда неявное знание превращается в
явное, т.е. становится объектом рефлексии, оно претерпевает определенные изменения. Теоретическая
рефлексия над системой объективированного знания означает его расчленение, формулирование целого
ряда допущений и идеализации и вместе с тем — это особенно важно подчеркнуть! — уточнение самого
этого знания, отказ от некоторых неявно принимавшихся предпосылок (именно необходимостью
пересмотра ряда предпосылок знания и продиктована сама процедура рефлексии). То, что раньше казалось
ясным, интуитивно понятным и простым, в результате рефлексии оказывается достаточно сложным и
нередко проблематичным, а иной раз просто ошибочным. Результат рефлексии — это, таким образом, не
какие-то простые и самоочевидные истины, не совокупность совершенно бесспорных утверждений, которые
выступают как «абсолютное основание» системы знания, к которому могут быть так или иначе сведены
разные виды знания. Результат рефлексии — это такая теоретическая система, которая является
относительно истинным отражением некоторых реальных зависимостей в определенном контексте и
которая вместе с тем предполагает целый ряд допущений, определенное неявное «предпосылочное» знание.
100
Таким образом, в итоге рефлексии происходит выход за пределы существующей системы знания и
порождение нового знания (как явного, так и неявного). То, что первоначально казалось (например, в
математике) чисто обосновывающей процедурой, в действительности является своеобразным способом
развития самого содержания знания, одним из важных путей разработки теории. В результате подобного
рода процедуры осуществляется все более точное отражение объективных зависимостей действительности и
все более точное воспроизведение структуры и содержания самих научных теорий. <...> (1, с. 260-262)
<...> возникает законный вопрос: а имеет ли вообще какой-либо смысл проблема обоснования знания? Ведь
в классической философии и науке решение задачи обоснования знания представлялось как нахождение
такой совокупности утверждений, которые были бы абсолютно бесспорны, незыблемы и к которым могли
бы быть так или иначе сведены все остальные виды и типы знания. Коль скоро такого рода задача не может
быть решена — а мы пытались показать, что это именно так, — не следует ли признать, что проблемы
обоснования знания вообще не существует? К подобному выводу приходят ныне многие западные
специалисты по вопросам обоснования математики, логики, методологии и философии науки, теории и
истории естествознания.
Вряд ли можно согласиться с такого рода мнением. В самом деле. В чем смысл самой задачи обоснования
знания? По-видимому, в том, чтобы выявить объективную сферу приложимости данной системы знания,
отделить то, что действительно является знанием, от того, что напрасно претендует на этот титул. Если же
вопрос об основании стоит в общем теоретико-познавательном плане, то речь идет о нахождении общих
критериев решения этой задачи, критериев, которые могут применяться к разным случаям, к разнообразным
конкретным системам знания. Если считать, что эта задача потеряла всякий смысл, тогда следует принять
вывод, что вообще не существует никаких критериев, позволяющих провести границу между знанием и
незнанием.
В действительности ход развития познания — это диалектический процесс размежевания знания и незнания
и вместе с тем процесс все более точного определения объективной сферы приложимости существующих
систем знания. Обоснование знания прежде всего предполагает его соотнесение с реальными объектами
посредством практической предметной деятельности. Вместе с тем не все виды знания могут быть
непосредственно включены в практическую деятельность. К тому же сама практика всегда ограничена
данным конкретно-историческим уровнем своего развития. Поэтому даже наличие практических
приложений данной системы знания вовсе не равнозначно полному обоснованию последней. Процесс
практики предполагает развитие самих систем знания. Именно в ходе этого совместного развития связанных
между собою предметно-практической и познавательной деятельности совершается процесс обоснования
знания. Обоснование, таким образом, должно быть понято не в качестве некоторой совокупности процедур,
позволяющих «окончательно», раз и навсегда обеспечить знание «незыблемым фундаментом», а как
исторический про-
101
цесс развития познания, появления новых теоретических систем, отбрасывания некоторых старых
представлений, установления новых связей между теориями, переделки старых теорий и т.д. Обосновать
данную теоретическую систему — это значит выйти за ее пределы, включить ее в более глубокий синтез,
рассмотреть в более широком контексте.
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
60 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
60
