Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII - XVIII веках в традиционной китайской системе политических представлений
Подождите немного. Документ загружается.

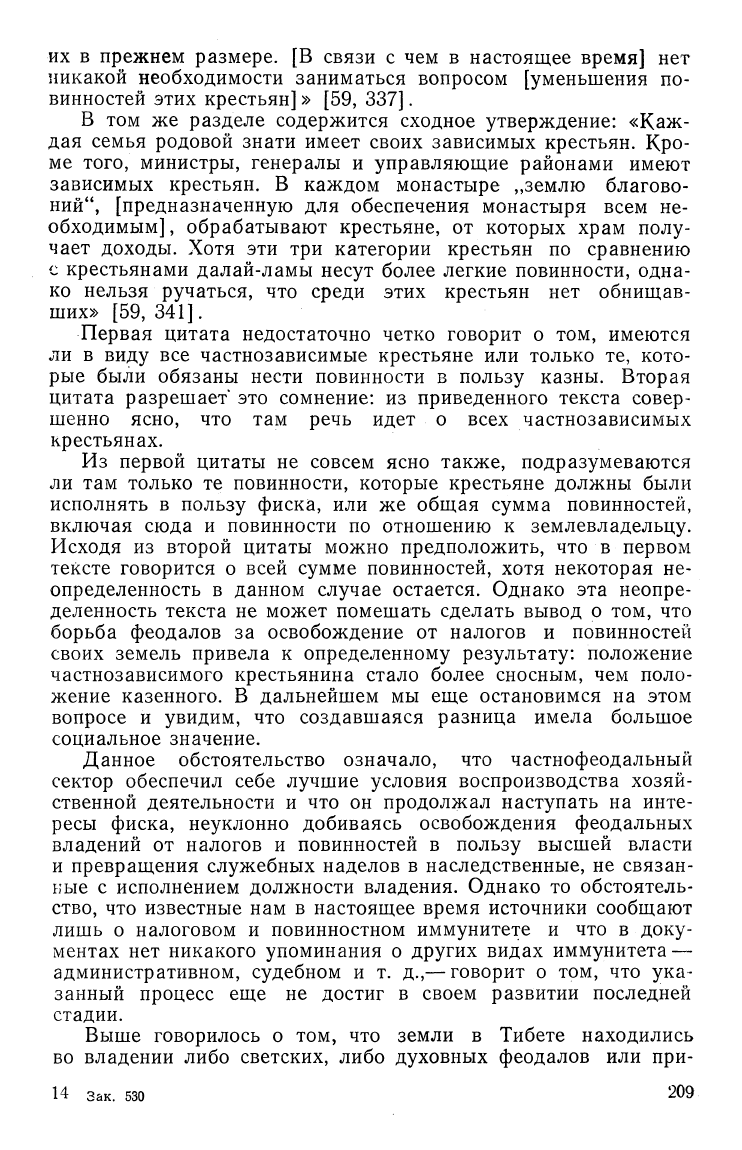
их в прежнем размере. [В связи с чем в настоящее время] нет
никакой необходимости заниматься вопросом [уменьшения по-
винностей этих крестьян] » [59, 337].
В том же разделе содержится сходное утверждение: «Каж-
дая семья родовой знати имеет своих зависимых крестьян. Кро-
ме того, министры, генералы и управляющие районами имеют
зависимых крестьян. В каждом монастыре „землю благово-
ний", [предназначенную для обеспечения монастыря всем не-
обходимым],
обрабатывают крестьяне, от которых храм полу-
чает доходы. Хотя эти три категории крестьян по сравнению
с крестьянами далай-ламы несут более легкие повинности, одна-
ко нельзя ручаться, что среди этих крестьян нет обнищав-
ших» [59, 341].
Первая цитата недостаточно четко говорит о том, имеются
ли в виду все частнозависимые крестьяне или только те, кото-
рые были обязаны нести повинности в пользу казны. Вторая
цитата разрешает это сомнение: из приведенного текста совер-
шенно ясно, что там речь идет о всех частнозависимых
крестьянах.
Из первой цитаты не совсем ясно также, подразумеваются
ли там только те повинности, которые крестьяне должны были
исполнять в пользу фиска, или же общая сумма повинностей,
включая сюда и повинности по отношению к землевладельцу.
Исходя из второй цитаты можно предположить, что в первом
тексте говорится о всей сумме повинностей, хотя некоторая не-
определенность в данном случае остается. Однако эта неопре-
деленность текста не может помешать сделать вывод о том, что
борьба феодалов за освобождение от налогов и повинностей
своих земель привела к определенному результату: положение
частнозависимого крестьянина стало более сносным, чем поло-
жение казенного. В дальнейшем мы еще остановимся на этом
вопросе и увидим, что создавшаяся разница имела большое
социальное значение.
Данное обстоятельство означало, что частнофеодальный
сектор обеспечил себе лучшие условия воспроизводства хозяй-
ственной деятельности и что он продолжал наступать на инте-
ресы фиска, неуклонно добиваясь освобождения феодальных
владений от налогов и повинностей в пользу высшей власти
и превращения служебных наделов в наследственные, не связан-
ные с исполнением должности владения. Однако то обстоятель-
ство,
что известные нам в настоящее время источники сообщают
лишь о налоговом и повинностном иммунитете и что в доку-
ментах нет никакого упоминания о других видах иммунитета —
административном, судебном и т. д.,— говорит о том, что ука-
занный процесс еще не достиг в своем развитии последней
стадии.
Выше говорилось о том, что земли в Тибете находились
во владении либо светских, либо духовных феодалов или при-
14 Зак. 530
209
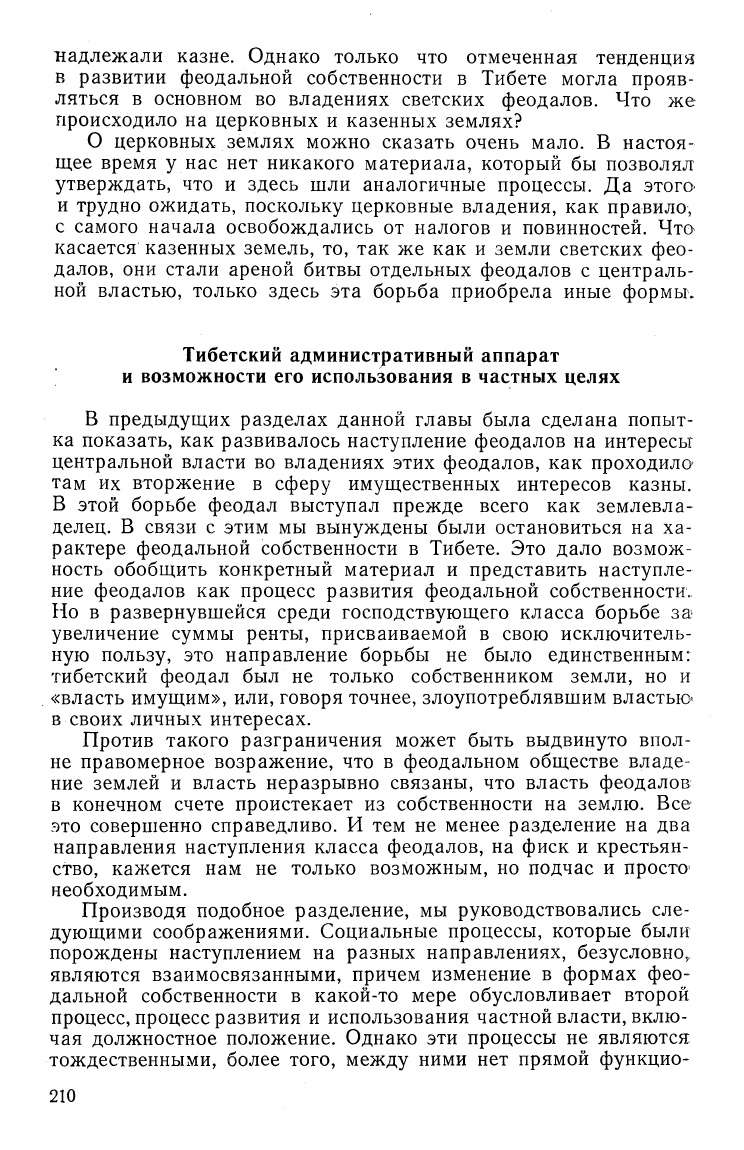
надлежали казне. Однако только что отмеченная тенденция
в развитии феодальной собственности в Тибете могла прояв-
ляться в основном во владениях светских феодалов. Что же
происходило на церковных и казенных землях?
О церковных землях можно сказать очень мало. В настоя-
щее время у нас нет никакого материала, который бы позволял
утверждать, что и здесь шли аналогичные процессы. Да этого-
и трудно ожидать, поскольку церковные владения, как правило,
с самого начала освобождались от налогов и повинностей. Что
касается казенных земель, то, так же как и земли светских фео-
далов, они стали ареной битвы отдельных феодалов с централь-
ной властью, только здесь эта борьба приобрела иные формы.
Тибетский административный аппарат
и возможности его использования в частных целях
В предыдущих разделах данной главы была сделана попыт-
ка показать, как развивалось наступление феодалов на интересы
центральной власти во владениях этих феодалов, как проходило
там их вторжение в сферу имущественных интересов казны.
В этой борьбе феодал выступал прежде всего как землевла-
делец. В связи с этим мы вынуждены были остановиться на ха-
рактере феодальной собственности в Тибете. Это дало возмож-
ность обобщить конкретный материал и представить наступле-
ние феодалов как процесс развития феодальной собственности.
Но в развернувшейся среди господствующего класса борьбе за
увеличение суммы ренты, присваиваемой в свою исключитель-
ную пользу, это направление борьбы не было единственным:
тибетский феодал был не только собственником земли, но и
«власть имущим», или, говоря точнее, злоупотреблявшим властью«
в своих личных интересах.
Против такого разграничения может быть выдвинуто впол-
не правомерное возражение, что в феодальном обществе владе-
ние землей и власть неразрывно связаны, что власть феодалов
в конечном счете проистекает из собственности на землю. Все
это совершенно справедливо. И тем не менее разделение на два
направления наступления класса феодалов, на фиск и крестьян-
ство,
кажется нам не только возможным, но подчас и просто
1
необходимым.
Производя подобное разделение, мы руководствовались сле-
дующими соображениями. Социальные процессы, которые были
порождены наступлением на разных направлениях, безусловно,
являются взаимосвязанными, причем изменение в формах фео-
дальной собственности в какой-то мере обусловливает второй
процесс, процесс развития и использования частной власти, вклю-
чая должностное положение. Однако эти процессы не являются
тождественными, более того, между ними нет прямой функцио-
210
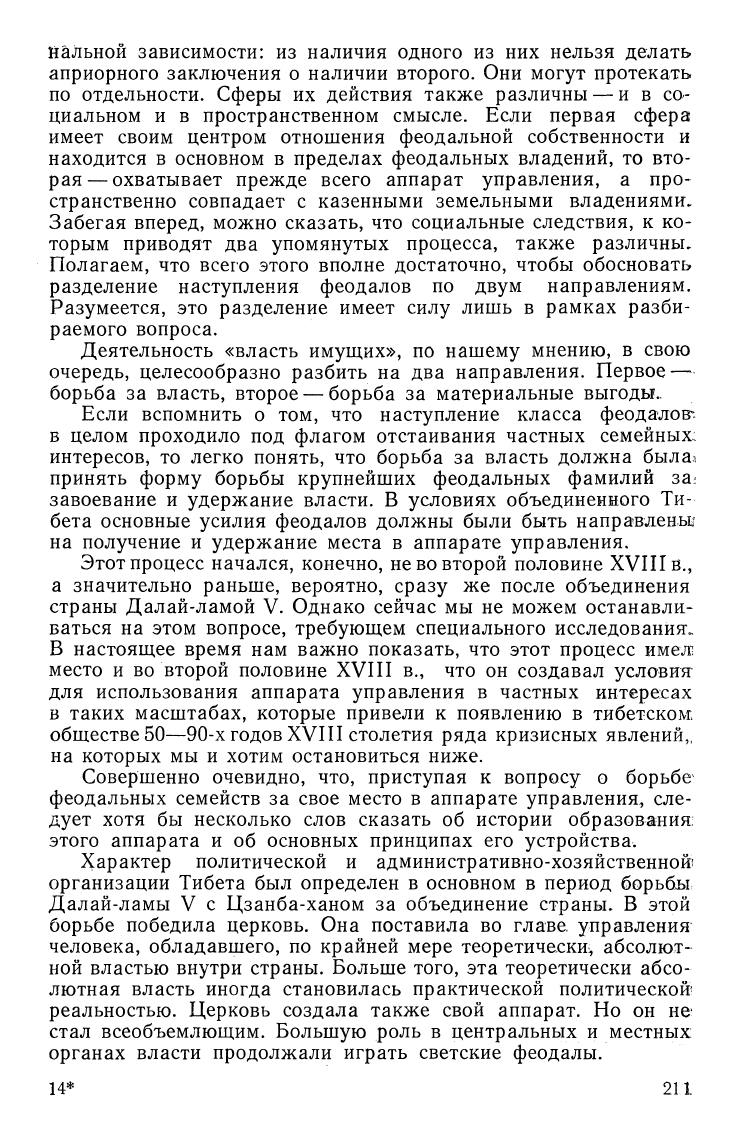
йальной зависимости: из наличия одного из них нельзя делать
априорного заключения о наличии второго. Они могут протекать
по отдельности. Сферы их действия также различны — и в со-
циальном и в пространственном смысле. Если первая сфера
имеет своим центром отношения феодальной собственности и
находится в основном в пределах феодальных владений, то вто-
рая—
охватывает прежде всего аппарат управления, а про-
странственно совпадает с казенными земельными владениями.
Забегая вперед, можно сказать, что социальные следствия, к ко-
торым приводят два упомянутых процесса, также различны.
Полагаем, что всего этого вполне достаточно, чтобы обосновать
разделение наступления феодалов по двум направлениям.
Разумеется, это разделение имеет силу лишь в рамках разби-
раемого вопроса.
Деятельность «власть имущих», по нашему мнению, в свою
очередь, целесообразно разбить на два направления. Первое —
борьба за власть, второе
—
борьба за материальные выгоды..
Если вспомнить о том, что наступление класса феодалов*,
в целом проходило под флагом отстаивания частных семейных:
интересов, то легко понять, что борьба за власть должна былаз
принять форму борьбы крупнейших феодальных фамилий за;
завоевание и удержание власти. В условиях объединенного Ти-
бета основные усилия феодалов должны были быть направленш
на получение и удержание места в аппарате управления.
Этот процесс начался, конечно, не во второй половине XVIII в.,
а значительно раньше, вероятно, сразу же после объединения
страны Далай-ламой V. Однако сейчас мы не можем останавли-
ваться на этом вопросе, требующем специального исследования.
В настоящее время нам важно показать, что этот процесс имел!
место и во второй половине XVIII в., что он создавал условия
для использования аппарата управления в частных интересах
в таких масштабах, которые привели к появлению в тибетском
обществе 50—90-х годов XVIII столетия ряда кризисных явлений,,
на которых мы и хотим остановиться ниже.
Совершенно очевидно, что, приступая к вопросу о борьбе
феодальных семейств за свое место в аппарате управления, сле-
дует хотя бы несколько слов сказать об истории образования:
этого аппарата и об основных принципах его устройства.
Характер политической и административно-хозяйственной?
организации Тибета был определен в основном в период борьбы
Далай-ламы V с Цзанба-ханом за объединение страны. В этой
борьбе победила церковь. Она поставила во главе управления
человека, обладавшего, по крайней мере теоретически, абсолют-
ной властью внутри страны. Больше того, эта теоретически абсо-
лютная власть иногда становилась практической политической
реальностью. Церковь создала также свой аппарат. Но он не
стал всеобъемлющим. Большую роль в центральных и местных:
органах власти продолжали играть светские феодалы.
14*
211
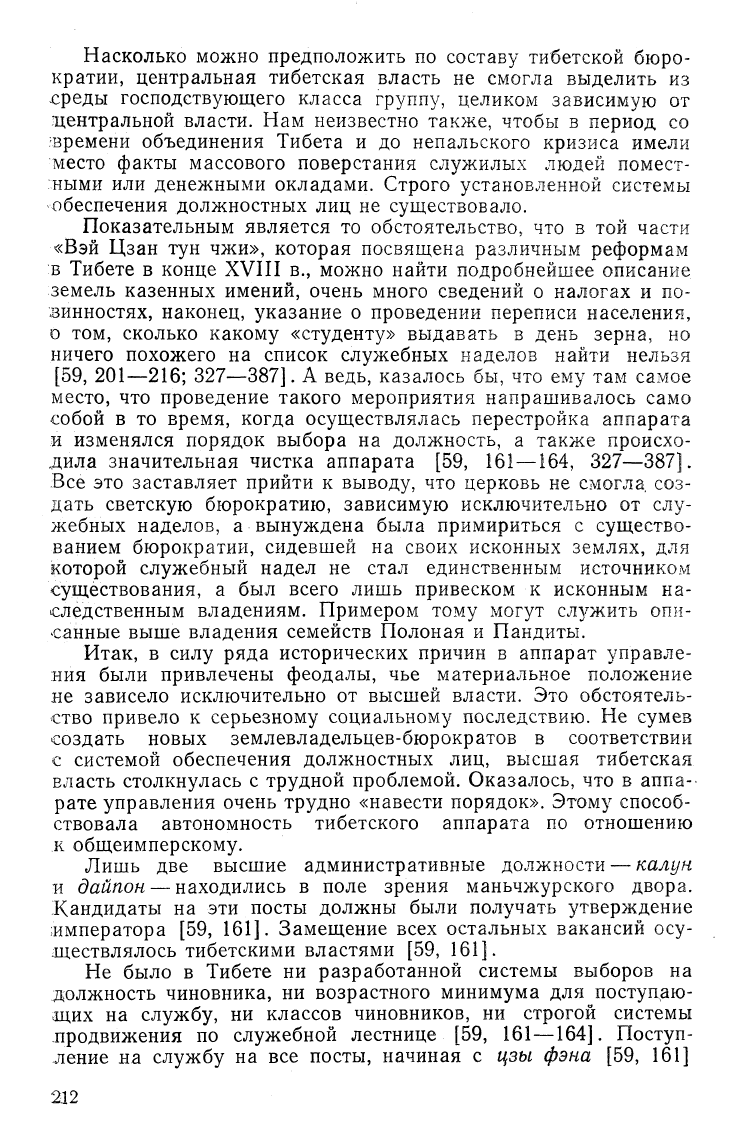
Насколько можно предположить по составу тибетской бюро-
кратии, центральная тибетская власть не смогла выделить из
-среды господствующего класса группу, целиком зависимую от
•центральной власти. Нам неизвестно также, чтобы в период со
времени объединения Тибета и до непальского кризиса имели
место факты массового поверстания служилых людей помест-
ными или денежными окладами. Строго установленной системы
обеспечения должностных лиц не существовало.
Показательным является то обстоятельство, что в той части
«Вэй Цзан тун чжи», которая посвящена различным реформам
в Тибете в конце XVIII в., можно найти подробнейшее описание
земель казенных имений, очень много сведений о налогах и по-
винностях, наконец, указание о проведении переписи населения,
о том, сколько какому «студенту» выдавать в день зерна, но
ничего похожего на список служебных наделов найти нельзя
[59,
201—216; 327—387]. А ведь, казалось бы, что ему там самое
место, что проведение такого мероприятия напрашивалось само
собой в то время, когда осуществлялась перестройка аппарата
и изменялся порядок выбора на должность, а также происхо-
дила значительная чистка аппарата [59, 161—164, 327—387].
Все это заставляет прийти к выводу, что церковь не смогла соз-
дать светскую бюрократию, зависимую исключительно от слу-
жебных наделов, а вынуждена была примириться с существо-
ванием бюрократии, сидевшей на своих исконных землях, для
которой служебный надел не стал единственным источником
существования, а был всего лишь привеском к исконным на-
следственным владениям. Примером тому могут служить опи-
санные выше владения семейств Полоная и Пандиты.
Итак, в силу ряда исторических причин в аппарат управле-
ния были привлечены феодалы, чье материальное положение
не зависело исключительно от высшей власти. Это обстоятель-
ство привело к серьезному социальному последствию. Не сумев
создать новых землевладельцев-бюрократов в соответствии
с системой обеспечения должностных лиц, высшая тибетская
власть столкнулась с трудной проблемой. Оказалось, что в аппа-
рате управления очень трудно «навести порядок». Этому способ-
ствовала автономность тибетского аппарата по отношению
к общеимперскому.
Лишь две высшие административные должности — калун
и дайпон
—
находились в поле зрения маньчжурского двора.
Кандидаты на эти посты должны были получать утверждение
императора [59, 161]. Замещение всех остальных вакансий осу-
ществлялось тибетскими властями [59, 161].
Не было в Тибете ни разработанной системы выборов на
должность чиновника, ни возрастного минимума для поступаю-
щих на службу, ни классов чиновников, ни строгой системы
продвижения по служебной лестнице [59, 161—164]. Поступ-
ление на службу на все посты, начиная с цзы фэна [59, 161]
212
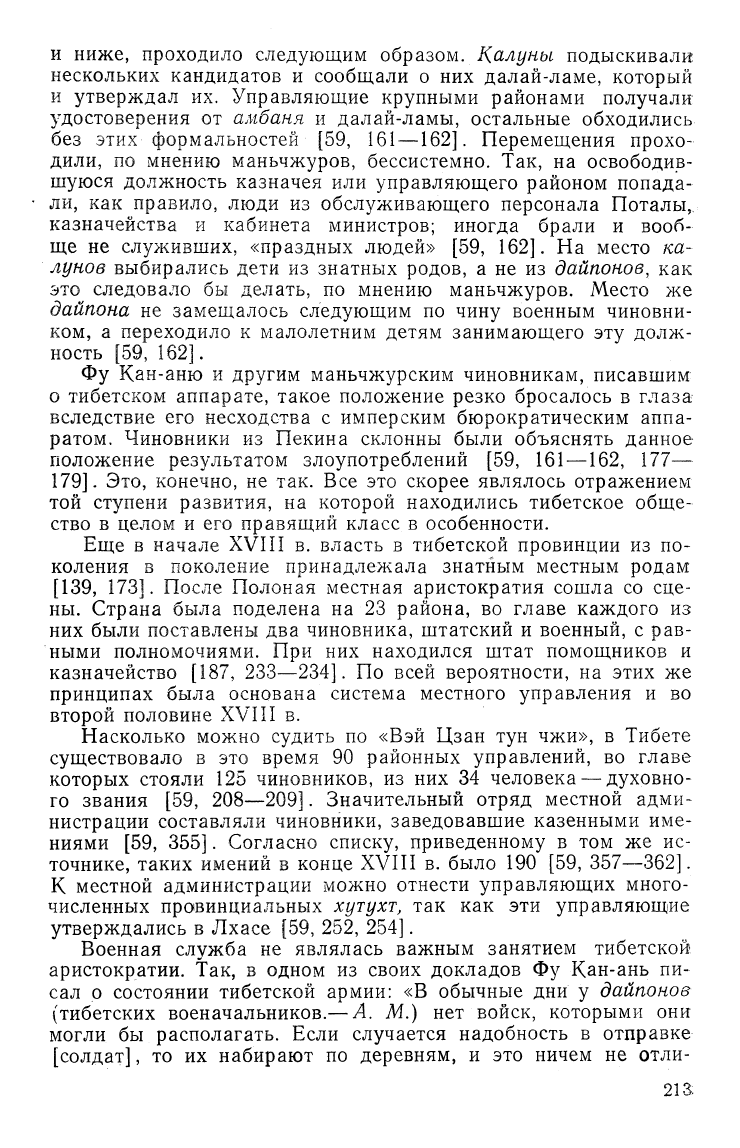
и ниже, проходило следующим образом. Калуны подыскивали
нескольких кандидатов и сообщали о них далай-ламе, который
и утверждал их. Управляющие крупными районами получали
удостоверения от амбаня и далай-ламы, остальные обходились
без этих формальностей [59,
161
—162].
Перемещения прохо-
дили, по мнению маньчжуров, бессистемно. Так, на освободив-
шуюся должность казначея или управляющего районом попада-
ли,
как правило, люди из обслуживающего персонала Поталы,
казначейства и кабинета министров; иногда брали и вооб-
ще не служивших, «праздных людей» [59, 162]. На место ка-
лунов выбирались дети из знатных родов, а не из дайпонов, как
это следовало бы делать, по мнению маньчжуров. Место же
дайпона не замещалось следующим по чину военным чиновни-
ком, а переходило к малолетним детям занимающего эту долж-
ность [59, 162].
Фу Кан-аню и другим маньчжурским чиновникам, писавшим
о тибетском аппарате, такое положение резко бросалось в глаза
вследствие его несходства с имперским бюрократическим аппа-
ратом. Чиновники из Пекина склонны были объяснять данное
положение результатом злоупотреблений [59,
161
—162,
177—
179].
Это, конечно, не так. Все это скорее являлось отражением
той ступени развития, на которой находились тибетское обще-
ство в целом и его правящий класс в особенности.
Еще в начале XVIII в. власть в тибетской провинции из по-
коления в поколение принадлежала знатным местным родам
[139,
173]. После Полоная местная аристократия сошла со сце-
ны.
Страна была поделена на 23 района, во главе каждого из
них были поставлены два чиновника, штатский и военный, с рав-
ными полномочиями. При них находился штат помощников и
казначейство [187, 233—234]. По всей вероятности, на этих же
принципах была основана система местного управления и во
второй половине XVIII в.
Насколько можно судить по «Вэй Цзан тун чжи», в Тибете
существовало в это время 90 районных управлений, во главе
которых стояли 125 чиновников, из них 34 человека
—
духовно-
го звания [59, 208—209]. Значительный отряд местной адми-
нистрации составляли чиновники, заведовавшие казенными име-
ниями [59, 355]. Согласно списку, приведенному в том же ис-
точнике, таких имений в конце XVIII в. было 190 [59, 357—362].
К местной администрации можно отнести управляющих много-
численных провинциальных
хутухт,
так как эти управляющие
утверждались в Лхасе [59, 252, 254].
Военная служба не являлась важным занятием тибетской
аристократии. Так, в одном из своих докладов Фу Кан-ань пи-
сал о состоянии тибетской армии: «В обычные дни у дайпонов
(тибетских военачальников.— А. М.) нет войск, которыми они
могли бы располагать. Если случается надобность в отправке
[солдат],
то их набирают по деревням, и это ничем не отли-
21а
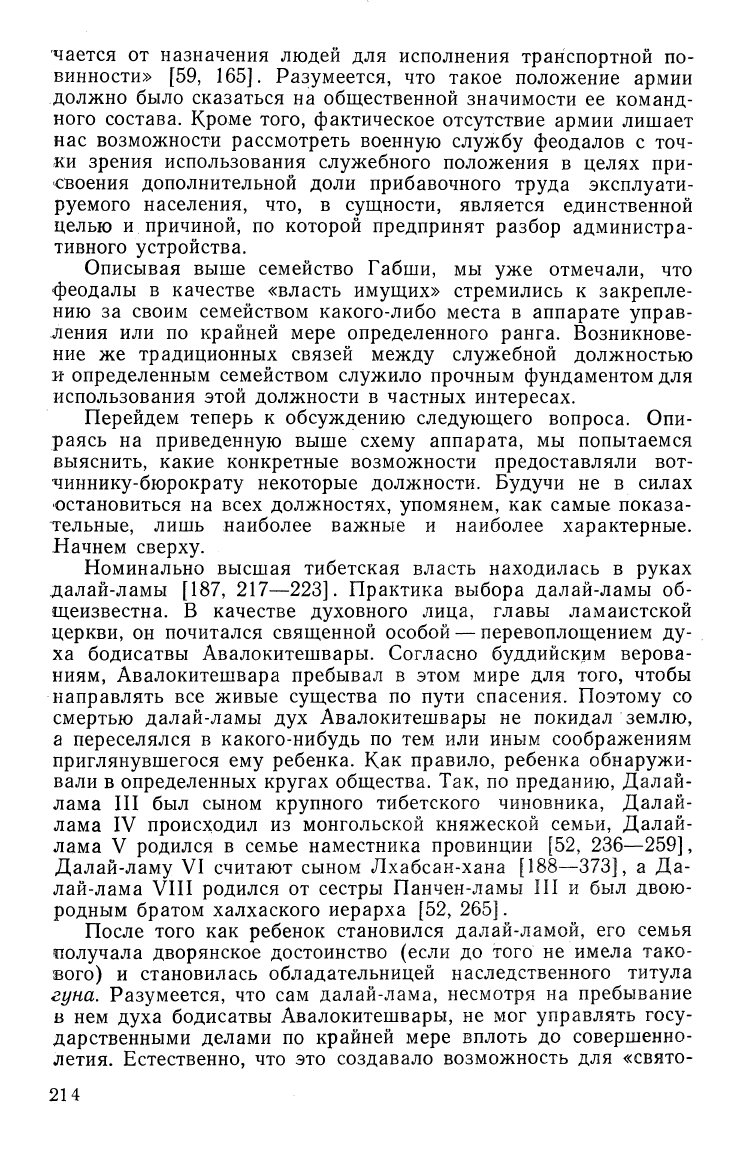
дается от назначения людей для исполнения транспортной по-
винности» [59, 165]. Разумеется, что такое положение армии
должно было сказаться на общественной значимости ее команд-
ного состава. Кроме того, фактическое отсутствие армии лишает
нас возможности рассмотреть военную службу феодалов с точ-
ки зрения использования служебного положения в целях при-
своения дополнительной доли прибавочного труда эксплуати-
руемого населения, что, в сущности, является единственной
целью и причиной, по которой предпринят разбор администра-
тивного устройства.
Описывая выше семейство Габши, мы уже отмечали, что
феодалы в качестве «власть имущих» стремились к закрепле-
нию за своим семейством какого-либо места в аппарате управ-
ления или по крайней мере определенного ранга. Возникнове-
ние же традиционных связей между служебной должностью
и определенным семейством служило прочным фундаментом для
использования этой должности в частных интересах.
Перейдем теперь к обсуждению следующего вопроса. Опи-
раясь на приведенную выше схему аппарата, мы попытаемся
выяснить, какие конкретные возможности предоставляли вот-
чиннику-бюрократу некоторые должности. Будучи не в силах
остановиться на всех должностях, упомянем, как самые показа-
тельные, лишь наиболее важные и наиболее характерные.
Начнем сверху.
Номинально высшая тибетская власть находилась в руках
далай-ламы [187, 217—223]. Практика выбора далай-ламы об-
щеизвестна. В качестве духовного лица, главы ламаистской
церкви, он почитался священной особой — перевоплощением ду-
ха бодисатвы Авалокитешвары. Согласно буддийским верова-
ниям, Авалокитешвара пребывал в этом мире для того, чтобы
направлять все живые существа по пути спасения. Поэтому со
смертью далай-ламы дух Авалокитешвары не покидал землю,
а переселялся в какого-нибудь по тем или иным соображениям
приглянувшегося ему ребенка. Как правило, ребенка обнаружи-
вали в определенных кругах общества. Так, по преданию, Далай-
лама III был сыном крупного тибетского чиновника, Далай-
лама IV происходил из монгольской княжеской семьи, Далай-
лама V родился в семье наместника провинции [52, 236—259],
Далай-ламу VI считают сыном Лхабсан-хана [188—373], а Да-
лай-лама VIII родился от сестры Панчен-ламы III и был двою-
родным братом халхаского иерарха [52, 265].
После того как ребенок становился далай-ламой, его семья
получала дворянское достоинство (если до того не имела тако-
вого) и становилась обладательницей наследственного титула
гуна. Разумеется, что сам далай-лама, несмотря на пребывание
в нем духа бодисатвы Авалокитешвары, не мог управлять госу-
дарственными делами по крайней мере вплоть до совершенно-
летия. Естественно, что это создавало возможность для «свято-
214
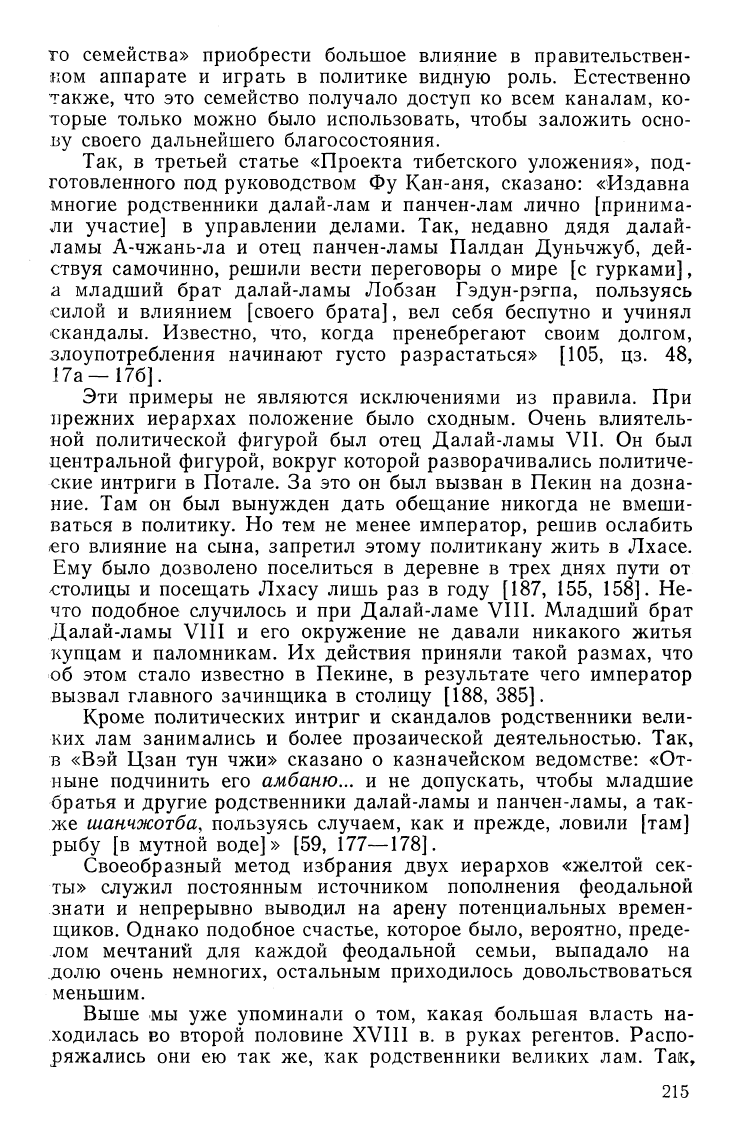
то семейства» приобрести большое влияние в правительствен-
ном аппарате и играть в политике видную роль. Естественно
также, что это семейство получало доступ ко всем каналам, ко-
торые только можно было использовать, чтобы заложить осно-
ву своего дальнейшего благосостояния.
Так, в третьей статье «Проекта тибетского уложения», под-
готовленного под руководством Фу Кан-аня, сказано: «Издавна
многие родственники далай-лам и панчен-лам лично [принима-
ли участие] в управлении делами. Так, недавно дядя далай-
ламы А-чжань-ла и отец панчен-ламы Палдан Дуньчжуб, дей-
ствуя самочинно, решили вести переговоры о мире [с гурками],
а младший брат далай-ламы Лобзан Гздун-рэгпа, пользуясь
силой и влиянием [своего брата], вел себя беспутно и учинял
скандалы. Известно, что, когда пренебрегают своим долгом,
злоупотребления начинают густо разрастаться» [105, цз. 48,
17а—176].
Эти примеры не являются исключениями из правила. При
прежних иерархах положение было сходным. Очень влиятель-
ной политической фигурой был отец Далай-ламы VII. Он был
центральной фигурой, вокруг которой разворачивались политиче-
ские интриги в Потале. За это он был вызван в Пекин на дозна-
ние.
Там он был вынужден дать обещание никогда не вмеши-
ваться в политику. Но тем не менее император, решив ослабить
его влияние на сына, запретил этому политикану жить в Лхасе.
Ему было дозволено поселиться в деревне в трех днях пути от
столицы и посещать Лхасу лишь раз в году [187, 155, 158]. Не-
что подобное случилось и при Далай-ламе VIII. Младший брат
Далай-ламы VIII и его окружение не давали никакого житья
купцам и паломникам. Их действия приняли такой размах, что
об этом стало известно в Пекине, в результате чего император
вызвал главного зачинщика в столицу [188, 385].
Кроме политических интриг и скандалов родственники вели-
ких лам занимались и более прозаической деятельностью. Так,
в «Вэй Цзан тун чжи» сказано о казначейском ведомстве: «От-
ныне подчинить его амбаню... и не допускать, чтобы младшие
братья и другие родственники далай-ламы и панчен-ламы, а так-
же
шанчжотба,
пользуясь случаем, как и прежде, ловили [там]
рыбу [в мутной воде]» [59, 177—178].
Своеобразный метод избрания двух иерархов «желтой сек-
ты» служил постоянным источником пополнения феодальной
знати и непрерывно выводил на арену потенциальных времен-
щиков. Однако подобное счастье, которое было, вероятно, преде-
лом мечтаний для каждой феодальной семьи, выпадало на
долю очень немногих, остальным приходилось довольствоваться
меньшим.
Выше мы уже упоминали о том, какая большая власть на-
ходилась во второй половине XVIII в. в руках регентов. Распо-
ряжались они ею так же, как родственники великих лам. Так,
215
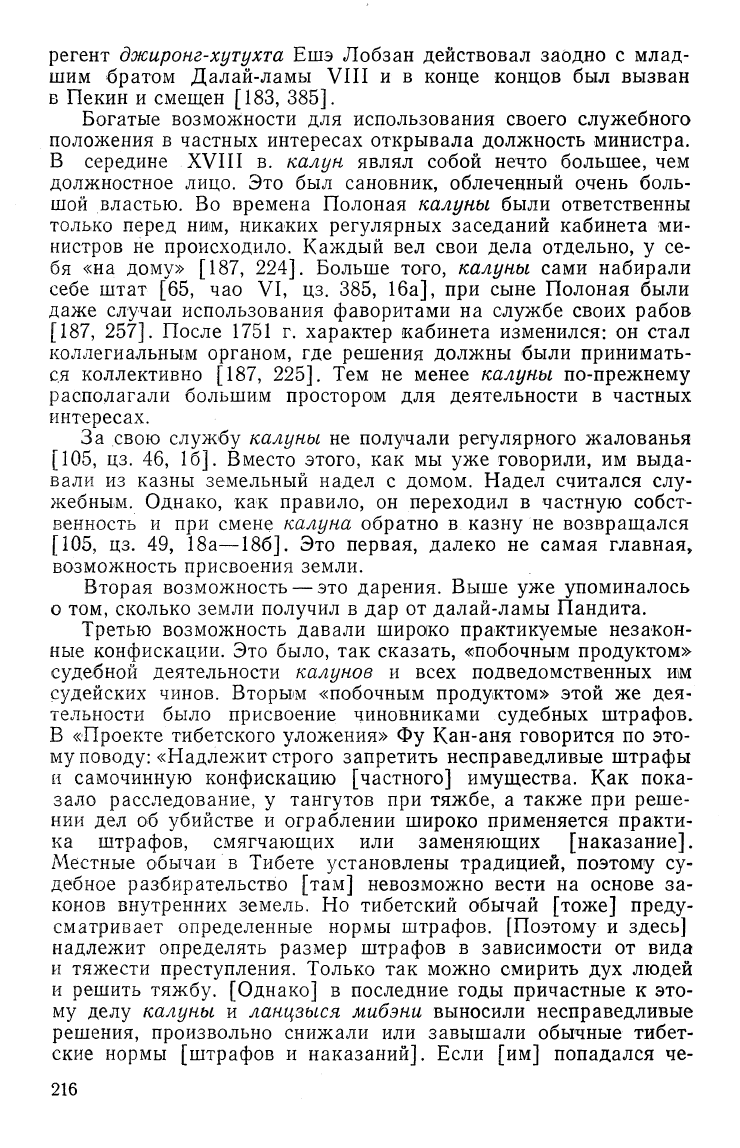
регент
джиронг-хутухта
Ешэ Лобзан действовал заодно с млад-
шим братом Далай-ламы VIII и в конце концов был вызван
в Пекин и смещен [183, 385].
Богатые возможности для использования своего служебного
положения в частных интересах открывала должность министра.
В середине XVIII в. калун являл собой нечто большее, чем
должностное лицо. Это был сановник, облеченный очень боль-
шой властью. Во времена Полоная калуны были ответственны
только перед ним, никаких регулярных заседаний кабинета ми-
нистров не происходило. Каждый вел свои дела отдельно, у се-
бя «на дому» [187, 224]. Больше того, калуны сами набирали
себе штат [65, чао VI, цз. 385, 16а], при сыне Полоная были
даже случаи использования фаворитами на службе своих рабов
[187,
257]. После 1751 г. характер кабинета изменился: он стал
коллегиальным органом, где решения должны были принимать-
ся коллективно [187, 225]. Тем не менее калуны по-прежнему
располагали большим простором для деятельности в частных
интересах.
За свою службу калуны не получали регулярного жалованья
[105,
цз. 46, 16]. Вместо этого, как мы уже говорили, им выда-
вали из казны земельный надел с домом. Надел считался слу-
жебным. Однако, как правило, он переходил в частную собст-
венность и при смене калуна обратно в казну не возвращался
[105,
цз. 49, 18а—186]. Это первая, далеко не самая главная,
возможность присвоения земли.
Вторая возможность
—
это дарения. Выше уже упоминалось
о том, сколько земли получил в дар от далай-ламы Пандита.
Третью возможность давали широко практикуемые незакон-
ные конфискации. Это было, так сказать, «побочным продуктом»
судебной деятельности калунов и всех подведомственных им
судейских чинов. Вторым «побочным продуктом» этой же дея-
тельности было присвоение чиновниками судебных штрафов.
В «Проекте тибетского уложения» Фу Кан-аня говорится по это-
му поводу: «Надлежит строго запретить несправедливые штрафы
и самочинную конфискацию [частного] имущества. Как пока-
зало расследование, у тангутов при тяжбе, а также при реше-
нии дел об убийстве и ограблении широко применяется практи-
ка штрафов, смягчающих или заменяющих [наказание].
Местные обычаи в Тибете установлены традицией, поэтому су-
дебное разбирательство [там] невозможно вести на основе за-
конов внутренних земель. Но тибетский обычай [тоже] преду-
сматривает определенные нормы штрафов. [Поэтому и здесь]
надлежит определять размер штрафов в зависимости от вида
и тяжести преступления. Только так можно смирить дух людей
и решить тяжбу. [Однако] в последние годы причастные к это-
му делу калуны и ланцзыся мибэни выносили несправедливые
решения, произвольно снижали или завышали обычные тибет-
ские нормы [штрафов и наказаний]. Если [им] попадался че-
216
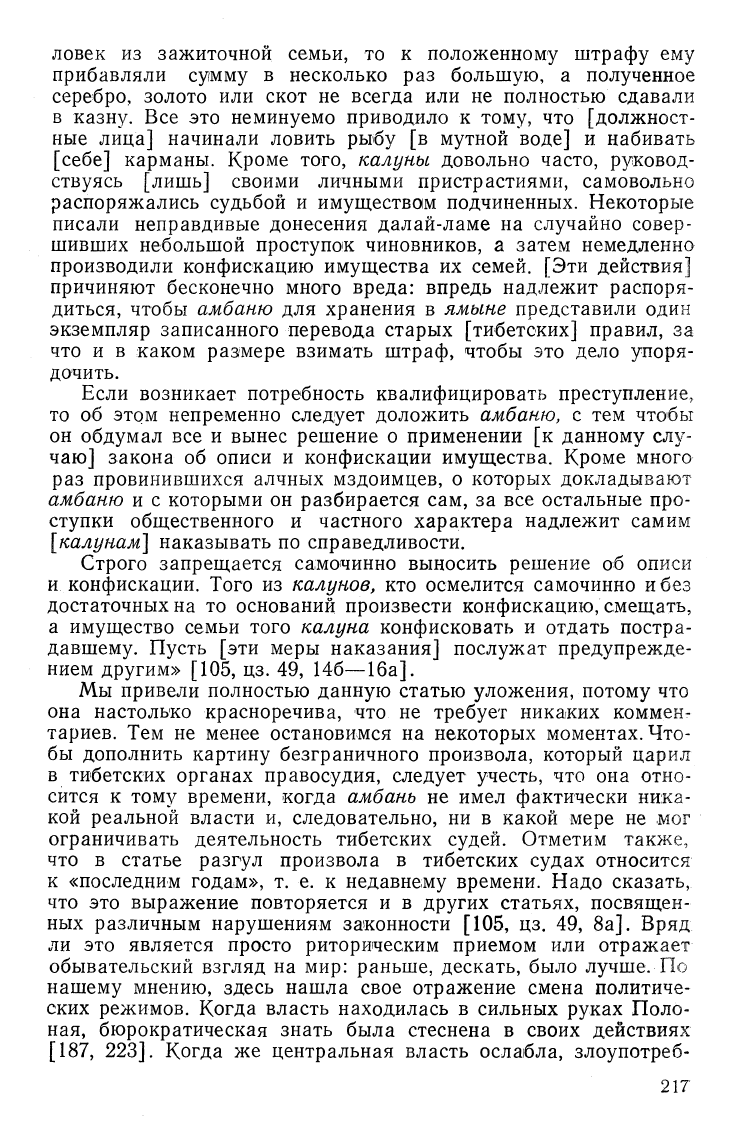
ловек из зажиточной семьи, то к положенному штрафу ему
прибавляли сумму в несколько раз большую, а полученное
серебро, золото или скот не всегда или не полностью сдавали
в казну. Все это неминуемо приводило к тому, что [должност-
ные лица] начинали ловить рыбу [в мутной воде] и набивать
[себе] карманы. Кроме того, калуны довольно часто, руковод-
ствуясь [лишь] своими личными пристрастиями, самовольно
распоряжались судьбой и имуществом подчиненных. Некоторые
писали неправдивые донесения далай-ламе на случайно совер-
шивших небольшой проступок чиновников, а затем немедленно
производили конфискацию имущества их семей. [Эти действия]
причиняют бесконечно много вреда: впредь надлежит распоря-
диться, чтобы амбаню для хранения в ямыне представили один
экземпляр записанного перевода старых [тибетских] правил, за
что и в каком размере взимать штраф, чтобы это дело упоря-
дочить.
Если возникает потребность квалифицировать преступление,
то об этом непременно следует доложить амбаню, с тем чтобы
он обдумал все и вынес решение о применении [к данному слу-
чаю] закона об описи и конфискации имущества. Кроме много
раз провинившихся алчных мздоимцев, о которых докладывают
амбаню и с которыми он разбирается сам, за все остальные про-
ступки общественного и частного характера надлежит самим
[калунам] наказывать по справедливости.
Строго запрещается самочинно выносить решение об описи
и конфискации. Того из калунов, кто осмелится самочинно и без
достаточных на то оснований произвести конфискацию, смещать,
а имущество семьи того калуна конфисковать и отдать постра-
давшему. Пусть [эти меры наказания] послужат предупрежде-
нием другим» [105, цз. 49, 146—16а].
Мы привели полностью данную статью уложения, потому что
она настолько красноречива, что не требует ника-ких коммен-
тариев. Тем не менее остановимся на некоторых моментах. Что-
бы дополнить картину безграничного произвола, который царил
в тибетских органах правосудия, следует учесть, что она отно-
сится к тому времени, когда амбань не имел фактически ника-
кой реальной власти и, следовательно, ни в какой мере не мог
ограничивать деятельность тибетских судей. Отметим также,
что в статье разгул произвола в тибетских судах относится
к «последним годам», т. е. к недавнему времени. Надо сказать,
что это выражение повторяется и в других статьях, посвящен-
ных различным нарушениям законности [105, цз. 49, 8а]. Вряд
ли это является просто риторическим приемом или отражает
обывательский взгляд на мир: раньше, дескать, было лучше. По
нашему мнению, здесь нашла свое отражение смена политиче-
ских режимов. Когда власть находилась в сильных руках Поло-
ная,
бюрократическая знать была стеснена в своих действиях
[187,
223]. Когда же центральная власть ослабла, злоупотреб-
217
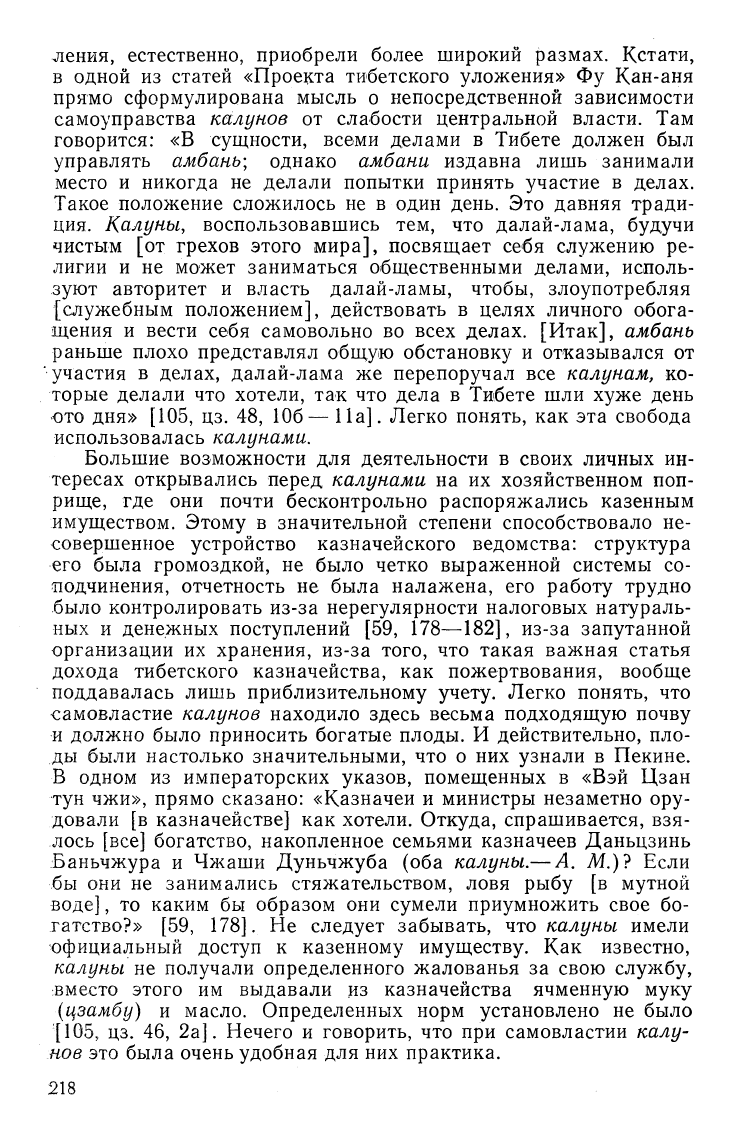
ления, естественно, приобрели более широкий размах. Кстати,
в одной из статей «Проекта тибетского уложения» Фу Кан-аня
прямо сформулирована мысль о непосредственной зависимости
самоуправства калунов от слабости центральной власти. Там
говорится: «В сущности, всеми делами в Тибете должен был
управлять амбань; однако амбани издавна лишь занимали
место и никогда не делали попытки принять участие в делах.
Такое положение сложилось не в один день. Это давняя тради-
ция. Калуны, воспользовавшись тем, что далай-лама, будучи
чистым [от грехов этого мира], посвящает себя служению ре-
лигии и не может заниматься общественными делами, исполь-
зуют авторитет и власть далай-ламы, чтобы, злоупотребляя
[служебным положением], действовать в целях личного обога-
щения и вести себя самовольно во всех делах. [Итак], амбань
раньше плохо представлял общую обстановку и отказывался от
•участия в делах, далай-лама же перепоручал все калунам, ко-
торые делали что хотели, так что дела в Тибете шли хуже день
ото дня» [105, цз. 48, 106— Па]. Легко понять, как эта свобода
использовалась калунами.
Большие возможности для деятельности в своих личных ин-
тересах открывались перед калунами на их хозяйственном поп-
рище, где они почти бесконтрольно распоряжались казенным
имуществом. Этому в значительной степени способствовало не-
совершенное устройство казначейского ведомства: структура
его была громоздкой, не было четко выраженной системы со-
подчинения, отчетность не была налажена, его работу трудно
было контролировать из-за нерегулярности налоговых натураль-
ных и денежных поступлений [59, 178—182], из-за запутанной
организации их хранения, из-за того, что такая важная статья
дохода тибетского казначейства, как пожертвования, вообще
поддавалась лишь приблизительному учету. Легко понять, что
самовластие калунов находило здесь весьма подходящую почву
и должно было приносить богатые плоды. И действительно, пло-
ды были настолько значительными, что о них узнали в Пекине.
В одном из императорских указов, помещенных в «Вэй Цзан
тун чжи», прямо сказано: «Казначеи и министры незаметно ору-
довали [в казначействе] как хотели. Откуда, спрашивается, взя-
лось [все] богатство, накопленное семьями казначеев Даньцзинь
Баньчжура и Чжаши Дуньчжуба (оба калуны.— А. М.)} Если
бы они не занимались стяжательством, ловя рыбу [в мутной
воде],
то каким бы образом они сумели приумножить свое бо-
гатство?» [59, 178]. Не следует забывать, что калуны имели
официальный доступ к казенному имуществу. Как известно,
калуны не получали определенного жалованья за свою службу,
вместо этого им выдавали из казначейства ячменную муку
(цзамбу) и масло. Определенных норм установлено не было
[105,
цз. 46, 2а]. Нечего и говорить, что при самовластии калу-
нов это была очень удобная для них практика.
218
