Лотман Ю.М., Живов В.М., Аверинцев С.С., Панченко А.М. и др. Из истории русской культуры. Том IV (XVIII - начало XIX века)
Подождите немного. Документ загружается.


жавнаго правления? не тот, чтобы у людей отнять естественную вольность: но чтобы
действия их направить к получению большего ото всех добра» (Радищев III, 15)
16
. В
случае, если государь обеспечивает всем членам общественного союза максимальное
благо, — он законный правитель, облаченный властью волею народа. Подобную
ситуацию «республиканской монархии» допускал и Руссо. Считая, что «<...> блюстители
исполнительной власти отнюдь не господа народа, а его чиновники <...>» (Руссо 1969,
226), он писал: «Чтобы правительство было законосообразным, надо, чтобы оно не
смешивало себя с сувереном, но чтобы оно было его служите-
16
Слова, выделенные курсивом, — цитата из «Наказа» Екатерины II, которую Радищев вмонтировал,
видимо, желая придать своей мысли цензурную неуязвимость.
67
лем: тогда даже Монархия есть Республика» (Руссо 1969, 178). Однако Радищев
прекрасно понимал, что подобная «республиканская монархия» легко может, в случае
отсутствия твердых гарантий народного суверенитета, превратиться в деспотию.
Вопрос, таким образом, упирался в гарантии. Радищев не признавал разделения
властей, равно как и идеи народного представительства. Несбыточность же для России
восстановления вечевой структуры он, видимо, также понимал. В этих условиях он
создает новую и оригинальную теорию: гарантией от деспотизма является сознание
народом своего суверенитета и готовность народа его защищать. Революция
трактуется Радищевым специфически: народ — хозяин общества — не может быть
мятежником. Мятежник, бунтарь — это носитель административной власти,
пытающийся обманом или насилием присвоить себе права суверенитета. В оде
«Вольность» народ обращается к царю:
„Преступник власти мною данной! „Вещай, злодей, мною венчанной, „Против меня восстать как
смел?
ч
:"'- (Радищев I, 5).
Радищев старательно выписывал из летописи случаи, когда князья целовали крест
народу, и в оде «Вольность» подчеркнул, что клятва народа царю — свидетельство из-
вращения общественного договора.
Таким образом, право народа на восстание и его готовность это право реализовать
гарантируют народный суверенитет от деспотизма администратора. Идея консти-
туирования революции как постоянного органа народной власти встречалась в
политических сочинениях XVIII века. О ней писал Монтескье в «Духе законов»
(Монтескье 1956, 306), ее же высказал гр. Вельегорский, записку которого о Польше
Руссо опубликовал в качестве предисловия к «Размышлениям о правлении Польши»:
«Ainsi, les insurrections memes avoient en Pologne une forme legate» (Rousseau
3*
68
VI, 211)
1
e
. Руссо был близок к мысли, что постоянное беспокойство — нормальное
состояние гражданского общества: «Нужно обращать менее внимания на внешнюю
тишину и на спокойствие начальников <...>. Мятежи, гражданские войны, весьма
тревожат правителей, но они не составляют подлинных бедствий для народов» (ср. Руссо
1969, 214)
17
. У Радищева эта бегло брошенная мысль превратилась в цельную и стройную
теорию. Однако перед Радищевым возникал и другой вопрос, так как подобная система
настоятельно требовала критериев того, соблюдается ли общественный договор или
народный суверенитет попран администрацией. И именно «гельвецианская», а не
«героико-аскетическая» мораль Руссо давала возможность сформулировать эти критерии.
Общество создается для максимального блага отдельного человека, следовательно, благо
человека, то, как общественный союз защищает права единицы, — показатель того,
сохранило ли оно первоначальный свой облик или превратилось в орудие деспотизма.
«Права единственныя <т. е., индивидуальные, „права человека" — Ю. Л.> имеем мы от
природы, закон определяет безбедное только оных употребление». (Радищев III, 12).
Такими правами объявлены «честь, вольность, или жизнь». К ним Радищев прибавляет

собственность, порождаемую уже гражданским состоянием, но также составляющую
неотъемлемую часть прав человека. «Отъявый единое из сих прав у гражданина, государь
нарушает первоначальное условие и теряет, имея скиптр в руках, право ко престолу»
(Радищев III, 15). Любопытно, что в главе «Спаская Полесть» после рассказа о
несправедливых преследованиях купца говорится, что в России отнимают безнаказанно у
безвинного человека «имение, честь, жизнь» (формула эта, дословно совпадающая с
приведенной выше, повторена дважды) и невозможно «достигнуть
16
Таким образом, самое восстание имело в Польше законный характер <перевод мой. — Ю. Л.>.
17
Даю в несколько уточненном переводе. — Ю. Л.
69
до слуха | верховныя власти» (Радищев I, 247). Следовательно, в России общественный
договор нарушен, и слуги народа превратились в его угнетателей. Поэтому спорным
представляется утверждение известного исследователя Г. П. Макогоненко, что описание
случаев насилия над отдельными людьми в первой части «Путешествия» — результат
«либеральных иллюзий» путешественника. Насилие над отдельным человеком для
Радищева — свидетельство порочности всей общественной системы в целом и дос-
таточное основание к тому, чтобы суверен — народ — отрешил от власти не
оправдавшую его доверия администрацию. Вряд ли будет справедливо отрицать
революционное содержание таких глав, как «Чудово».
Радищев сочувственно выписал мнение «судии Голь-ма»: «Бели человек заключается
властию не законною, то сие есть достаточная причина всем для принятия его в защиту
<...>. Когда свобода подданнаго нарушается, I то сие есть вызов на защиту ко всем
английским подданным» (Радищев III, 44). Именно так и происходит восстание в главе
«Зайцево». Здесь оскорблена, унижена одна крестьянская семья. Но это оскорбление стало
возможно потому, что угнетены все, и все поднимаются на ее защиту. Так родилась
стройная теория: проповедь «мужа тверда» при угнетении человека властью может
превратить случай единичного насилия в искру, поджигающую пламя народного гнева и
возвращающую общество к исходным справедливым основам. Пролить кровь вправе
только суверен — народ «в соборном своем лице». Право это не передоверяется
администрации.
Радищев не мог отбросить мораль, которая в основу свою клала защиту человеческой
единицы, потому что в обществе, основанном на откровенном насилии, именно защита
отдельного человека давала основание для наиболее революционных выводов. Он не мог
принять никакой идеи диктаторской власти общества над человеком, потому что в
русских условиях это неизбежно привело бы к оправданию правительственного насилия.
С этой точки зрения, нару-
70
шение индивидуальной свободы властью деспота и властью якобинской диктатуры
выглядели как явления одного порядка и узаконивали право на сопротивление.
Все отмеченное здесь и определило отношение Радищева к Великой Французской
революции.
Развитие общественно-исторических событий XVIII в., как в самой России, так и в
Европе, привело в конце XVIII в. к коренной перестройке всего литературного, эсте-
тического и — шире — идеологического здания. Масштабы ее были не меньшими, чем в
начале столетия. И, как и в отношении петровской эпохи, здесь можно говорить и о ко-
ренной ломке, и об органической связи.
Во Франции победа буржуазной революции повлекла за собой широкий пересмотр
просветительских идей, которые стали казаться схематическими и иллюзорными. В Рос-
сии борьба с феодальным порядком остается насущной задачей, поэтому демократические
идеи Просвещения сохраняют актуальность. Руссо остается «современником» не только
для Карамзина и Пушкина, но и для Толстого и Достоевского. Но Россия включена и в
общеевропейский опыт, и разочарование в идеалах XVIII в. глубоко затрагивает и ее.
Опять мы становимся свидетелями того, как две эпохи идей не сменяют друг друга, а

хронологически сосуществуют, образуя исключительно продуктивное в смысле
интеллектуального развития общества взаимное напряжение. И снова именно литература
становится ареной и генератором этого развития. Основным итогом его делается
выработка идеи историзма, сменившей и божественную, и договорную теории
происхождения общества и пересмотревшей взгляд на природу человеческой личности.
Интерес к истории не был специфической чертой какого-либо одного из направлений в
русской культуре
71
XVIII в. Значимым было другое — различие в природе этого интереса, специфика самого
содержания понятия «история». Здесь наблюдалось значительное разнообразие, и мы
допускаем ошибку, полагая, что всякий раз, когда в том или ином тексте нам встречаются
слова «история» или «исторический», речь идет об одном и том же объекте. Еще большую
ошибку допускаем мы, когда считаем, что этот объект идентичен тому, который мы
обозначаем этим же словом. Между тем каждый тип культуры не только отбирает те
факты и тексты, которые он считает «историческими»
18
, но и вырабатывает свое понятие
истории.
Понятие истории органически связано со всем комплексом основных структурных
принципов той или иной культуры. Одним из наиболее существенных при этом будет
концепция времени.
Историческое время XVIII в. линейно. Идея циклического времени Джамбаттиста Вико,
хотя и оказала частичное воздействие — через Вольнея — на Карамзина и, видимо, через
Гердера — на Радищева, все же заметной роли в историческом сознании русского XVIII
века не сыграла, и мы ее оставляем в стороне. Однако в пределах линейного времени
следует различать две концепции развития человечества. Первая рассматривает идеальное
состояние человечества как исходную точку, а всю дальнейшую историю — как рассказ
об ошибках и заблуждениях. С этой точки зрения, история рисуется как цепь трагических
происшествий, все более удаляющих- людей от исходного совершенства. Будущее в этом
случае предстает как конечная гибель или как возвращение к истокам. Путь человечества
как бы распадается на две половины траектории: первая — ложная — уводит от основ
природы Человека и Общества, вторая — возвращает к
18
Так, например, историческая память неспециалиста связывает с восстанием 14 декабря 1825 г.
пять жертв, казненных на рассвете 13 июля 1826 г. То, что на площади погибли 1271 человек (в
том числе 262 солдата мятежных полков, 903 человека «черни» и 19 «малолетних»), как это
следует из донесения С. Н. Корсакова, обычно не запоминается как факт «неисторический».
72
ним. Будущее и прошедшее в этом случае сливаются, а линейная траектория времени
замыкается в круг, и время останавливается.
Такая концепция с той или иной степенью последовательности разделялась большинством
просветителей. Исходя в своих рассуждениях из представления о врожденно доброй (или ни
доброй, ни злой, но готовой под влиянием общественного воспитания к тому и другому)
природе человека, они заключали, что ответственность за зло несет общество. Спасение
мыслилось как возвращение к системе, построенной на основах Природы и Философии.
Нельзя не отметить, что основная историософическая схема в данном случае совпадала во
многих чертах со средневеково-христи-анской концепцией. Там тоже предполагалось
исходное прекрасное состояние человека, затмившееся в дальнейшем в результате
первородного греха и повлекшее длинную цепь преступлений, именуемую историей.
Искупление первородного греха открывало, с точки зрения ряда мис-тико-утопических
учений средних веков (а в XVIII в. — убеждений масонов), возможность не только индивиду-
ального спасения, но и установления «царства божия на земле» — утопии повторения
исходного блаженства в прекрасном конечном состоянии человечества, отменяющем и
движение времени, и историю как таковую. Схема эта подвергалась последовательной
секуляризации, благая творящая сила передавалась Природе, а момент падения связывался с
цивилизацией, нарушением «общественного договора» или появлением собственности
(Мабли, «О происхождении неравенства» Руссо). Соответственно вера заменялась разумом:
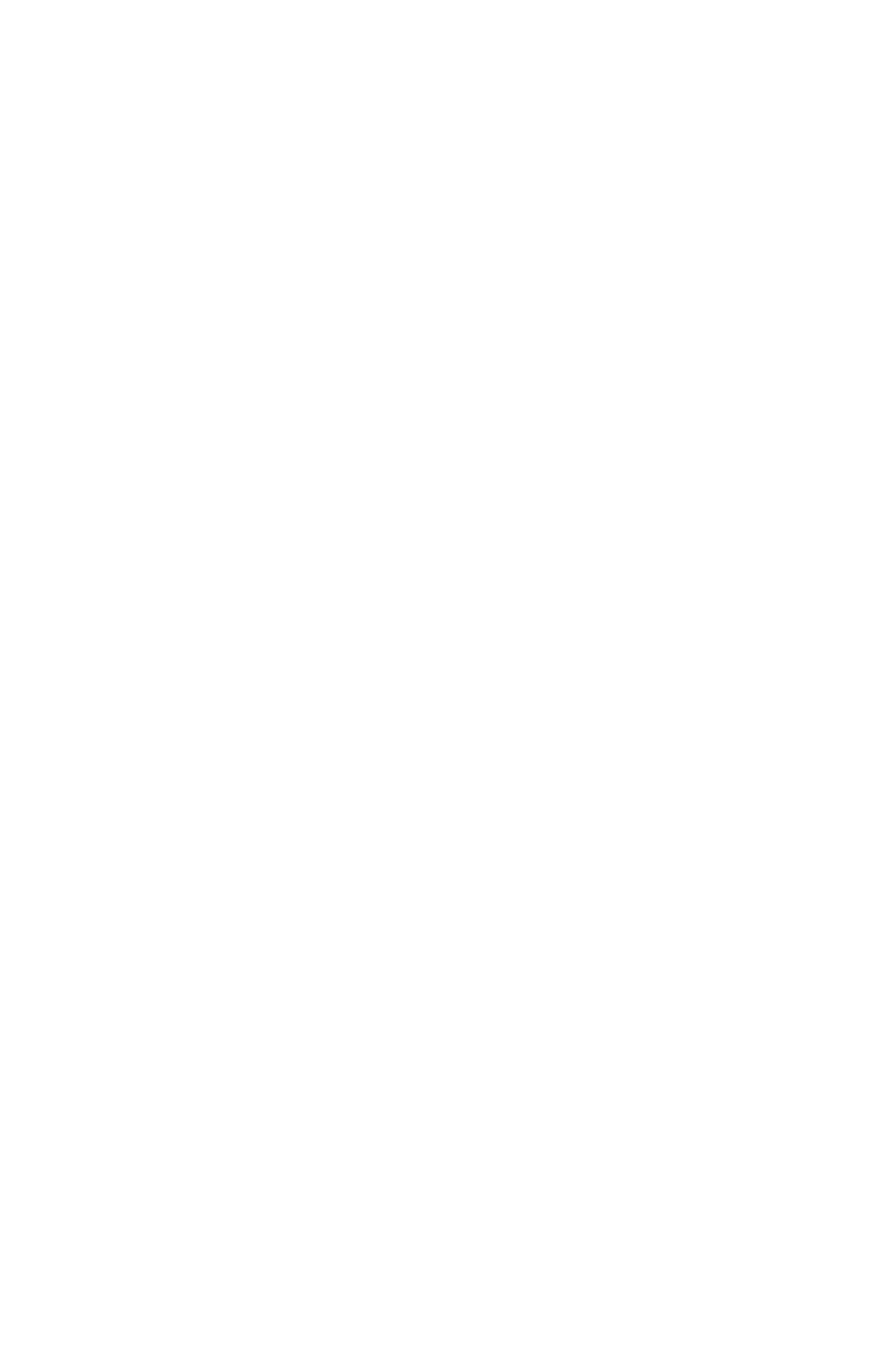
именно слабость Разума, невежество и простодушие человека Природы привели его к
грехопадению рабства. Спасение же должен был принести тот же Разум.
Очевидный «сюжетный» параллелизм не сближал, однако, а резко противопоставлял
христианскую и просветительскую концепции истории, превращая их в сознательных
антагонистов. Именно на этой основе строи-
73
лась в XVIII в. попытка полностью «человечески» мотивированной концепции истории.
Просветительская концепция допускала два варианта: «порча» исходно справедливого
общества могла мыслиться и как мгновенный и однократный акт, и как результат
многократных ошибок, вызванных «невежеством», исцеление социального зла рисовалось
одним в облике столь же мгновенного возрождения природных прав человека —
революции, другим — как следствие постепенного прозрения человечества под влиянием
Разума и Просвещения.
Из сказанного вытекает, что просветительская концепция истории допускала и
радикальное, и умеренное политические истолкования. Это общеизвестно. Несколько
более неожиданно то, что в конце XVIII в. она оказалась — особенно в руссоистском
варианте — совместимой с весьма правыми политическими идеями. В 1793 г. Карамзин в
статье «Нечто о науках, искусствах и просвещении» вынужден был выступить против
«невежд», которые «<...> под Эгидою славнаго Женевскаго Гражданина злословят
просвещение» (Карамзин III, 374).
Идеи, которые Карамзин в 1793 г. имел в виду, в ту пору еще только складывались,
оформление они получили в начале XIX столетия. На крайнем правом фланге
общественной мысли сложилась концепция, согласно которой история России
представлялась как последовательная смена исходного благополучия и последующей
«порчи». Гибельная цивилизация при этом отождествлялась с западным влиянием, а
момент «падения» — с петровской реформой. «Какое несчастье, что Петр Первый нас
обрил, а Шувалов заставил говорить нечестивым этим французским языком» — писал
Растопчин Цицианову (Тихонра-вов 1898, III (1), 366).
Однако Петр I находился вне критики как один из наиболее значительных государей
царствовавшей династии. Поэтому «архаисты» конца XVIII — начала XIX в., в отличие от
славянофилов, предпочитали отсчитывать
74
время «порчи» не от петровской реформы, а от момента «французской заразы» — с
середины XVIII столетия — и осуждать не европеизацию политического строя, не Пе-
тербург и «немецкую бюрократию» (как это делали славянофилы), а моды, щеголей и
«Кузнецкий мост». При этом перенесение акцента на моды, а не на бюрократию
приводило, в частности, к тому, что в центре обличения оказывалась Москва, а не
Петербург
19
.
В очевидном соответствии с основной концепцией истории находились и языковые идеи
Шишкова (см.: Лот-ман, Успенский 1975). Здесь также главенствует идея исходного
совершенства (языкового), а затем «порчи» под влиянием искажающих воздействий
извне
20
. Параллелизм между леворадикальной руссоистской концепцией и сознательно
антипросветительскими, «антифилософскими» идеями «архаистов» настолько очевиден,
что возникает существенный вопрос: как могла просветительская концепция, отчетливо
ориентированная на философские идеи XVIII в., совместиться с безусловно православным
и ортодоксальным характером воззрений «архаистов» типа Шишкова? В рамках
последних и «падение человека, и искупление его кровью Спасителя» имело вполне
определенный и не поддающийся метафорическому истолкованию смысл. Как же он
совмещался с изложенной выше культурологической концепцией?
Противоречие это было неразрешимо в пределах классических философских построений
XVIII в., исходивших в
19
Ср. в «Мыслях в слух на Красном крыльце» Растопчина одновременно отрицательный отзыв о московских
щеголях («отечество их на Кузнецком мосту, а царство небесное Париж») и обращение к «дубине Петра
Великого» для того, чтобы «выбить дурь из дураков и дур» (Растопчин 1853, 10—11).

20
Влияние идей Руссо на развитие консервативных и реакционных доктрин в России не изучалось, однако оно
представляет весьма интересную тему. Так, например, можно было бы показать связь между идеей военных
поселений и «Проектом конституции для Корсики» Руссо, в котором утверждалось: «<...> настоящее воспитание
солдата — обработка земли» (Руссо 1969, 261). Нет сомнений в том, что Александр I в пору своих
республиканских мечтаний внимательно читал этот трактат.
75
своих рассуждениях из отдельной человеческой личности как рациональной модели
человечества. Однако «архаисты» сделали значительный шаг вперед в сторону идей
романтического века, положив в основу своих рассуждений народ, нацию как некоторую
автономную и замкнутую в себе субстанцию, не разложимую механически на отдельных
индивидов, а являющуюся как бы индивидом высшего порядка. Такое представление
имело корни в идеях эпохи предромантизма. Истоки его можно усмотреть у Руссо в его
учении об обществе (народе) как целостном Организме, составляющем единую Личность
(«Об общественном договоре»), и в ряде высказываний Гердера, выдвинувшего понятие
«национального склада каждого народа», которое он связал с традицией, «культурой»
(обработкой земли) и просвещением и назвал «вторым рождением человека» (Гердер
1959, 233, 244).
Таким образом, согласно представлению «архаистов», начальным состоянием нации в
России было могущество, блеск, опирающиеся на чистоту нравов и верность традициям, а
затем наступило время «порчи», падения, связанное с искажением основ народного
характера, Решающее значение здесь придавалось языку как воплощению национального
начала (эта идея также имела предромантический характер). Порча языка непосредст-
венно связывалась с утратой веры и разложением нравов. Характерна игра слов, с
помощью которой Растопчин выразил представление о связи французского языка в рус-
ском быту с утратой веры и возвратом к язычеству. В автобиографии «Жизнь Растопчина,
списанная с натуры в десять минут» (характерен карамзинизм «натура»!) он писал: «Меня
обучали всякой мудрости и всем возможным языкам. Я стал язычником» (Растопчин 1853,
305, 315). Показательно, что в основном тексте, писанном по-французски (Растопчин
всегда думал по-французски, что точно и зло подметил в «Войне и мире» Толстой,
безошибочно уловивший в его сочинениях следы французских синтаксических
конструкций), последняя фраза отсутствует.
76
Особенно полно представления о языке как носителе национального начала были
развиты Шишковым. Последнее определило в условиях резкого повышения внимания
к этой проблеме, характерного для начала XIX столетия, сложность отношения
современников к идеям Шишкова. Даже после того, как лингвистическая
несостоятельность их была доказана, они вызывали сочувствие не только у
«архаистов» типа Грибоедова или Кюхельбекера, но и у Пестеля и даже Н. Тургенева
(Лотман, Успенский 1975, 177, 246—247), а такой убежденный карамзинист, как
Батюшков, записал о Шишкове: «Он прав, он виноват» (Батюшков 1977, 421).
Третий тип исторической концепции, представленный в текстах конца XVIII — начала
XIX в., отличался устремленностью в будущее: путь человечества представлялся как
непрерывное восхождение от начального несовершенства к будущему благу.
В основе здесь лежала идея усовершенствования человека, также уходящая корнями в
определенные философские течения XVIII в. Однако в данном случае речь шла о
концепции, противоположной просветительской: говорилось об исконном
несовершенстве (иногда даже эгоизме и порочности) природы человека и о
последующем улучшении ее под влиянием различных культурно-этических или
религиозных воздействий, а также дисциплинирующего влияния государства.
Представления эти характеризовали картезианскую мораль и этику Юма. Глубокое
воздействие оказали они и на этику русских масонов. Хотя официальная масонская
мифология (отчасти в целях самозащиты, отчасти добровольно заблуждаясь)
стремилась примирить свою концепцию с догмами православия, между ними имелись

два существенных расхождения во взглядах на судьбу человечества. Во-первых, в
воззрениях на природу человека масоны скорее были манихеями. «Ветхий Адам»
олицетворял в их представлениях исконную порочность человеческой натуры. Бели
для просветителя обращение чело-
77
века к совершенству мыслится как возвращение к истоку, то для масона оно приобретает
черты трудного и мучительного пути от истоков (метафоры «узкого пути», восхождения
на высокую гору, прохождения сквозь врата, то есть смерти в старом качестве и
возрождения в новом, распространенные в масонской среде, имели глубоко архаическую
основу и были повсеместно распространены в самых различных мифологических циклах).
Для просветителя возрождение — момент освобождения от внешней коры социальных
уродств, наслоившихся на благородную природу человека, для масона — процесс переро-
ждения сущности человека под благотворным влиянием самовоспитания и под мудрым
воздействием внешних руководителей, победа одной части души над другой.
Естественно, что просветительское преображение человека мыслилось по преимуществу
как мгновенное, поскольку оно было «естественным». Момент такого преображения, в
частности, запечатлел А. Иванов в картине «Явление Мессии». Он собрал на своем
полотне рабов и богачей, апостолов и грешников, иудеев и эллинов в момент, когда им
предстоит преобразиться в Людей как таковых. Не случайно процесс работы художника
был таков, что в обличий каждого из изуродованных и обезображенных рабов он скрыл
прообраз античного бога, а эскизы Христа делал с Аполлона Бельведерского (Лотман
1962а)
21
.
Однако, как мы видели, и просветительская модель обновления человечества могла
допускать постепенное освобождение плодотворного ядра от извращенной коры. Хотя
масонская идея преображения была ориентирована на длительный и трудный путь, в
определенных разновидностях она допускала чудо мгновенного изменения порочной
натуры человека. Однако это должно было быть именно чудо, поскольку оно совершалось
вопреки натуре человека (Христос Иванова был глубоко рационалисти-
21
Ср.: «В парном этюде рабов Иванов пытается одеть в плоть живого человека эти античные
головы; в одной из голов раба он даже сохраняет раздвоенный подбородок кентавра» (Алпатов I,
253).
78
чен, поскольку он лишь будил тот образ Бога, который был скрыт художником в глубинах
персонажей картины; в этом смысле он совершал не большее чудо, чем то, на которое,
например, надеялся Сен-Симон, обращаясь к своим современникам с проповедью «нового
христианства»). Подобно тому, как чудом алхимии московские розенкрейцеры 1780-х гг.
надеялись отменить гибельные законы экономики и уничтожить самое проблему бедности
и богатства, с помощью таинств гомункулуса они рассчитывали искусственно создать
лучшую породу человечества, смыкаясь с широким кругом утопических идей XVIII —
начала XIX в. Путь этот был в русском масонстве побочным, привлекающим лишь
единицы. Основная же масса русских масонов работала на поприще постепенного
просвещения и усовершенствования себя и рода человеческого.
Второе догматическое расхождение масонов с ортодоксальным православием,
расхождение, тщательно ими скрываемое, состояло в том, что как мыслители-утописты
они чаяли наступления грядущего совершенства в посюстороннем, земном мире. Именно
это было целью их «работы». Смыкаясь с учениями плебейских мистиков-утопистов XVII
в. типа Якова Беме или Ангела Силезского (весьма ими почитаемых), они жаждали
Царства Божия на земле. Это и было для них и конечной целью, и моментом окончания
истории.
Историософической концепции масонов многим был обязан Карамзин. Вместе с тем,
порывая со своими масонскими учителями, Карамзин изменял самую сущность идеи
прогресса. Масоны возлагали надежды на моралистическую проповедь и нравственное
воспитание человека. Карамзин, предвосхищая слова Достоевского о том, что «красота

спасет мир», связывал веру в будущий прогресс человечества с влиянием искусства на
нравы и характеры людей. Именно в искусстве человек делается человеком. Следующий
шаг Карамзин сделал как автор «Истории». Здесь «очеловечивание человека» достигалось
79
его погружением в триединое море культуры, красоты и истории. Именно в этой школе он
усвоил веру в прогресс и представление о культуре как о средстве улучшения людей.
Однако к тому моменту, когда Карамзин осознал себя профессиональным историком, в
его мыслях идея усовершенствования пережила значительную трансформацию. Он, как и
Шишков, заменил «философскую» идею XVIII в., согласно которой народ — сумма
отдельных людей, количественно умножающая свойства отдельного человека,
представлением о народе как «национальной личности», не расторжимой на единицы. Это
повлекло за собой мысль о том, что история — длительный путь восхождения народа к
нравственному усовершенствованию и «медленному одухотворению» (пользуясь более
поздним выражением И. С. Тургенева). Утопические настроения раннего Карамзина к
этому времени уже перегорели в огне скептицизма. Свирепые рыцарские утопии Павла I и
философские утопии якобинцев (Карамзин сближал реакционный и революционный
утопизм: «Что сделали якобинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в
отношении к самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оного»; в выражении о
Павле I: «<...> он начал господствовать всеобщим ужасом» (Карамзин 1914, 42))
22
заставили Карамзина навсегда усомниться в блистательных картинах конца исторического
движения. История рисуется ему бесконечным процессом, таинственные цели которого
скрыты от человека. Совсем в духе Л. Толстого периода «Войны и мира» Карамзин
записал однажды: «Мы все как муха на возу: важничаем и в своей невинности считаем
себя виновниками великих происшествий! — Велик тот, кто чувствует свое ничтожество
— пред Богом!» (Карамзин 1862, 197). Таким образом, история представала перед
Карамзиным как открытый и, с точки зрения отдельной личности, иррацио-
22
Слово «ужас», как и в карамзинских описаниях парижских событий, — калька французского
«террор».
80
нальный процесс. Отдельная личность переставала быть мерилом истории — им
становился народ.
Выделив человека как решающую единицу социо-исторических построений, XVIII век
обратил закономерное внимание на психологический механизм этой личности —
родилось учение о страстях, столь занимавшее публицистов «философского столетия».
Обращение к народу как единице истории столь же неизбежно поставило вопрос о
принципах национальной психологии. В 'этом случае «страсти» были заменены той
«тьмой» «<...> обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-
нибудь народу», которые, по словам Пушкина, дают ему «особенную физиономию»
(Пушкин XI, 40). Обычаи, которые в XVIII в. были относимы к порождениям невежества,
исчезающим при свете Разума, сделались предметом сочувственного внимания. С позиции
«архаистов» вопрос этот решался просто: обычаи, противостоя гибельной «философии»,
являются носителями национальной традиции. С этим был связан призыв: от моды к
обычаю!
Более сложным было положение Карамзина, убежденного в неотвратимости постоянного
поступательного движения во всех сферах жизни: в быту и языке, культуре и
нравственности (прошлое для него — все же «история веков варварства» <перевод мой. —
Ю. Л.>., как он писал Каподистриа) (Карамзин I, 134). В 1818 г., выступая с
торжественной речью в цитадели шишковизма — Российской Академии, Карамзин всю ее
посвятил идее непрерывности поступательного движения истории. В сфере языка он
отметил закономерность «перемен, необходимых по естественному, беспрестанному
движению, которое пресекается только в языке мертвом», в обществе — непрерывность
изменений лица культуры («вкус изменяется в людях и в народах»), сведя все к процессу
нравственного усовершенствования людей и народов: «<...> и жизнь наша, и жизнь

Империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой;
здесь все для дущи, все для ума и чувства<...>» (Карамзин III, 654).
81
Сочетание идеи прогресса с представлением о ценности традиции и обычая составляло
трудность, окончательное решение которой Карамзин так и не нашел. Одной из попыток
было противопоставление в человеке личного (человек как целое) национальному
(человек как часть). В первом отношении — к этой сфере Карамзин относил область
сознательного и рационального — человек более свободен от влияния «обычаев, поверий,
привычек», власть которых над ним проявляется бессознательно и независимо от его
индивидуальности (мысль, также близкая к толстовской!). «Сходствуя с другими
Европейскими народами, мы и разнствуем с ними в некоторых способностях, обычаях,
навыках, так, что хотя и не можно иногда отличить Россиянина от Британца, но всегда
отличим Россиян от Британцев: во множестве открывается народное», — говорил он в
том же 1818 г. (Карамзин III, 650) <курсив Карамзина. — Ю. Л.>.
Интересной в этом отношении была попытка перенести обычаи из сферы прошлого и
неподвижного в область постоянно меняющегося настоящего и будущего. Утверждая в
обращении к Александру I, что не конституция, а уклад жизни гарантирует народам
свободу, Карамзин призывал к утверждению правды в повседневном строе жизни: «Тогда
родятся обычаи спасительные; правила, мысли народный, который лучше всех бренных
форм удержат будущих Государей в пределах законной власти...» (Карамзин 1914, 48).
Соединение понятия «обычай» с представлением о чем-то, чему еще предстоит родиться,
показалось бы абсурдным не только Шишкову.
Вопросы о соотношении личного и надличностного в историческом движении, о силах,
которые стоят за кулисами исторического процесса, и многие другие не обсуждались в эту
пору с такой полнотой и страстностью, как в уже приближавшуюся эпоху романтизма.
Однако, упрощая наши представления о решении вопросов исторического развития в
сознании людей конца XVIII — начала XIX в., мы невольно обедняем и самое понятие
историзма.
ГЛАВА II
ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ XVIII ВЕКА
Целью настоящего очерка не может быть изложение в кратком виде тех общеизвестных
фактов литературной истории XVIII-ro столетия, которые в более распространенном виде
читатель может найти в доступных историко-литературных пособиях
1
. Различие
заключается не только в объеме, но и в том угле зрения, под которым рассматривается
материал. В историко-литературных трудах предметом рассмотрения обычно делается
история литературы, взятая как выделенный и самодостаточный объект исследования.
Отношение литературы к другим областям культуры переносится на периферию или
подменяется экскурсами в область связей художественной письменности с различными
сферами внелитературной жизни и отдельными искусствами. Поэтому место литературы в
культуре как целостном явлении, содержание самого Понятия «литература», вопросы
читательской аудитории, влияния литературы на социальную психологию эпохи и многие
другие остаются вне поля зрения исследователей. Исследователи уделяют значительное,
порой преувеличенное внимание таким понятиям, как «классицизм» или
«предромантизм», но редко обсуждают вопрос о том, были ли они реальностью для
писателей и их аудитории в XVIII в. или их следует рассматривать как элементы научного
языка современного литературоведения. Эти и многие аналогичные вопросы при
рассмотрении литературы как части культуры выдвигаются на передний план, и именно
их мы будем рассматривать в первую очередь.
1
См.: ИРЛ 1941, Ш, IV; ИРЛ 1958, I, П; ИРЛ 1980, I; Гуков-ский, 1939; Благой, I960. Основную
литературу см.: История русской литературы XVIII века. Библиографический указатель. Л., 1968.
^
84

2.1. Роль и место литературы в сознании эпохи
При первом же знакомстве с русской культурой XVIII столетия бросается в глаза то
высокое место, которое занимала в ней, по аксиологическим оценкам людей той
эпохи, литература. «Вакансия поэта» (Пастернак) представляется русским людям
(разумеется, тем общественным слоям, которые были непосредственно включены в
«новую», послепетровскую культуру) чем-то высоким, наделенным исключительным
общественно-культурным авторитетом. Особенно это делается заметным при
сопоставлении общественного престижа художественной словесности и других видов
искусств. В то время как быть актером, живописцем (не случайно слова «живописец»
и «художник», т. е. «ремесленник, работающий за деньги», скоро сольются семан-
тически), музыкантом, архитектором, с одной стороны, и профессором, академиком,
врачом, переводчиком — с другой, представляется унизительным
2
(эти сферы
культуры обслуживаются разночинцами, крепостными интеллигентами или
иностранцами, тоже разночинцами), поэт окружен ореолом общественного уважения,
и его культурное амплуа пользуется высочайшим престижем. Когда в начале XIX в. Ф.
П. Толстой избрал поприще профессионального художника, поступок его был
расценен как скандальный: «Обвинения на меня сыпались ото всюду», — вспоминал
он впоследствии. «Пе только все родные, (кроме моих родителей), но даже большая
часть посторонних, упрекали меня за то, что я первый из дворян, имея самыя короткия
связи со многими вельможами, мо-
2
Ср. у Баратынского:
Опрокинь же свой треножник! Ты избранник, не художник!
(Баратынский I, 224),
где художник — явно синоним к слову «ремесленник». Ср. также у Лескова: «тупейного дела
художник» — калька слова парикмахер.
85
гущими мне доставить хорошую протекцию, наконец, нося титул графа, избрал путь
художника <...>. Все говорили, будто бы я унизил себя до такой степени, что наношу бес-
честие не только своей фамилии, но и всему дворянскому сословию» (Толстой 1873, 126;
см. также: Ковалевская 1954). Драма Островского «Лес» демонстрирует, что подобное
отношение к призванию актера сохранялось еще во второй половине XIX века.
'-• • Когда в начале XIX века первый профессор-дворянин Г. Глинка взошел на
университетскую кафедру в Дерите, Карамзин сообщил об этом событии на страницах
«Вестника Европы» как о чем-то из ряда вон выходящем. Между тем занятие поэзией
воспринималось как нечто в высшей мере почетное.
. •/•-:• Высказывалось мнение, согласно которому высокий общественный престиж поэзии
в XVIII веке был связан с ее государственно-придворным положением и, якобы, типичен
для соотношения литературы и власти в эпоху абсолютизма, претендующего на
«просвещенность». С этим нельзя согласиться. Во-первых, писатель как исполнитель
придворных заказов ничем не отличался от пиротехника — устроителя праздничных
фейерверков, или паркового архитектора, равно как любого другого ремесленных дел
художника. Никаких прав на особое положение участие в дворцовых увеселениях ему не
давало. Во-вторых, литература XVIII в. очень рано начинает делать энергичные попытки
освободиться от придворной зависимости и превратиться в самостоятельную
общественную силу. И именно по мере осуществления этих попыток будет укрепляться
общественный престиж литературы. Уже при Екатерине II не покровительство двора или
того или иного вельможи будет придавать авторитет писателю и литературе в целом, а,
напротив, высокая общественная авторитетность литературы будет заставлять
правительство стремиться привлечь ее на свою сторону. Литература не будет нуждаться в
том, чтобы заимствовать свой авторитет у власти, — она сама будет власть.
86
Эта особенность положения литературы в общем контексте культуры, сложившаяся

именно в XVIII веке, столь важна и имела столь существенные последствия для будущего
русской литературы, что на ней следует остановиться подробнее.
Споры о том, была ли петровская эпоха действительно резким переломным моментом,
создавшим культуру, полностью оторванную от исторического прошлого Древней Руси,
или же на самом деле имел место постепенный переход, охвативший исторический период
протяженностью около ста лет, давно занимают историков. Однако для тех, кто изучает
самосознание эпохи, существенным представляется то, что думали люди той поры. Здесь
мы сталкиваемся с совершенно недвусмысленной картиной: и сторонники реформы, и ее
противники убеждены в том, что в результате бурного преобразования «вдруг» старый
порядок жизни был уничтожен, и на его обломках возникла новая реальность, полностью
противопоставленная старине.
Кантемиру виделся его современник, который
<...> Мудры не спускает с рук указы Петровы, Коими стали мы вдруг народ уже новый <...>
(Кантемир 1956, 75).
И «вдруг», и «новый» здесь в равной мере характерны. Миф о чудесном создании Петром
новой России энергично формировался и самим императором, и Феофаном Проко-
повичем, а затем для поколения Ломоносова, Сумарокова и Голикова из публицистики
превратился в историческую истину. Феофан Прокопович в трагедии «Владимир» про-
водил прозрачную параллель между новопросвещенным государством Владимира
Святого' и новым просвещением Петра Великого (см.: Лотман, Успенский 1982, 241).
Ощущение своей эпохи как новой связано было со стремлением противопоставить ее
предшествующей. Самосознание культуры начинается с противопоставления себя
87
своим истокам, и миф о себе начинается с мифологизации покинутого вчерашнего дня.
Прежде всего это выразилось в том, что пестрое и разнообразное культурное прошлое
России до Петра, прошлое, для которого, казалось, невозможно найти единые формулы,
было объявлено единым, застывшим, лишенным жизни и движения. Подобно тому, как
западноевропейские просветители создали тот образ средневековья, который сделался
потом достоянием научного и бытового сознания XIX в., петровская эпоха построила
концепцию Древней Руси как неподвижного, жестко организованного, изолированного от
всего мира, погруженного в церковность организма. Концепция эта опиралась на
определенные реальные черты русского средневековья, но жестко их абсолютизировала и,
главное, выделяла в прошлом лишь то, что могло быть контрастно противопоставлено
настоящему. Так сложилась антитеза слепой веры и пытливой мысли, государства
церковного и новой светской «регулярной» государственности («регулярность» включала
отождествление новизны с правильностью и рациональностью, а старины — со .всем
нелогичным и неправильным). С одной стороны, предшествующая жизнь представлялась
как строго упорядоченная, жестко, даже мертво организованная, исключающая для
отдельной личности возможность выявить себя. При этом упускалось из виду, что уже с
конца XVI в. русская земля страдала не от жесткости структуры, а от разрухи, сначала
спровоцированной бессмысленными крайностями самодержавного деспотизма при •Иване
Грозном, а затем принявшей характер мучительной Смуты. Если до этого человек, по
своей психологии и личностным качествам не укладывавшийся в рамки традиционного
порядка, должен был искать поприще на Дону, Волге или в Сибири, то во время Смуты ни
одному авантюристу не приходилось жаловаться на жесткость ограничивающих его
общественно-нравственных норм.
Однако господствовавшая в практической жизни разруха не создала своей идеологии. И
когда человек обра-
88
щался к миру духовных идеалов, он находил те же церковные ценности, которые
действительно строили сознание средневекового человека.
Человек петровской эпохи — «новый человек» — создавая свой культурный миф, склонен
был отождествлять эти традиционные идеалы с реальностью вчерашнего дня. Он начинал
