Левит С.Я. (сост.) Антология исследований культуры. Т 1. Интерпретации культуры
Подождите немного. Документ загружается.

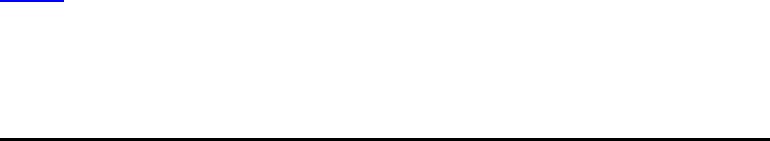
Можно также сказать, — и нередко говорилось, — что естественные науки имеют
возможность проводить эксперимент, тогда как мы такой возможности лишены. Но
можно сказать и о том, что эксперимент доступен не для всех наук, а если и доступен, то в
весьма ограниченной степени; более того, если даже мы и не имеем возможности
воспользоваться лабораторными исследованиями, тем не менее широкий спектр обществ,
открытых для наблюдения, и история институтов представляют нам эксперимент, хоть и
неконтролируемый. Кроме того, весомый элемент экспериментирования присутствует и в
нашей полевой работе. Бесспорно, можно привести и другие причины, заключающиеся, в
частности, в том, что сравнительный метод использовался в слишком неопределенных
целях, что объектом сравнения зачастую были обычаи, «вещи», а не количественные
отношения между качествами или свойствами. Чтобы адекватно изложить все это,
потребовалась бы отдельная лекция.
Однако эти трудности и недостатки, брать ли их по отдельности или все вместе, не дают
убедительного объяснения того, почему удалось осуществить столь мало из намеченного.
Не будет ли слишком дерзким (впрочем, двум смертям не бывать, а одной не миновать)
задаться вопросом, — если мы допускаем существование социологических законов,
которые мы ищем, допущение, столь долго принимавшееся на веру, — не представляют
ли собою социальные явления нечто совершенно отличное от тех, которые изучаются
неорганическими и органическими науками, настолько отличное, что ни сравнительный,
ни какой-либо другой метод не смогут привести нас к формулировке таких обобщений,
которые были бы со-
==676
Э. Эванс-Причард. Сравнительный метод в социальной антропологии
поставимы с законами этих наук. Нам приходится иметь дело с ценностями, чувствами,
целями, волей, разумом, выбором, а также со случайными историческими
обстоятельствами. Верно, что некоторые социальные процессы могут существовать вне
сознательного контроля и даже вне осознания, например языки (может быть, именно
поэтому научное изучение языка — как его истории, так и структуры, — отличается
большей точностью по сравнению с изучением других типов деятельности), но нельзя
сказать того же самого, к примеру, об организации армии, ее стратегии и тактике. Также в
значительной мере истинно и то замечание, высказанное Адамом Фергюсоном, что люди,
хоть и имеют всегда возможность выбора, тем не менее никогда не знают, к чему в
конечном счете этот выбор может их привести. То, что в делах человеческих будущее
точно предсказать невозможно, знает каждый. Открытия и решения завтрашнего дня,
которые будут играть свою роль в определении хода будущего развития, сегодня
неизвестны. Предвидеть их можно в лучшем случае только в общих чертах. То, что в
социальной организации заложены определенные ограничительные принципы, никто
отрицать не будет, однако внутри этих ограничений нет ничего неизбежного для развития
социальных институтов. Люди всегда могут выбирать, а если их решения оказываются
неудачными, то ничто не мешает им принять еще одно решение, чтобы исправить первое.
Отрицание этого означало бы не только игнорировать роль ценностей и чувств, но и
отрицание роли разума в социальной жизни. «Любезный Брут, не в звездах кроется
ошибка.» Исследуя природу социальных институтов, мы перешли из сферы естественного
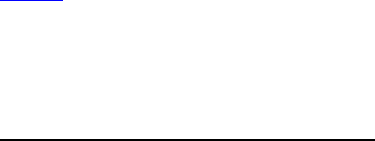
закона в сферу позитивного, если воспользоваться старым греческим отличием
естественной и моральной философии, которое Монтескье блестяще определил в
следующем высказывании: «Как физическое существо, человек, подобно прочим телам,
управляется неизменными законами. Как разумное существо, он постоянно нарушает
законы, установленные Богом, и изменяет те, которые установил сам»
12
.
У меня нет намерения говорить в этой лекции о том, какие цели, с моей точки зрения,
должна преследовать социальная антропология, каким образом она могла бы или должна
была далее развиваться, к чему когда-то в будущем она должна была бы прийти. Я хотел
лишь рассказать вам, какими были ее цели и как она развивалась на протяжении
последних двух столетий.
Какими бы ни были конечные результаты, я не считаю, что жизнь, посвященная изучению
примитивных образов
==677
Методы интерпретации культуры
жизни и способов мышления, — а в следующем году я отмечу 40 лет служения этой
задачи, — потрачена впустую. Я не считаю, что описание примитивных народов не
обладает само по себе высшей ценностью для понимания людей. Я ни о чем не жалею.
Вероятно, мне следует считать себя в первую очередь этнографом, а лишь потом только
социальным антропологом, ибо я глубоко убежден, что правильное понимание
этнографических фактов должно предшествовать всякому подлинно научному анализу.
Таким образом, хоть я и не могу разделить оптимизма моего учителя и друга профессора
Гинсберга, который, находясь под очарованием Хобхауса, считает, что в ближайшие лет
сто или около того социальные науки смогут
достичь прогресса, сопоставимого с
прогрессом биологических и даже физических наук, тем не менее мой пессимизм не
означает, будто, по моему мнению, следует прекратить поиск таких закономерностей,
которые могут быть установлены при помощи различных форм сравнительного метода.
Было бы крайне похвально, если бы нам удалось их найти. Если же нам это
не удастся, то
по крайней мере мы достигнем более глубокого понимания человеческого общества.
Примечания
' A. R. Radcliffe-Brown. The Comparative Method in Social Anthropology. The Huxley
Memorial Lecture, 1951 // Journal of the Royal Anthropological Institute. V. LXXXI,1952, p.
15-22.
2
Morris Ginsberg. Evolution and Progress, 1961, pp. 194-207.
3
R. H. Lowie. The History of Ethnological Theory, 1937, pp. 43-49.
4
E. A. Freeman. Comparative Politics, 1873, pp. 1, 302.

5
W. L. Westermann. The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity, 1955; M. I. Fmley
(ed.). Slavery in Classical Antiquity, 1960.
' L. Т. Hobhouse, G. C. Wheeler, M. Ginsberg. The Material Culture and
Social Institutions of the Simpler People. An Essay in Correlation, 1919
ed., p. 1.
7
Jack Goody. The Mother's Brother and the Sister's Son in West Africa
// Journal of the Royal Anthropological Institute. V. LXXXVIII, 1959, pp.
61-88.
8
A. L. Kroeber. History and Science in Anthropology // American Anthropologist. 1935, p. 561.
9
V. Propp. Morphology of the Folktale, 1958 (впервые опубликована на
русском языке: Пропп В. Морфология сказки. Л., 1928).
'" A. R. Radcliffe-Brown. The Comparative Method in Social
Anthropology, p. 16.
ч R. G. Collingwood. The Idea of History, 1946, p. 127.
12
Baron de Montesquieu. The Spirit of Laws, 1750, p. 4.
==678
Э. Эванс-Причард. Сравнительный метод в социальной антропологии
Библиография
R. G. Collingwood. The Idea of History, 1946. (Рус. пер.: Р. Коллингвуд. Идея истории. M.,
1980.)
F. Eggan. Social Anthropology and the Method of Controlled Analysis // American
Anthropologist. V. LVI, 1954, p. 743-763.
F. Eggan. Social Organization of the Western Pueblos. Chicago, 1950.
E. E. Evans-Pritchard. The Morphology and Function of Magic // American Anthropologist. V.
XXXI, 1929.
E. E. Evans-Pritchard. Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande. 1937.
A. Ferguson. An Essay on the History of Civil Society. Edinburgh, 1767. (Рус. пер.: А.
Фергюсон. Опыт истории гражданского общества. СПб., 1817.)
M. I. Finley (ed.). Slavery in Classical Antiquity. 1960.
E. A. Freeman. Comparative Politics. L., 1873.
M. Ginsberg. Evolution and Progress. L., 1961.
M. Gluckman. Kinship and Marriage among the Lozi of Northern Rhodesia and the Zulu of
Natal // African Systems of Kinship and Marriage. Oxford, 1950.
M. Gluckman. Order and Rebellion in Tribal Africa. L., 1963.
J. Goody. The Mother's Brother and the Sister's Son in West Africa // Journal of the Royal
Anthropological Institute. V. LXXXVIII, 1959, pp. 61-88.
L. T. Hobhouse, G. C. Wheeler, M. Ginsberg. The Material Culture and Social Institutions of the
Simpler Peoples. An Essay in Correlation. L., 1915.
C. Kluckhohn. Navaho Witchcraft. Papers of the Peabody Museum. Cambridge, 1944.
A. J. Kubben. New Ways of Presenting an Old Idea: the Statistical Method in Social
Anthropology. The Curl Prize Essay // Journal of the Royal Anthropological Institute. V.
LXXXI, 1952.
A. L. Kroeber. History and Science in Anthropology // American Anthropologist. V. XXXVII,
1935.
E. R. Leach. Review of Murdock's Social Structure // Man. 1950, No.169.
C. Levy-Strauss. Les Limites de la Notion de Structure en Ethnologic // Sens et Usages du
Terme Structure dans les Sciences Humaines et Sociales, 1962.
J. de Lint, R. Cohen. One Factor Magic: a Discussion of Murdock's Theory of Evolution //
Anthropologica. N.S.Z (I), 1960, p. 95-104.
R. H. Lowie. The History of Ethnological Theory. 1937.
Baron de Montesquieu. The Spirit of Laws, 1750. (Рус. пер.: Ш. Монтескье. Дух законов.
СПб., 1900.)
F. W. Moore (ed.). Readings in Cross-Cultural Methodology. New Haven, 1961.
G. P. Murdock. Correlations of Matrilineal and Patrilineal Institutions // Essays in the Science of
Society. 1937.
G. P. Murdock. Social Structure. N. Y., 1949.
G. P. Murdock. Evolution in Social Organization // Evolution and Anthropology: a Centennial
Appraisal. 1959, p. 126-143.

==679
Методы интерпретации культуры
R. Needham. Notes on Comparative Method and Prescriptive Alliance // Bijdragen T.-L.-& V.,
1962.
H. J. Nieboer. Slavery as an Industrial System. L., 2nd ed., 1910.
С, Popper. The Poverty of Historicism. L., 1957.
A. R. Radcliffe-Brown. The Mother's Brother in South Africa // South African Journal of
Science. V. XXI, 1924, p. 542-555.
A. R. Radcliffe-Brown. The Sociological Theory of Totemism // Fourth Pacific Science
Congress. Proceedings. Java, 1929.
A. R. Radcliffe-Brown. Religion and Society. The Henry Myers Lecture // Journal of Royal
Anthropological Institute. V. LXXV, 1945, p. 33-43.
A. R. Radcliffe-Brown. The Comparative Method in Social Anthropology. The Huxley Lecture
// Journal of the Royal Anthropological Institute. V. LXXXI, 1952, p. 15-22.
I. Schapera. Some Comments on Comparative Method in Social Anthropology//American
Anthropologist. V. LV, 1953, p. 353-362.
H. Spencer. Descriptive Sociology. L., 1873-1881. (Рус. пер.: Г. Спенсер. Описательная
социология. Киев, 1898.)
H. Spencer. The Principles of Sociology. 2 vols., 1882, 1883.
R. F. Spencer (ed.). Method and Perspective in Anthropology. Papers in Honor of Wilson D.
Wallis. Minneapolis, 1954.
F. Steiner. Review of Murdock's Social Structure // British Journal of Sociology. 1951.
S. R. Steinmetz. Ethnologische Studien zur ersten Entwicklung der Strafe. 2 vols. 1894.
E. B. Tyior. On a Method of Investigating the Development of Institutions; applied to Laws of
Marriage and Descent // Journal of the Anthropological Institute. 1889.
E. В. Tyior. Review of Steinmetz's Ethnologische Studien // The Academy. Jan., 1896.
W. L. Wcstermann. The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity. 1955.
Перевод В. Г. Николаева
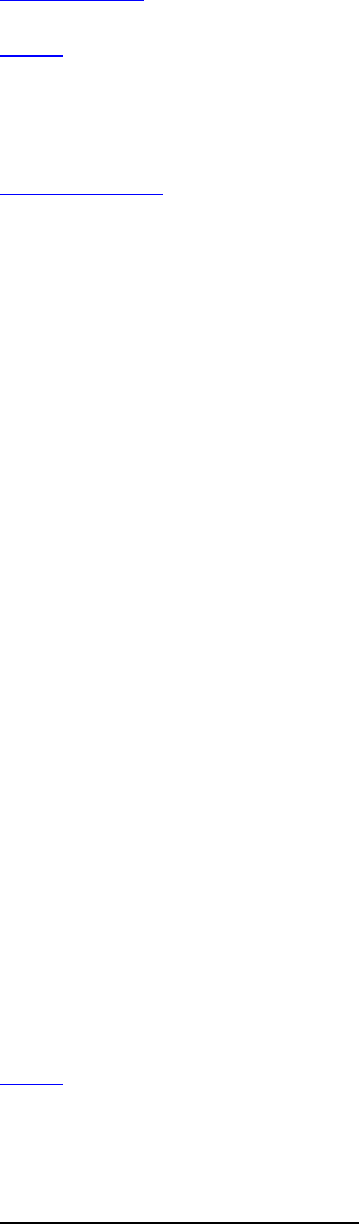
К оглавлению
==680
00.htm - glava33
Бронислав Малиновский. Функциональный анализ'
I. Эмбриология и акушерство
Функционализм как метод далеко не нов и уходит своими корнями в первые проблески
интереса к чужим — а следовательно, диким и варварским — культурам, интереса,
который можно обнаружить уже у греческого историка Геродота, французского
энциклопедиста Монтескье и немецкого романтика Гердера. Тот скромный вклад,
который я, возможно, внес, состоит в
том, что я выявил зачатки функционального анализа
в уже существующих доктринах, методах и интересах и окрестил их словом
«функционализм»; и даже трудясь над этой задачей, обращался в первой статье по
данному вопросу не менее чем к двадцати семи своим предшественникам. Таким образом,
я был для самой юной из антропологических школ чем-то вроде акушера и крестного
отца. Я и поныне продолжаю заниматься maieutike techne (искусством родовспоможения),
следуя в обучении молодых ученых антропологов традициям одного великого мудреца,
сравнивавшего свой труд с работой повивальной бабки. Еще один великий учитель
сформулировал девиз функционализма: «По плодам их узнаете их».
Функционализм в том виде, в каком он был представлен в разных антропологических
подходах, предназначен для того, чтобы дать ясное понимание природы культурных
феноменов, прежде чем они будут подвергнуты дальнейшим спекулятивным
манипуляциям. Какова природа человеческого брака и семьи, политической системы,
экономического предприятия и юридической процедуры? В чем состоит их культурная
реальность? Как возможно на основе этих фактов осуще-
' В. Malinowski. The Functional Tlieory//A Scientific Theory of Culture, and Other Essays.
Chapel Hill, 1944. P. 147-176.
==681
Методы интерпретации культуры
ствить такую индукцию, которая приведет нас к обоснованным научным обобщениям
9
Есть ли какая-нибудь универсальная схема, которая была бы применима ко всем
человеческим культурам, на которую можно было бы положиться в полевых
исследованиях и которую можно было бы принять в качестве системы координат для

сравнительного исследования, будь то исторического, эволюционного или просто
нацеленного на обнаружение общих закономерностей?
Когда в начале своей великой книги «Первобытная культурам Э. Б. Тайлор задался
вопросом, что есть религия в самом широком смысле слова, или, по его собственным
словам, когда он попытался дать «минимальное определение» этому понятию, он
действовал как настоящий функционалист. То же самое можно сказать о Робертсоне
Смите, считавшем, что понимание примитивных верований невозможно без
социологического их истолкования. Изначально функционалистскими предпосылками
руководствовался и Самнер в своих попытках анализа и классификации древних норм
поведения. Рассуждения Дюркгейма о примитивном типе разделения общественного
труда, анализ религии и магии также укладываются в рамки функционального метода.
Известная статья Тайлора, в которой он попытался соотнести различные аспекты родства
и экономической жизни древних народов; данное К. Бюхером определение примитивной
экономики и открытая им связь между трудом и ритмическим пением; работа Хаттона
Уэбстера и X. Шурца о возрастных градациях, секретных обществах, добровольных
ассоциациях и связи этих групп с политической, религиозной и экономической
структурой сообщества — все эти достижения являются функциональными. Я мог бы
добавить, что функциональными были и ранние полевые исследования, проведенные
такими этнографами, как Шарлевуа, Добрицхофер, Сехеган и Деппер. В этих
исследованиях рассматривались не только отдельные факты, но и связывающие их узы и
отношения.
Некоторые функциональные принципы неизбежно находят воплощение в любой
теоретической интерпретации культурных явлений, равно как и в любом компетентно
составленном отчете о полевом исследовании. Дабы не оказаться заподозренным в
неразборчивой благосклонности или даже в беспринципном эклектизме, я спешу
добавить, что в антропологии существуют как нефункциональные, так и
антифункциональные тенденции. Примером может служить полевой исследователь,
взгляд которого прикован исключительно к экзотическому и красочно-необычному.
Другой пример — это эволюционист, разрабатывающий теорию происхождения
==682
Б. Малиновский. Функциональный анализ
брака и семьи, но не обременяющий себя тем, чтобы провести хоть какое-то различие
между браком, временным сожительством и мимолетной сексуальной связью. Выбор
такого феномена, как классификационная система терминологии родства, рассмотрение
его как пережитка, ограничение исследования простой регистрацией фактов показывают
нам, как в результате игнорирования функционального анализа жизненно важных
языковых феноменов Морган на целые десятилетия завел антропологические
исследования в тупик. Гребнер, спеша заложить основы того, что он понимал как простой
всемирный диффузионизм, наспех провел анализ культуры — отчасти неверный, отчасти
пустопорожний — и тем самым разработал глупейшую форму антифункционального
подхода. Он начинает с того, что допускает возможность изъятия отдельных элементов из
их культурного контекста. Далее он определяет форму как нечто отдельное от функции.
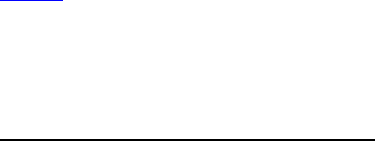
По сути, для него имеют значение лишь формальные качества объекта, никак не
связанные с его конкретным использованием и предназначением. Таким образом, для
Гребнера оказываются методологически уместными характеристики, для самой культуры
неподходящие.
Более того, он вводит понятие культурного комплекса, которое у него означает набор не
связанных друг с другом элементов. Я полагаю, что форма всегда определяется функцией,
и пока такая зависимость остается неустановленной, мы не можем оперировать
элементами формы в научных рассуждениях. Кроме того, в такой реальности, в которую
мы не можем ввести внутренне взаимосвязанные элементы, концепция не связанных друг
с другом элементов, на мой взгляд, бесполезна.
II. Общие аксиомы функционализма
Я полагаю, что весь опыт полевых исследований, равно как и внимательное изучение
подлинно важных проявлений организованного человеческого поведения, доказывают
достоверность следующих аксиом: А. Культура представляет собой, по существу,
инструментальный аппарат, благодаря которому человек получает возможность лучше
справляться с теми конкретными проблемами, с которыми он сталкивается в природной
среде в процессе удовлетворения своих потребностей.
Б. Это система объектов, видов деятельности и установок, каждая часть которой является
средством достижения цели
==683
Методы интерпретации культуры
В. Это интегральное целое, все элементы которого находятся во взаимозависимости.
Г. Эти виды деятельности, установки и объекты, организующиеся вокруг жизненно
важных задач, образуют такие институты, как семья, клан, локальное сообщество, племя,
а также дают начало организованным группам, объединенным экономической
кооперацией, политической, правовой и образовательной деятельностью.
Д. С динамической точки зрения, т. е. в зависимости от типа деятельности, культура
может быть аналитически разделена на ряд аспектов — таких, как образование,
социальный контроль, экономика, системы знаний, верований и морали, а также
различные способы творческого и артистического самовыражения.
Культурный процесс, в каком бы из конкретных проявлений мы его ни рассматривали,
всегда предполагает существование людей, связанных друг с другом определенными
отношениями, т. е. определенным образом организованных, определенным образом
обращающихся с артефактами и друг с другом при помощи речи или символики какого-
либо иного рода. Артефакты, организованные группы и символизм являют собою три
тесно связанных измерения культурного процесса. Какого же рода эта взаимосвязь?
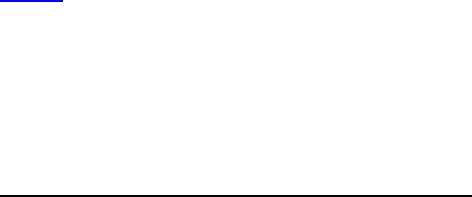
Обратив взор на материальный аппарат культуры, мы можем сказать, что каждый
артефакт представляет собой либо приспособление, либо какой-нибудь более
непосредственно используемый объект, т. е. принадлежит к классу потребительских благ.
В любом случае как конкретные особенности объекта, так и его форма определяются тем,
как он используется. Функция и форма связаны друг с другом.
Эта взаимосвязь сразу же обращает наше внимание на человеческий элемент, ибо
артефакт либо употребляется в пищу, используется в качестве материала или каким-
нибудь иным образом разрушается, либо производится с целью использования его в
качестве орудия. Социальная среда — это всегда человек или группа людей,
пользующиеся орудиями для решения технических (или экономических) задач,
проживающие под общей крышей и сообща употребляющие пищу, которую они
произвели или же добыли и приготовили. Практически ни один элемент материальной
культуры невозможно понять, если обращаться к одному только индивиду, ибо всюду, где
бы ни отсутствовало сотрудничество — а найти такие случаи нелегко, — существует по
меньшей мере один важный тип сотрудничества, заключающийся в продолжении
традиции. Умения и лежащие в их основе знания индивид может
==684
"•г
Б. Малиновский. Функциональный анализ
получить только от другого члена общества, ими уже обладающего; кроме того, он
должен получить или унаследовать от кого-то все материальное оснащение своей жизни.
Что есть форма и функция социальной реальности? Возьмем кровнородственные
отношения, близкое соседство или договор: мы имеем здесь двух или более людей,
которые ведут себя по отношению друг к другу стандартизированным образом и которые
неизменно делают это в соотнесении с какой-то частью культурно определенной среды и
в связи с какой-то деятельностью, в процессе которой происходит обмен предметами,
совершаются те или иные манипуляции с предметами и координируются движения
человеческих тел. Форма социальной реальности — не вымысел и не абстракция. Это
конкретный тип поведения, характерный для социальных взаимоотношений.
Точно так же, как физик и химик наблюдают движения тел, реакции веществ и изменения
в электромагнитном поле и регистрируют типичное повторяющееся поведение материи,
силы и энергии, так же и полевой исследователь должен наблюдать повторяющиеся
ситуации и действия и регистрировать присущие им правила или паттерны. Можно было
бы представить множество разных кинофильмов о поведении родителей, показывающих
технологию ухода за детьми, их воспитание и обучение, ритуалы, а также повседневные
мелочи, в которых находят выражение и стандартизируются чувства, существующие
между отцом, матерью и детьми. Если мы обратимся к поведению, скованному жесткими
ограничениями, свойственному, например, религиозным церемониям, судебным
процессам, магическим ритуалам и технологическим операциям, то смонтированный и
озвученный фильм даст нам объективное определение формы социальной реальности.
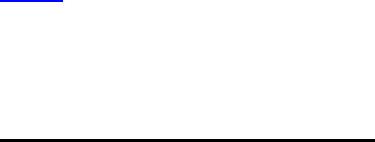
Здесь мы можем выделить первый теоретический момент, состоящий в том, что при таком
объективном представлении социологических данных нельзя провести резкой границы
между формой и функцией. Функцией супружеских и родительских отношений является,
разумеется, определенный культурой процесс продолжения рода. Формой же этого
процесса в каждой конкретной культуре является тот способ, каким он осуществляется;
этот процесс может принимать различные формы в зависимости от методов
родовспоможения, ритуала кувады, родительских табу, правил изоляции, обрядов
крещения, а также того, как ребенка обеспечивают защитой, кровом, одеждой, пищей и
содержат в чистоте.
Второй теоретический момент заключается в том, что невозможно выделить в чистом
виде материальный аспект соци-
==685
Методы интерпретации культуры
ального поведения и проанализировать социальную реальность в отрыве от ее
символических аспектов. На каждом этапе анализа обнаруживаются все три измерения
культурной реальности. Немой фильм содержал бы только часть информации, как то
символизм, запечатленный в ритуальных жестах, оснащении священнодействий, в знаках,
исполненных символического значения, и согласованных движениях, выполняемых
участниками. Важнейшим аспектом символизма является, конечно же, вербальный, и мы
знаем, что неотъемлемой частью эмпирического материала, собираемого полевым
исследователем, является обширное параллельное толкование фактов, не обязательно
содержащееся в самом поведении.
Как связаны в символизме форма и функция? Если бы нам удалось выделить простую
фонетическую реальность слова или какую-нибудь иную традиционную характеристику
материального символа
, заключенного в жесте, то могло бы показаться, что связь между
формой и функцией здесь чисто искусственная. А так как символизм есть не что иное, как
развитие традиционных действий, нацеленное на координацию совместного
человеческого поведения, то связь между формой и функцией здесь явно искусственна и
условна. Символ — это условный стимул, который
связан с поведенческой реакцией лишь
процессом обусловливания. В ходе полевой работы этот процесс должен быть
неотъемлемым компонентом исследования. С другой стороны, содержание ситуации
неизменно приоткрывает связь функции символического акта, будь то вербального или
двигательного, с определенными физическими процессами, управляемыми биологической
причинностью.
Осмелюсь утверждать, что форма в символизме, — это не слово, вырванное из контекста,
не сфотографированный жест и не орудие труда, выставленное на всеобщее обозрение в
музее, а такой элемент, который, как становится ясно из его динамического исследования,
играет роль катализатора человеческой деятельности, т. е. служит таким стимулом,
который приводит в действие рефлекторную цепочку и вызывает ответную
эмоциональную и мыслительную реакцию. В форме военной команды «огонь!» заключено
все исполнение в целом, все поведение, выполняемое в ответ на команду, — иначе
