Левит С.Я. (гл. ред.) Культурология. XX век. Энциклопедия. Том 1
Подождите немного. Документ загружается.


61
В.П. Большаков
БЕЙТСОН (Bateson) Грегори (1904-1980) - амер. ученый, внесший своими междисциплинарными исследованиями значит, вклад в
антропологию, психологию, психиатрию, биологию, теорию коммуникаций и эпи-стемологию и оказавший огромное влияние на эти
науки. Получив образование в Кембридже, он переехал в США и получил амер. гражданство. Первая его работа, “Naven” (1936),
написанная на основе этногр. исследования, проведенного им в Новой Гвинее совместно с М. Мид (его первой женой), продолжала
традиции школы “культура и личность”, но вместе с тем отличалась новаторским подходом и оригинальностью. В этой работе были
использованы в новом прочтении понятия “этос” и “эйдос”, впоследствии нашедшие широкое применение в амер. культурной ан-
тропологии. Под “этосом” понималось особое, присущее конкр. культуре эмоц. восприятие мира, обеспечивающее связность и со-
гласованность принятой в ней системы верований;
под “эйдосом” — особый принцип, обеспечивающий согласованность ее системы ценностей. В этой же работе было введено поня-
тие “схизмогенеза”, обогатившее концептуальный аппарат амер. антропологии. Под “схизмогенезом” имелся в виду процесс, со-
стоящий в том, что в группе под влиянием социального и языкового взаимодействия возникает внутр. напряжение, к-рое, накапли-
ваясь, приводит ее к распаду на подгруппы, придерживающиеся разл. систем истолкования мира. Следующей работой, написанной
Б. в соавторстве с М. Мид и принесшей ему достаточно широкую известность, была книга “Балийский характер” (1942), построен-
ная на материале совместно проведенного ими полевого исследования на о. Бали (Индонезия). Эта работа представляла собой фото-
исследование; в ней обосновывалась возможность использования в этнографии метода фото- и киносъемок и было продемонстриро-
вано блестящее практич. применение этого метода. Многие из критиков сошлись во мнении, что данная работа представляет собой
редкий образец союза науки и эстетики.
В 50-е гг. Б. отошел от антропол. проблематики и работал в составе исследоват. группы, занимавшейся изучением природы и гене-
зиса шизофрении. Рез-том этой работы стала получившая широкую известность и вызвавшая большой резонанс в об-ве гипотеза
“двойного зажима”, состоявшая в том, что шизофрения порождается опр. особенностями коммуникации в семье. Ребенок, регулярно
получающий от родителей или других значимых фигур внутренне противоречивые сообщения (или сигналы), попадает в ситуацию
“двойного зажима”, когда все, что бы он ни делал, заканчивается для него наказанием; вследствие этого у него не формируются ме-
такоммуникативные навыки, т.е. способность к различению логич. типов, отсутствие к-рой является осн. характерной особенностью
коммуникации при заболевании шизофренией.
Со вт. пол. 50-х гг. Б. сосредоточивает усилия на изучении метакоммуникации, придавая ему неожиданное для того времени расши-
рение. Предметом спец. исследований становится метакоммуникация у животных, в частности коммуникативные аспекты игрового
поведения (ст. “Сообщение “Это игра”, 1956). Исследования шизофрении и игровых форм конфликта у животных привели Б. к глу-
боким прозрениям о роли метафоры в коммуникации.
В к. 60-х гг. Б. предпринял попытку синтезировать рез-ты своих исследований. Итогом этого синтеза стала наиболее важная его ра-
бота “Ступени к экологии разума” (1972), содержащая очерки по проблемам эпистемологии, теории систем, экологии и т.д.
Работы Б. оказали большое влияние на многие области научного знания и до сих пор во многом сохраняют свою актуальность.
Соч.: The Message “This Is Play” // Group Processes / Ed. by B. Schaffner. N.Y., 1956; Balinese Character (with M. Mead). N.Y., 1942;
Naven. Stanford, 1958; Communication: The Social Matrix of Psychiatry (with J. Ruesch). N.Y., 1968; Steps to an Ecology of Mind. San
Francisco, 1972; Mind and Nature: A Necessary Unity. N.Y., 1979;
Бейтсон Г., Джексон Д., Хейли Дж., Уикленд Дж. К теории шизофрении // Моск. психотерапевтич. журн. 1993. N 1,2.
Лит.: Lipset D. Gregory Bateson: The Legacy of a Scientist. Englewood Cliffs (N.Y.), 1980.
В. Г. Николаев
БЕЛЛ (Bell) Дэниел (р. 1919) — амер. политолог, социолог и футуролог. Окончил колледж в Нью-Йорке, изучал социологию в Ко-
лумбийском ун-те. В 1940-60 занимался в основном журналистикой, одновременно преподавал социальную науку в колледже Чикаг.
ун-та (1945-48), читал лекции по социологии в Колумбийском ун-те (1952-56). В этот период Б. написал более 400 статей, посвя-
щенных в основном политике, проблемам экономики, изменениям в классовой и проф. структуре об-ва, усилению влияния крупного
капитала и расширению функций гос. управления. Ряд эссе были объединены в книге “Конец идеологии” (1960), рассматривающей
социальные изменения в Америке 50-х гг. В ней он выступил как один из основателей концепции деидеологизации, к-рую обосно-
вывал затуханием социальных конфликтов и возникновением в рамках зрелого индустриального об-ва общенац. согласия интересов,
а также сотрудничеством интеллигенции с институтами экон., полит, и гос. власти. В 70-х гг. под впечатлением движения новых
левых Б. признал, что его предсказания “конца идеологии” не оправдались, и подчеркнул социальную значимость идеологии, осо-
бенно религии. Первый период ознаменовался переходом Б. от проблем социализма к социологии. Второй период своей жизни Б.
посвятил академич. карьере: в 1959-69 он — проф. социологии Колумбийского ун-та, с 1969 — Гарвардского. Его гл. интерес в этот
период состоял в переработке социол. теории.

62
Б. решительно отказывается от господствующего в совр. социальных науках воззрения на об-во как на целостную систему отноше-
ний. Для него неприемлемо ни марксистское понимание целостности обществ, системы на основе технико-экон. детерминизма, ни
функционалистское (от Дюркгейма до Парсонса) — на основе господствующих ценностей. С его т.зр., об-во состоит из трех незави-
симых друг от друга сфер: социальной структуры (прежде всего технико-экон.), полит, системы и культуры. Эти сферы управляются
разл. и противоречащими друг Другу “осевыми принципами”: экономика — эффективностью, полит, система — принципом равен-
ства, культура — принципом самореализации личности. Для совр. капитализма, считает Б., характерно разобщение этих сфер, утра-
та прежнего единства экономики и культуры. В этом он видит источник противоречий и социальных конфликтов в зап. об-ве по-
следних полутора столетий.
Во вт. пол. 60-х гг. Б. наряду с рядом ведущих зап. социологов занимался разработкой теории постиндустриального об-ва, для к-рого
характерны преобладание занятости в разл. сферах обслуживания и духовного производства, переориентация экономики и культуры
на удовлетворение преимущественно культурных потребностей, новый принцип управления (меритократия), позволяющий устра-
нить бюрократию и технократию (благодаря избранию на руководящие посты лиц в зависимости от их заслуг и способностей), а
также изменить классовую структуру об-ва в целом. В книге “Становление постиндустриального об-ва” (1973) Б. обосновывал про-
гноз трансформации капитализма под воздействием НТР в новую социальную систему, свободную от социальных антагонизмов и
классовой борьбы.
В следующей своей книге “Противоречия капитализма в сфере культуры” (1976) Б. обратился к процессам, происходящим в области
культуры и полит, жизни. Культуру он понимает как сферу, в к-рой осуществляется уяснение и выражение значения человеч. суще-
ствования в образных формах — в живописи, поэзии, лит-ре, религии. По своему содержанию культура имеет дело с экзистенци-
альными ситуациями смерти, трагедии, долга, любви и т.п. Культура изменяется иначе, чем технико-экон. сфера. Ей чужды посту-
лат., линейные изменения, новое не сменяет старое (как это происходит в области техн. прогресса), а происходит расширение со-
держания того культурного хранилища, к-рым располагает человечество.
Б. стремится показать, что у совр. капиталистич. экономики и у авангардизма, как преобладающей формы культуры, общим истоком
является отрицание прошлого, динамизм, стремление к новизне. Однако этим сферам об-ва свойственны разные “осевые принципы”
(в технико-экон. сфере личность сегментируется на выполняемые ею “роли”, а в культуре упор делается на формирование цельной
личности), что приводит к острому конфликту между экон. системой капитализма и его модернистской культурой. К тому же бюро-
кратич. система в экономике приходит в столкновение с принципами равенства и демократии в политике. Налицо противоречия в
фундаментальных структурах совр. об-ва: помимо них каждой сфере об-ва присущи свои собств. противоречия.
В эссе “Возвращение сакрального? Аргумент в пользу будущего религии” (1980) Б. указывает на несостоятельность утверждений
просветителей к. 18—сер. 19 в. об исчезновении религии в 20 в. и подвергает критике понимание секуляризации в совр. социологии.
Исходя из своей методол. посылки (“изменения в сфере культуры происходят совершенно иначе и развиваются совершенно иным
путем, чем в социальной сфере”), Б. упрекает социологов в том, что они рассматривают секуляризацию в качестве целостного про-
цесса, тогда как следует различать в нем две стороны: изменение институтов (церкви) и изменение идей (религ. доктрин). Говоря о
необходимости рассматривать изменения религии на двух уровнях — социальной структуры и культуры, Б. фактически приходит к
выводу о системном, разно-плановом строении религии как социального явления. Он предлагает применять понятие “секуляриза-
ция” только к изменению институтов (уменьшению влияния церкви), а в отношении изменения идей использовать понятие “профа-
нация”. Т.о., изменение религии на социальном уровне описывается понятиями “сакральное и секулярное”, а на культурном уровне
— “святое и профанное”.
В сб. эссе 1980 “Извилистый путь” и “Социол. путешествия” Б. анализировал также проблему взаимоотношений неконформистской
личности с социальными институтами совр. об-ва.
Свои социально-полит, воззрения Б. неоднократно резко менял. В 1932 в 13-летнем возрасте он вступил в ряды Молодежного со-
циалистич. движения, в к. 30-40-х гг. принимал активное участие в леворадикальном движении, увлекался “оппортунистич.” верси-
ей марксистского социализма, распространенного тогда в США, был сотрудником и одним из издателей журнала “New Leader”
(1941-45), а затем “Fortune” (1948-58), написал монографию “Марксистский социализм в Соединенных Штатах” (1952). В нач. 50-х
гг. перешел на позиции либерального реформизма, сделался сторонником проведения обширных социальных реформ (в 1965 воз-
главил Комиссию 2000 года при Амер. академии искусств и наук), стал признанным теоретиком неолиберализма. В сер. 70-х гг. Б.
примыкает к неоконсерватизму, а редактируемый им вместе с И. Кристолом журнал “The Public Interest” становится ведущим орга-
ном этого движения. В пер. пол. 80-х гг. Б. получает признание в качестве наиболее видного идеолога амер. неоконсерватизма. В
последние годы Б. призывает к укреплению полит, устоев в духе либерализма, осуждая крайности “консервативного мятежа” против
современности.
Соч.: The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. N.Y., 1973; The Cultural Contradiction of Capitalism. N.Y.,
1976; Sociological Journeys: Essays 1960-80. L., 1980; The Social Sciences since the Second World War. New Brunswick; L., 1982; The
End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the fifties. Camb.; L., 1988; Третья технологич. революция и ее возможные со-
циоэкон. последствия: Реферат. М., 1990.
Лит.: Вольфсон Л.Ф. Теория постиндустриального об-ва Дэниела Белла: Обзор. М., 1975; LiebowitzN. Daniel Bell and the Agony of
Modern Liberalism. Westport; L., 1985.
Е.Г. Балагушкин
63
БЕЛЫЙ Андрей (БУГАЕВ Борис Николаевич) (1880-1934) — поэт и прозаик, лит. критик, теоретик рус. символизма, религ. фи-
лософ. В 1903 окончил естеств. отделение физико-мат. ф-та Моск. ун-та, с 1904 посещал лекции на филол. ф-те (до 1906). На фор-
мирование будущего поэта и мыслителя оказали влияние очень разнородные явления культуры: в лит-ре — Гёте, Гейне, Ибсен, Дос-
тоевский, Гоголь, совр. франц. и белы. поэзия (символистской направленности); в музыке — Шопен, Шуман, Бетховен, Бах, Григ,
Вагнер, Ганслик;
в философии — Платон, Бэкон, Лейбниц, Кант, Шопенгауэр, Милль, Спенсер; в естествознании — Декарт, Ньютон, Дарвин, Ост-
вальд, Гельмгольц, Менделеев; в математике — Гаусс, Пуанкаре, Кантор; в религии — Ветхий и Новый Завет, Упанишады, Зарату-
стра, Л. Толстой, Бёме, Блаватская и т.д. Все эти и иные, трудно совместимые между собой, даже нарочито контрастирующие друг с
другом культурные явления Б. стремился представить как целостную систему культуры, обосновывая необходимость создания осо-
бой универсальной науки — культурологии, философии культуры. В 1899 В., во многом под впечатлением статьи Вл.Соловьева
“Идея сверхчеловека”, погружается в мир идей и образов Ницше, а весной 1900 беседует о Ницше с самим Вл. Соловьевым, воспри-
нимая эту последнюю встречу и незавершенный разговор с Учителем как мистич. знак духовной преемственности, и глубоко про-
никается его философией. Эти два противоречивых влияния — Ницше и Соловьева — оказались решающими в формировании куль-
турологич. концепции Б., хотя не были последними: с 1904 Б. переживает глубокое увлечение неокантианством (Риккерт, Коген,
Винделъбанд и др.), затем наслаивается интерес к социологии (Зомбарт) и социалистич. идеям (Маркс, Меринг, Каутский), наконец,
с 1912 Б. проникается идеями антропософии и находится под обаянием личности и деятельности Р. Штейнера, нем. философа-
эзотерика.
На рубеже 1900 и 1901 Б. принимает второе, творческое “крещение” — берет себе лит. псевдоним, к-рый символизирует цвет, во-
площающий “полноту бытия”, синтез всех цветов, и апостольское служение высшей религ. истине (Андреи Первозванный). К 1902
относится культурфилос. дебют Б.: в журн. “Новый путь” за подписью Студента-естественника он публикует отклик на выход в свет
исследования Мережковского “Л.Толстой и Достоевский”, поддерживая вывод автора о ре-лиг. смысле искусства, творчества вооб-
ще. Эти идеи Б. развил в статьях “О теургии” (Новый путь. 1903. N 9), “Формы искусства” (Мир искусства. 1902. N 12), “Символизм
как миропонимание” (Там же. 1904. N 2). Наряду с теор. статьями и культурологич. эссе Б. в это же время заявляет о себе как поэт. В
1901-07 он создает 4 эспериментальные “Симфонии” (“Северная” , “Драматическая” , “Возврат”, “Кубок метелей”), в к-рых стре-
мится реализовать синтез поэзии, музыки, философии, мистики в музыкальной (точнее — музыкоподобной) форме. Иного рода син-
тез Б. реализует в сб. стихов: “Золото в лазури” (1904), “Пепел” (1908), “Урна” (1909). Третий вариант культурного синтеза — пер-
вый роман Б. “Серебряный голубь” (1909). Тем временем культур-философ. и критико-эссеистские работы Б. складываются в теор.
трилогию — “Символизм” (1910 ), “Луг зеленый” (1911) , “Арабески” (1911). В своих худож. и теор. произведениях Б. решает во
многом сходные культурфилос. проблемы, варьируя лишь форму символизации идей и степень авторской свободы воображения.
В первое десятилетие 20 в. Б. активно включился в движение рус. символистов не только как теоретик и практик, но и как организа-
тор: вместе с гимназич. товарищем С.М. Соловьевым (племянником философа) он создает кружок моек. “младосимволистов” (“ар-
гонавтов”), среди ближайших единомышленников Б. — Эллис (Л.Кобылинский), Г.Рачинский, Э.Метнер. Б. знакомится с Блоком и
Бальмонтом, Брюсовым, Мережковским и Гиппиус, Вяч. Ивановым. Эти отношения бурно развиваются, приводя то к дружбе и со-
трудничеству, то к теор. спорам и личным расхождениям. Мечта о соборном единении всех символистов в рамках сооб-ва едино-
мышленников оказывается утопией: творч. индивидуальность каждого оказывается важнее “общественности”; дружба символистов
оборачивалась враждой, творч. сотрудничество — соперничеством, понимание культуры и разл. ее аспектов и сторон распадается на
множество взаимоисключающих интерпретаций. Рус. символизм на рубеже 1910-х гг. переживает глубокий кризис; Б. примиряется
с духовным одиночеством, непонятостью и покидает Россию. В 1910-11 он совершает путешествие в Италию, Тунис, Египет и Па-
лестину; в 1912-16 живет в Зап. Европе, в том числе с 1914 в Дорнахе и Арлесгейме (Швейцария), где как член Антропософ, об-ва,
созданного Штейнером, участвует в строительстве храма-театра “Гётеанум”). В этот период Б. создает свое главное прозаич. худож.
произведение — филос. роман “Петербург” (1912-13). По возвращении в Россию из своей первой эмиграции Б. продолжает зани-
маться антропософией и пропагандировать штейнерианство: “О смысле познания” (1916); “Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззре-
нии современности” (1915, опубл. 1917). Одновременно он создает обобщающие культурологич. труды, продиктованные текущими
истор. событиями — войной и революцией: “Революция и культура” (1917); цикл эссе “На перевале” (“Кризис жизни”, “Кризис
мысли”, “Кризис культуры”, 1917-18; “Кризис сознания”, 1920); доклады “Пути культуры”, “Философия культуры” (1920). Из худо-
жественно-филос. произведений Б. выделяются поэма о революции “Христос воскресе” (1918), автобиогр. роман “Котик Летаев”
(1917-18, опубл. 1922), “Воспоминания о Блоке” (1922-23).
После Октябрьской революции, воспринимавшейся Б. в мистич. ключе, — как катастрофа, ведущая к трагич. катарсису, обновляю-
щая и духовно преображающая Россию (отсюда — образы Распятия и Воскресения из мертвых), — Б. делает попытку вписаться в
новую советскую действительность и культурную жизнь: он вступает (вместе с Ивановым-Разумником и Блоком) в лит. группу
“Скифы”, преподает в Студии Пролеткульта и в ТЕО, сотрудничает с Наркомпросом, организует и в течение 1920-2! возглавляет
Вольфилу (Вольно-филос. ассоциацию). Вскоре после смерти Блока, в ноябре 1921 Б., чувствуя свою невостребованность жизнью и
культурой, переживая кризис в личной жизни, эмигрирует в Берлин (не отказываясь от советского гражданства). Во время своей
двухгодичной эмиграции Б. публикует многое из написанного, но не выдерживая эмигрантской атмосферы, в состоянии углубивше-
гося душевного кризиса в октябре 1923 вернулся в Советскую Россию — по его выражению, “как в могилу”. Рос. Антропософ. об-во
и Вольфила, созданные во многом усилиями Б., были закрыты; хлесткая характеристика Б. как лит. “покойника”, к-рый “ни в каком
духе не воскреснет”, самый псевдоним к-рого свидетельствует его “противоположности революции” (“борьбы красного с белым”),
данная Л.Троцким как раз в 1923, отшатнула от Б. немногочисл. его друзей и поклонников, оставшихся в России. Атмосфера духов-
ной изоляции, окружавшая Б., искупалась культурным плюрализмом, еще не подавленным до конца в годы нэпа и просуществовав-
шим до нач. 1930-х гг.: Б. удается написать роман “Москва” (1926-32) — по замыслу антитеза “Петербургу”; роман “Крещеный ки-
таец” (1927) — вторая часть “Котика Летаева”; мемуарную трилогию (“На рубеже двух столетий”, “Начало века”, “Между двух ре-
волюций”, 1929-33). Смерть Б., не дожившего до создания Союза писателей, идею к-рого он приветствовал, усматривая в ней новый
вариант своего идеала писательской “коммуны”, способствующей расцвету каждой творч. индивидуальности в окружении подоб-
ных, совпала с началом полит, кампании, направленной против его инакомыслия.

64
Культурологич. концепция Б. сложна и противоречива; дополнит, сложность ей придает ее непрерывное видоизменение, теор. ее
“достраивание” и переосмысление — под влиянием все новых интересов и увлечений автора, веяний эпохи. Самим автором она ос-
мысляется вдинамич. категориях пути: “чистого движения”, “лестницы восхождений”, творч. процесса, нередко в муз. терминах
(контрапункт, лейтмотивы, гармония, мелодия, инструментовка и т.д.). В основание философии культуры Б. положены идеи двух во
многом взаимоисключающих мыслителей — Ницше и Соловьева, разрешение антиномичности к-рых Б. считал своей гл. задачей.
Именно эти две “встроенные” друг в друга филос. системы помогают Б. связать воедино разл. филос., художественно-эстетич., есте-
ственнонаучные, религиозно-мистич. и житейские представления в целостную всеобъемлющую символич. картину мира, где искус-
ство и жизнь, наука и мистика составляют сложное социокультурное “всеединство”. Концептуальный стержень культурологии Б.
определяется соловьевской идеей теургии — всеобъемлющего творчества, приближающегося по степени своей универсальности к
божественному.
Предельной категорией в философии культуры Б. (неопределяемой или складывающейся из бесконечного множества определений)
является Символ — “предел всяческих познаний и творчеств”, “непознаваемый” и “несотворимый”. Б. выделяет три сферы самореа-
лизации символизма: мистич. сфера Символа как трансцендентной сущности; сфера символизма (теор., филос. и научных построе-
ний разл. символистских моделей и концепций) и сфера символизации (приемов символич. творчества во всех сферах, включая ху-
дожественно-эстетич. и непосредственно житейскую, бытовую). Мир, по Б., состоит из символов разл. мощности и емкости, соеди-
няющихся друг с другом и составляющих необъятную систему взаимосвязанных и переходящих один в другой идеальных объектов
различных порядков. Любой символ может быть выражен через идею (понятийно-логически) и через образ (ассоциативно); он един
и многозначен, объективен и субъективен, в себе и в мире, целостен и распадается на противоположности, к-рые являются лишь
“символами символа”. Мир предстает у Б. в своей “панкультурной” сущности, т.е. как инобытие культуры во множестве ее симво-
лич. ликов и имен.
Так, тройственное начало Божества проявляется в том, что Отец, символизируя единство, раздваивается на форму обнаружения
единства (Сын) и содержание религ. Формы (дух): в свою очередь, религ. символ Сына отображается в образе то Аполлона (форма
образа), то Диониса (содержание образа). Лик Бога Живого двоится на мужское начало (Логос) и женское (София-Премудрость),
каждое из к-рых также разделяется надвое, образуя все новые диады, составляющие вместе с исходными элементами триады. Един-
ство мировой и душевной стихии “распадается на двоицу” — на “дух музыки” и на “безобразный хаос” бытия. Именно “дух музы-
ки” преодолевает хаос, упорядочивая и организуя его в душе субъекта и в самой действительности; подобное преображение бытия
осуществимо лишь в процессе символич. творчества, к-рое, приобщая реальность к “музыке сфер”, выступает как магич. заклятие
хаоса, пресуществляющее безобразность в гармонию. Таким же духовно-мистич. образом понимает Б. и революцию — одно из во-
площений теургии.
Культурология Б. оказала мощное влияние на философию культуры (Бахтина, Лосева, на культурологи ч. теории рус. футуристов
(идея “жизнестроения”), на рус. “формальную школу”, на герменевтику Шпета и др. явления культурологич. мысли 20 в.
Соч.: Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934; Блок Александр Александрович и Белый Андрей: Диалог поэтов о России и революции. М.,
1990; О смысле познания. Минск, 1991; Символизм как миропонимание. М., 1994; Критика. Эстетика. Теория символизма. Т. 1-2.
М., 1994; Собр. соч.: Воспоминания о Блоке. М., 1995; Стихотворения и поэмы. М., 1994; Евангелие как драма. М.,1996.
Лит.: Долгополов Л. На рубеже веков: О рус. лит-ре конца XIX — нач. XX в. Л., 1985; Он же. Андрей Белый и его роман “Петер-
бург”. Л., 1988; Максимов Д.Е. Рус. поэты начала века. Л.,1986; Андрей Белый: Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Пуб-
ликации. М., 1988; Новиков Л.А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. М., 1990; Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е
годы: Жизнь и лит. деятельность. М., 1995; Пискунова С., Пискунов В. Культурологич. утопия Андрея Белого // ВЛ. 1995. Вып. III;
Николеску Т.Н. Андрей Белый и театр. М., 1995; Воспоминания об Андрее Белом. М.,1995.
И. В. Кондаков
БЕНВЕНИСТ (Benveniste) Эмиль (р. 1902-1976) -франц. языковед, культуролог. Посещал курсы Антуана Мейе в Школе высших
практич. исследований. С 1927 преподавал там же сравнит, грамматику и всеобщее языкознание. Б. сотрудничал с Ж. Вандриесом,
А. Мар-тинэ, Л. Тесньером в Париж. Лингвистич. об-ве, определившем его базовое языковедч. образование. С 1937 проф. в Коллеж
де Франс.
Свою исследоват. деятельность Б. развивает в двух осн. направлениях — всеобщее языкознание и сравнит-е изучение индоевроп.
языков. При всем своем различии эти сферы пересекаются и позволяют Б. сделать широкий и плодотворный культурологич. и фи-
лос. синтез. С языковедч. т. з. его метод — сравнительно-исторический — охватывает помимо фонетики и морфологии также син-
таксис и семантику.
В осн. труде “Проблемы всеобщей лингвистики” (1966-74), формально представляющего собой сб. статей по отд. проблемам, Б.
проводит различие прежде всего между порядком семиотическим и порядком семантическим. Суть его метода применительно к
сфере языка и культуры заключается в следующем: занимаясь семантич. реконструкцией, необходимо проводить четкое различие
между “значением” как отнесением слова к предмету (designation) и “смыслом” (значением-сигнификатом). Последние главы этого
труда Б. посвящает определению роли значения (сигнификации) и разработке метода семантич. реконструкции. Б. разграничил два
разных, но взаимообусловленных этапа языкового семиоза: единицы первичного означивания (слова) должны быть опознаны, иден-
тифицированны с предметами и понятиями, к-рые они обозначают, единицы вторичного означивания (предложения, высказывания)
должны быть поняты, соотнесены со смыслами, к-рые они несут. Посредством сравнения и диахронич. анализа нужно выявить
“смысл” там, где сначала мы знаем только “значение”. Будучи учеником Соссюра, Б. отвергает тем не менее произвольность соссю-
65
ровского знака: “Связь между означающим и означаемым не является произвольной; наоборот, эта связь необходима. Так, озна-
чающее бык (boef) необходимо совпадает в моем сознании со звуковым означающим “бёф”. Между ними возникает настолько тес-
ный симбиоз, что означаемое “boef” является как бы душой акустич. образа “бёф” (Problemes de Linguistique generale). Гл. тезис Б.:
“конфигурация языка” детерминирует все семиотич. системы. В противоположность знаковой теории Соссюра, Б. предложил еди-
ную концепцию членения языка в виде схемы уровней лингвистич. анализа, определив естественный язык как знаковое образование
особого рода среди всех семиотич. систем — с двукратным означиванием его единиц — в системе средств и в речи. Словесные зна-
ки т.о. наделены двойной семантикой:
первичное означивание, собственно семиологич. принцип знакообразования (конвенциально обусловленные культурно-истор. зна-
чения отд. словесных знаков) и в речи — вторичное означивание, принцип семантич. интерпретации речевых единиц (значения,
приобретаемые словесными знаками в разнообр. текстах) “Означивание присуще уже первичным элементам (естеств. языка) в изо-
лированном состоянии независимо от тех связей, в к-рые они могут вступать друг с другом” (Проблемы языкознания). Это обстоя-
тельство, выделяющее естеств. язык среди других семиотич. систем, позволяет ему служить “интерпретантом всех других семиотич.
систем”, к-рые не обладая метаязыковой способностью естеств. языка, заимствуют, однако, осн. принципы его устройства и функ-
ционирования. “Язык дает нам единств, пример системы, к-рая является семиотической одновременно и по своей формальной
структуре, и по своему функционированию”, язык оказывается той “универсальной семиотич. матрицей”, по образу и подобию к-
рой возможно моделирование любых семиотич. систем. Язык же сущностно связан с определением человека: Невозможно вообра-
зить человека без языка и изобретающего себе язык... В мире существует только человек с языком, человек, говорящий с другим
человеком, и язык, т.о., необходимо принадлежит самому определению человека”.
Любая языковая единица становится воспринимаемой лишь тогда, когда она может быть идентифицирована в единице более высо-
кого уровня: фонема в слове, слово в предложении. Предложение, к-рое уже не может быть включено в единство другого типа, яв-
ляется порогом речи. В противовес дистрибутивной лингвистике, исходившей из положения, что любая единица более высокого
уровня складывается из единиц нижележащего уровня: фонема — из дифференциальных признаков, морфема — из фонем и т.п., по
утверждению Б., функция единиц определяется не только их способностью разлагаться на единицы, между к-рыми имеют место
дистрибутивные отношения (когда отношения устанавливаются между элементами одного уровня), но и способностью единиц ни-
жележащего уровня выступать в качестве строит, материала для единиц вышележащего уровня, т.е. интегративные отношения. Син-
тагматич. последовательность в таком случае создает при ее образовании новое интегративное целое, свойства к-рого несводимы к
свойствам его составных частей. Если оно содержит элементы, рассматриваемые как знаки, само оно уже не может считаться знаком
или совокупностью знаков. Фонемы, морфемы, лексемы или слова имеют “распределение на соответствующем уровне и примене-
ние на более высоком уровне”, в то время как предложение не имеет ни распределения, ни применения. Хотя все уровни обладают
собств. набором единиц и собств. правилами их сочетания, что и позволяет описывать их раздельно, ни один из этих уровней не
способен самостоятельно порождать значения: любая единица, принадлежащая известному уровню, получает смысл только тогда,
когда входит в состав единицы высшего уровня: так, хотя отдельно взятая фонема поддается исчерпывающему описанию, сама по
себе она ничего не значит; она получает значение лишь в том случае, если становится составной честью слова, а слово, в свою оче-
редь должно стать компонентом предложения. Дистрибутивные отношения сами по себе еще не способны передать смысл.
Дальнейшее развитие семиологии Б. увидел в “надъязыковом (транслингвистич.) анализе текстов... — в направлении разработки
метасемантики, к-рая будет надстраиваться над семантикой высказывания. Это будет семиология поколения” и ее понятия и методы
смогут содействовать развитию других ветвей общей семиологии”.
Функция языка в коммуникации рассматривается на материале фрейдовского анализа (“Заметки о роли языка в изучении Фрейда” в
рус. пер. включены в кн.: Общая лингвистика. М., 1974). Изучение аналитич. техники привело его к определению и переопределе-
нию лингвистич. понятий: речевая деятельность — биография как инструмент символич. жизни бессознательного; и в конечном
итоге: язык — социальное явление, социализированная структура. И впоследствии Б. будет исследовать те социальные явления, к-
рые социально осознаны в языке. При изучении связи науки о бессознательном с языкознанием, выясняется, что разные уровни язы-
ка в разной мере “автоматизированы” и не осознаются говорящими.
В др. труде Б. путем чисто лингвистич. анализа природы местоимений разработал подлинную диалектику отношений “я” и “друго-
го”. Он заметил, что местоимения “я” и “ты” как указатели отношения говорящего субъекта, существенно отличаются от функции
высказываний с помощью местоимения “третьего лица”. Местоимение “он” является аббревиатурным заменителем, “не-лицом”,
функционирующим вне пары “я/ты” (такого же мнения был и Якобсон). Категория лица настолько тесно связана с категорией числа,
что Б., в сущности, считает их одной категорией, различая “собственно лицо” (т.е. единств, число) и “расширенное лицо” (т.е. мно-
жеств, число), к-рое как “не-лицо” имеет морфологически выраженное множеств, число. Б. разграничил “план речи”, использующий
во франц. языке все времена, кроме аориста и все три грамматич. лица, с одной стороны, и “план истории”, использующий только
повествоват. времена и в чистом случае только третье лицо единств, и множеств, числа, с другой стороны. Язык выработал целую
систему времен, свойственную повествоват. текстам и ориентированную на аорист — такая система призвана уничтожить то наст.
время, в к-ром находится говорящий субъект. Б. замечает, что в повествоват. тексте никто не говорит. Посредством такого анализа
местоимений, проведенного налексич. примерах индоевроп. идиоматич. выражений, Б. придал двойному определению языка еще и
следующий смысл. С одной стороны, язык — это набор знаков и система их соединений, где единицами являются, скажем, фонемы,
семантемы. С др. стороны, язык — это открыто выраженная активность речи, где единицами языка являются предложения. Б. одним
из первых придал слову “дискурс”, к-рое во франц. лингвистич. традиции обозначало речь вообще, текст, терминологич. значение,
обозначив им “речь, присваиваемую говорящим”. Он противопоставлял дискурс объективному истор. повествованию (recit). Дис-
курс отличается от объективного повествования не только рядом грамматич. черт (системой времен, местоимений и др.), но также
коммуникативными установками. Б. знаменовал сдвиг в лингвистике в 50-х гг. исследованием “языка в действии”.
Словарем индоевроп. институций Б. начинает изучение индоевроп. языков. Словарь, составленный Б. — настольная книга для исто-
рика языков и культур. Его метод отличается от метода его предшественников компаративистов тем, что Б. отказывается сформиро-
вать репертуар “лексич. наследия”, а берется за изучение самого формирования и организации словаря учреждений. На материале
66
языков индоевроп. ареала от Центр. Азии до Атлантики, от индийских до кельт, языков, он пытается вскрыть генезис их значения за
их обозначением и реконструировать т.о. целостности, к-рые последующая эволюция раздробила и разложила. Эту институцио-
нальную (учрежденческую) пред-историю Б. реконструирует, заново собирая словарь экономических (“обладать”, “обменивать”,
“торговать”, “ссуда”, “заем” и “залог”), властных, правовых и других понятий. Т.о. оказывается возможным определение значения
перевода во взаимосвязи с оценкой семантич. расстояния между теми же словами в подлиннике. Путем этимологич. анализа Б. пока-
зывает, что подосновой различий является связь каждого из языков с религ. представлениями (связь, напр., понятия денег с жертвой,
платой божеству, скажем, ущерб — это пир, устраиваемый в честь богов). “Все древнейшее право было лишь одной из областей,
регулируемых практикой и правилами, пронизанными мистикой”. Б. постулирует некоторую ситуацию изнач. дефицита: “Соответ-
ствующие обозначения брались... из словаря более древних цивилизаций”, когда более новые учреждения питаются обозначит, мо-
щью уже существующих. Исследованием фиксируется “постоянство формы и смысла какого-то словоупотребления, когда между
словами наблюдаются очень незначит. расхождения в значении, к-рые на первый взгляд не дают возможности исследовать генезис
смысла. <...> Форма сама по себе не поддается анализу: мы имеем дело с производным, производящая основа которого не сохрани-
лась... Следовательно, перед нами изолированное существительное, к-рое, однако, принадлежит к древнейшему слою лексики: “за-
работная плата” и “состояние”, где награда предоставляется за нек-рого рода деятельность в религ. сфере”. Так Б. делает вывод, что
“представления, связанные с войной, наемной службой, предшествовали представлениям, связанным с трудом и законным возна-
граждением за него”. Слово же “доверие” восходит к значению в Ригведе “акт доверия (богу), предполагающий вознаграждение (в
виде благодеяния, оказываемого божеством верующему)”. Установление первичного значения слова “давать в долг” (на лат. яз.
praestare образовано от наречия praesto esse) показывает, что в нем просвечивает смысл “передать что-либо в распоряжение другого
безвозмездно”. “Безвозмездность” в экон. сфере восходит к “благодати” или ниспосланию “благодати” в сфере религиозной. Сама
же область религиозности обозначалась “лишь с момента, когда она выделилась в отд. область”, а в древних культурах все прониза-
но религией, все является знаком, или отражением божеств, сил. Само слово religio означает “сомнение, удерживающее человека,
внутр. препятствие к какому-то действию, а не чувство, побуждающее к действию или заставляющее исполнять обряд”. Контраст-
ное к religio слово — это дар прозрения, суеверие (superstitio) — сперва приверженность народным верованиям, а затем пренебре-
жит. отношение консервативных римлян к этим верованиям. Совр. значение является последним в истории семантики слова. Б. по-
казал себя виртуозом семантич. описания.
С помощью социальных уставов Б. устанавливает лексич. ряды параллельных этимологич. терминов и показывает, что Иран., инд.,
греч. и италийский языки свидетельствуют об общем наследии иерархизирован-ного об-ва, разделенного на три осн. обществ, функ-
ции: священника, воина и земледельца. Другим путем к точно такой же классификации, сыгравшей роль своего рода дополнит, до-
казательства по отношению к теории Б., пришел историк религий и мифологий Ж. Дюмезиль.
Труды Б. имели разные применения в общей культурологии, представляя собой разл. степени обобщения для филос. знания. Б. при-
вел косвенное доказательство связи др.-греч. (зап.) философии как философии бытия с употреблением связки и предиката “быть” в
индоевроп. языках (Б. утверждалась содержат, значимость вспомогат. глаголов — “быть” и “иметь”, уводящая связку от функции
простого шифтера), т.к. он привел в качестве примера своеобр. превосходство семантич. ситуации афр. народа эвэ — в этом языке
нет глагола, соответствующего индоевроп. глаголу “быть”, но существуют вместо этого пять глаголов, между к-рыми распределяет-
ся множество употреблений слова “быть”, номинальное множество, редуцирующее двусмысленность виртуальности каждого из
них.
Тем самым Б. ускорил конец языковедч. имманентизма, поставив вопрос о вне-лингвистике. (Изучением соотнесенности с внелин-
гвистич. миром, историей слов в истории об-ва занимался, кроме франц. социолог. школы (Б., А. Мейе, М. Коэн, Ж. Маторе), и П.
Лафарг). Различение и последующее соединение семиотич. и семантич. порядков составляло особую заботу Б. Это неограниченное
творение (созидание), сама жизнь языка в действии, сторона языка, повернутая к миру, была неизменным пафосом его изысканий.
На фоне постулата о творч., демиургич. роли слова (языка) проступает его двойная роль — язык одновременно служит и орудием
описания, и орудием творения: “Языковая форма является тем самым не только условием передачи мысли, но прежде всего услови-
ем ее реализации” (Общее языкознание). Местоимения являются в данном контексте “средствами перехода от языка к речи”. Носи-
телем смысла является предложение, выраженное в опр. контексте и носящее отсылку. Именно предложение и тем более отношения
между предложениями и макроструктурой текста покидают сферу языка, чтобы войти в область речи. Такой поворот имеет аналог в
истории мысли — со времен софистов, парадоксальность к-рых пытался преодолеть Платон, зап. философия скорее заботилась о
том, чтобы речи отвести по возможности меньшую роль — представив ее простое инструментальное отношение, сводимое к мысли
о ее знаках, в то время как структура означающего способна определить порядок смысла.
Интерпретация речи как креативного начала позволила Б. полагать границы отд. своих тезисов. Знаменитое различение означающе-
го и означаемого царит лишь в семиотич. порядке. Знак не может быть определен тем, что он означает, но лишь внешне — посред-
ством разграничения с другими знаками. Означающее бытие сводится к различающему бытию. Соединенный и отличительный не
знаменует еще языка, а всего лишь речевую деятельность, существование которой виртуально. И наоборот, для семантич. порядка
подлинно существует только речь. Именно в ней рождается структура и событие виртуальности и актуальности. И именно на этом
уровне становится вопрос о внелингвистич. отсылке. “Для говорящего язык и реальный мир полностью адекватны, знак целиком
покрывает реальность и господствует над нею, более того, он есть эта реальность”.
Б. много сделал, чтобы ввести субъективность в язык, не обращаясь к понятию интерсубъективности. Он полагал, что субъектив-
ность влечет за собой интерсубъективность, не отказываясь от гегемонистской иллюзии обладателя и продуцента мысли. Язык по-
зволяет каждому говорящему присваивать себе язык целиком, обозначая себя как Я. Личные местоимения — первая точка опоры
для выявления субъективности в языке. Программатически Б. отвел центр, место “речевому отношению к партнеру”. Именно оно
обусловливает языковую коммуникацию, имеет собств. временность, собств. формы и измерения. В речи отражается опыт изнач.,
постоянного, неограниченно обратимого опыта отношений между говорящим и его партнером. Аппарат деиксиса (указат. место-
имения, наречия, прилагательные) организуют пространств, и временные отношения вокруг “субъекта”, принятого за ориентир:
“это, здесь, теперь” и их многочисл. корреляты “то, вчера, в прошлом году, завтра”, а система синтаксич. функций находится в под-
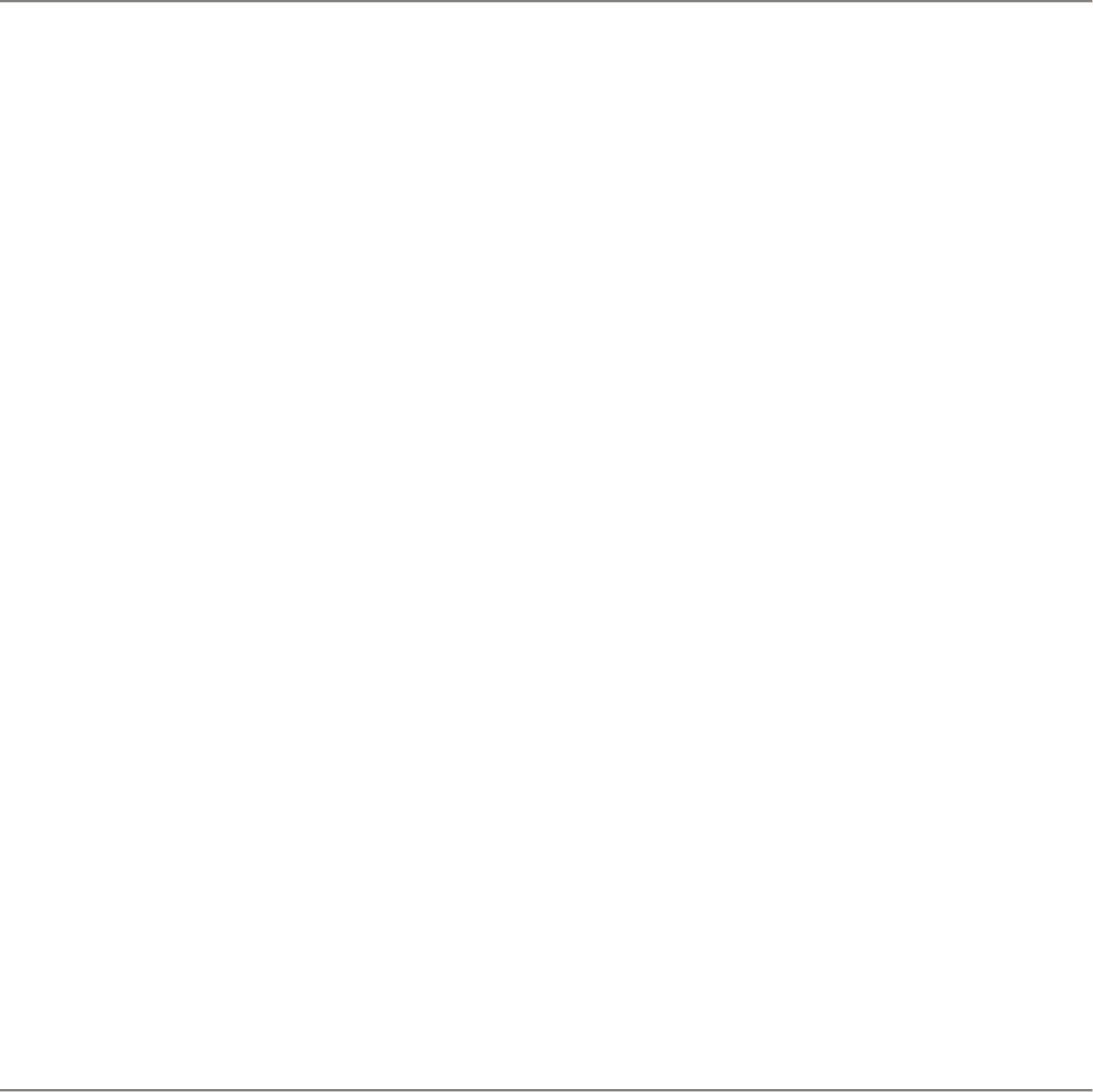
67
чинении у того Я, к-рое выражается. Формальные модальности высказывания указывают на положение говорящего по отношению к
dictum (изречение, слово, приказ).
Язык Б. понимает как то “скрепляющее могущество, к-рое превращает в общность собрание индивидов и к-рое создает самое воз-
можность коллективного развития и существования”. Поэтому “язык представляет стабильность в недрах меняющегося общества,
ту постоянную, к-рая объединяет все время расходящиеся действия”. Б. подчеркивает парадоксальность языка “одновременно и им-
манентного по отношению к индивиду, и трансцендентного по отношению к об-ву”.
Соч.: Origines de la formation des noms en indoeuropeen. P., 1935; Noms d'agent et d'action en indoeuropeen. P. 1948; Titres et noms
propres en iranien ancien. P., 1966; Problemes de linguistique generale. V. !-2. P., 1966-74; Hittite et indo-europeen. P., 1966-1974. Le
vocabulaire des indo-europeens. V. 1-2. P., 1969-70; Индоевропейское именное словообразование. М., 1955;
Очерки по осетинскому языку. М., 1965; Общая лингвистика. М., 1974; Словарь индоевроп. социальных терминов. М., 1995.
И. Лейтане (Латвия)
БЕНЕДИКТ (Benedict) Рут Фултон (1887-1948) -амер. культурантрополог, виднейший (вместе с Кардинером, Линтоном, Сепиром,
М. Мид и Дюбуа) представитель этнопсихол. направления (“культура и личность”) в амер. антропологии. В 1921-23 Б. изучает под
руководством Боаса в Колумбийском ун-те культурную антропологию. В 1923 защищает докт. дис. “Представления амер. индейцев
о духах-оберегах”. С 1923 до конца жизни Б. преподавала в Колумбийском ун-те, где в 1936 сменила Боаса в должности декана от-
деления антропологии. В 1947 Б. избирается Председателем Амер. антропол. ассоциации. За неск. месяцев до смерти становится
профессором Колумбийского ун-та.
Первый этап антропол. деятельности Б. связан с полевыми исследованиями в резервации североамер. индейцев, по рез-там к-рых
она опубликовала в 1935 монографию “Мифология зунья”. Полученные во время полевых работ материалы часто использовались Б.
в ее работах в нач. 30-х гг. Этнопсихол. направление признавало первичным в каждой культуре личность и особенности ее психики
(психол. детерминизм). Б., как и др. исследователи этого направления, широко использовала концепции Фрейда. В статье “Конфи-
гурации культуры” (1923) она воспользовалась ницшеанской дифференциацией культур на “аполлоновский” и “дионисийский” ти-
пы и утверждала, что межкультурные различия объясняются прежде всего различиями в индивидуальной психологии, поскольку
культуры — это “индивидуальная психология, отраженная на большом экране”. В статье “Антропология и анормальное” (1934) Б.,
развивая идеи Фрейда, рассматривала культуры разл. народов как проявления специфически присущих им психопатологий. В своем
гл. общетеор. труде “Модели культуры” (1935) Б. вышла за рамки психологизма, предприняв попытку синтезировать антропол., со-
циол. и психол. подходы к феномену культуры. Она отстаивала культурно-релятивистский принцип, согласно к-рому каждое явле-
ние культуры может быть адекватно понято только в общем контексте данной культуры. Подчеркивая своеобразие каждой культу-
ры, Б. в то же время признавала, что между об-вом и индивидом существует тесная взаимосвязь, и личность следует изучать в сис-
теме этой взаимосвязи. Концепция культурного релятивизма была использована ею для критики фашистских идей в работах нач. 40-
х гг. В годы войны по заданию Службы военной информации США Б. занялась изучением япон. нац. психологии, чтобы создать
своеобразное руководство для амер. военных и гражд. чиновников после оккупации Японии. Б. широко использовала разработан-
ную ею технику “дистанционного изучения культуры” (анализ науч. и худож. лит-ры, дневников военнопленных, просмотр япон.
кинофильмов, интервьюирование проживающих в США японцев). Б. никогда не была в Японии и не знала япон. языка. На основе
собранных материалов написала знаменитую книгу “Хризантема и меч” (1946). В ней с культурно-релятивистских позиций япон.
культура рассматривается как иерархическая по своей сути, что предполагает точное знание каждым членом об-ва своего места в
нем и своей роли. Б. типологизирует япон. культуру стыда, противопоставляя ее западной, прежде всего амер., культуре вины с
этич. акцентом на божеств. заповедях. Б. уделила особое внимание япон. концепциям “он” (милость, благодеяние) и “гири” (долг),
воспитанию детей в семьях. Несмотря на то что “Хризантема и меч” получила неоднозначную оценку в Японии и на Западе (Б. уп-
рекали в антиисторизме, зап. этно-центризме, в том, что она нарисовала портрет не японца, а япон. военнопленного), она стала клас-
сич. работой зарубеж. японоведения и культурной антропологии в целом, работой, к к-рой до сих пор постоянно обращаются иссле-
дователи. Ученики Б. — М. Мид, Р. Метро, М. Вольфенштейн — широко использовали и углубили разработанную Б. технику “дис-
танционного изучения культуры”.
Соч.: Configurations of Culture in North America // American Anthropologist. Menasha, 1932. Vol. 34. N 1; Anthropology and the Abnormal
// Journal of General Psychology. Worcester, 1934. Vol. 10. N 1; Zuni Mythology. V.1-2. N.Y., 1935; Patterns of Culture. Boston, 1959;
Race:Science and Politics. N.Y., 1940, 1959; The Races of Mankind (with G.Weltfish). N.Y., 1943; The Chrysanthemum and the Sword:
Patterns of Japanese culture. Boston, 1946;
Хризантема и меч // Хризантема и меч: Антология культурной антропологии. М., 1998; Модели культуры// Там же.
Лит.: An Anthropologist at Work; Writings of Ruth Benedict. Ed. by М. Mead. Boston, 1959; N.Y., 1966. Mead М. Ruth Benedict. N.Y., L.,
1974; Modell J.S. Ruth Benedict: Patterns of a Life. Phil., 1983; [Библиогр) // American Anthropologist. Menasha, 1949. Vol. 51. N 3.
M.H. Корнилов

68
БЕНН (Benn) Готфрид (1886-1956) - нем. поэт, писатель, теоретик искусства и культуры. Мировоззрение Б. сложилось под влияни-
ем идей Ницше, Шпенглера и др. представителей “философии жизни”, а также филос. антропологии и глубинной психологии.
Взглядам Б. на историю культуры присущ своеобразный биологизм и натурализм. Ход истор. изменений он рассматривает вслед за
Г. Дришем по аналогии с геол. процессами. Все многообразие наслоений культурно-цивилизационных форм составляет, по Б., еди-
ный поток жизни, складывающийся из иррациональных по своей природе истор. событий. Следуя Гелену и А. Портману, Б. утвер-
ждает, что человек — не результат эволюции, а некая данность особого рода, “еще не установившееся животное” (Ницше), “биоло-
гически недостаточное существо” (Гелен), компенсирующее свою биол. недостаточность с помощью Духа, принципа, к-рый Б. про-
тивопоставляет Жизни. В отличие от телесной природы человека, его духовная сущность содержит в себе множество еще не рас-
крытых возможностей. Их реализация — не только “эмансипация духа”, но и создание окружающей человека духовной среды. Б.
трактует ее как вечно себя порождающий мир культуры, ценности к-рой трансцендентны по отношению к жизни. Взаимоотношения
между об-вом и творч. индивидуальностью носят двойств, характер: создавая необходимый для ее становления “культурный круг”
(термин Фробениуса) и поощряя культ гения, об-во пытается в то же время усреднить его талант, отмечая произведения художника
печатью ограниченности филистерского сознания. Идеи социального биологизма не в поел. очередь способствовали временному
увлечению Б. национал-социализмом, когда он был убежден в том, что наступающая истор. эпоха должна выразить себя в появле-
нии новой расы, нового типа человека.
Совр. культурно-истор. ситуация, с т.зр. Б., таит в себе мрачные перспективы: грядущее представляется ему миром “радаров и робо-
тов”, неким синтетич. раем, а стиль будущего — “искусством монтажа”.
Теория творчества у Б. выходит за рамки эстетического и обретает статус важнейшей составляющей теории культуры. Он полагает,
что в Новое время искусство занимает место религии, а артистизм как феномен культуры приобретает наивысшую ценность. В ус-
ловиях всеобщего духовного кризиса искусство способно “переживать само себя как содержание” и противостоять тем самым то-
тальному отрицанию ценностей, созидая автономную сферу высшей реальности.
Порождение худож. образов, с т.зр. Б., есть вместе с тем произведение новых перспективных возможностей. Перспективизм как ос-
новополагающий принцип его теории культуры делает проблематичным само существование реальности, утверждая непосредст-
венную достоверность законченного произведения, в имманентной статичности к-рого и завершается опыт трансцендентности.
Идеалом является “абсолютное стихотворение”, не имеющее конкр. адресата, и “абсолютная проза”, к-рая пребывает вне простран-
ства и времени. Этим абсолютным формам выражения соответствует и абсолютное Я творца с его “акаузальным безмолвием”. Со-
зидающее творч. Я, изолированное от окружающего мира, одинокое и монологичное, абсолютно лишь в смысле причастности к
трансцендентному и является по сути лишь одним из аспектов личности, само единство к-рой Б. подвергает сомнению.
Творч. начало особенно полно проявляется в том типе человека, к-рый Б. именует “носителем искусства”, противопоставляя его
“носителю культуры”. Последний призван создать предпосылки для поэтич. творения, расширяя культурное пространство, к-рое
служит “перегноем, кровью и почвой” для “носителя искусства”. “Носитель культуры” воспринимает объекты внешнего мира как
данности и описывает реальность с помощью слов. В отличие от него, “носитель искусства” — поэт, имеющий дело со словом как с
самодостаточной телесной предметностью (“стиль — это тело”), к-рая представляет собой существование, замкнутое в себе. Поэто-
му для искусства важна “не истина, а выражение”. Обосновывая авангардистски-экспрессионистское видение творчества, Б. дистан-
цируется от идеи искусства для искусства, рассматривая эстетич. начало как сущностное проявление духа. Экспрессионизм для него
— “беспощадное продвижение к корням вещей”, способ раскрытия их подлинного деиндивидуализированного и депсихологизиро-
ванного бытия.
Соч.: Gesammelte Werke. Hrsg. von D. Wellershoff. Bd. 1-8. Wiesbaden, 1960-68; Избранные стихотворения. М., 1994; Стихи // Сумер-
ки человечества. М., 1990.
Лит.: LenningW. Gottfried Benn. Hamb., 1962; Roche M.W. Gottfried Benn's static poetry. Chapel Hill; L., 1991; История нем. лит-ры. Т.
5. М., 1976.
В.В. Рынкевич
БЕНУА (Benoist) Ален де (р. 1947) — франц. философ, культуролог, политолог, публицист, лидер движения “новых правых”, обос-
новавший программные положения его культурологии: витализм в трактовке сущности культуры, борьбу с “декультурацией” Евро-
пы, выявление индоевроп. истоков зап. культуры, возрождение ее на основе восстановления архаич. “социофункциональной трех-
членной структуры” и “героич.” арийского духа, отстаивание культурного регионализма и пр. Опора на традицию, носительницу
опыта “народной души”, к-рая обеспечивает непрерывность национально-истор. преемственности — краеугольный камень “неопоч-
веннической ориентации “новых правых”. Совр. мир, пронизанный “физикалистским” детерминизмом и объективистским фатализ-
мом, как никогда, по мнению Б., нуждается в повторении того, что человек есть существо культуры, существо историческое. Разра-
ботка соотношения “природы” и “культуры” в перспективе последоват. “гуманизации” человека, переходящего от необходимости к
свободе, от единства к многообразию, — ведущее направление развития концепции культуры “новых правых”, во многом вдохнов-
ленное стилем мышления нем. культурфилос. антропологии, связанной с именами Плеснера, Гелена, Э. Ротхакера и Ландмана.
Унаследованный от Ницше и Шпенглера витализм, лежащий в основе представления Б. о культуре, когда природа и культура пони-
маются как последоват. стадии проявления жизни, соотносится с указаниями на конкретно-практич., органич. характер культуры.
Культура подчеркнуто исторична и предельно национальна. Наднациональность идеала всеобщей культуры, выдаваемая за свиде-
тельство “прогрессивности” и непредвзятости мысли, наделе, считает Б., является безнациональнос-тью, выявляющей беспочвен-
ность совр. “неосхоластицизма”. Поскольку пути жизни — это одновременно пути культурно-истор. творчества, “всеобщая культу-

69
ра” навсегда остается фикцией либералов-универсалистов: ни отд. человек, ни народ в целом не властны выйти за рамки своей нац.
и истор. принадлежности. Неотторжимость человека от его культуры; уникальность европ. культурного наследия; его абсолютная
незаменимость для народов Европы другим “культурным багажом” в какой бы то ни было космополитическо-универсальной форме
— все эти “простые истины”, пишет Б., как никогда нуждаются сейчас в защите, поскольку традиц. культурный уклад европ. жизни
под напором тотальной унификации исчезает с угрожающей быстротой. Б. пытается выявить специфику “арианизма”, индоевроп.
архетипа, обусловившего своеобразие религиозно-мифол. комплекса европ. народов, их миросозерцания и социальной жизни. Опи-
раясь на труды Ж. Дюмезиля, разработавшего фундаментальную индоевроп. трихотомическую систему мифол. функций (магич. и
юридич. власть, воинская сила, плодородие) и установившего взаимосвязь данной структуры с героико-архаич. эпосом ряда индоев-
роп. народов и особенностями их социального устройства, Б. подчеркивает, что для индоевроп. мира (Европы в том числе) харак-
терна изначальная сбалансированность всех проявлений жизни об-ва: религии — права — экономики, а также структуры личности,
в к-рой гармонично сочетаются разум, эмоции и трудовая деятельность. В том, что европ. культура перестала осознавать свой индо-
европ. архетип, с т. зр. “новых правых”, повинно христианство. Б. усматривает в претензиях церкви на культурную монополию, в
глобальной культурной ассимиляции народов Европы под предлогом христианизации черты ненавистной ему “идеологии эгалита-
ризма”, христ. монотеизм, с помощью к-рого искоренялись древние святилища и празднества в Европе. Антипод христианства, име-
нуемого Б. “большевизмом древности”, — исконная религия Европы, древняя “религия богов и героев”, “арианизм”. Полемич. за-
острение Б. достоинств этого “исповедания” как религии “нац.”, культивирующей “героический дух в человеке”, превращающей его
в “творца самого себя”, снабжено обильными рецепциями из трудов Ницше.
Соч.: Vu de droite: Anthologie critique des idees con-temporaines. P.,1977; Les idees a 1'endroit. P., 1979; La mort. P., 1983 (в соавт.); La
Reforme intellectuelle et morale. P., 1982 (в соавт.).
Лит.: Vial P. Pour line renaissance culturelle: La Grece prend la parole. P., 1979.
Т.Е. Савицкая
БЕНЬЯМИН (Benjamin) Вальтер (1892-1940) - нем. философ культуры. Учился в ун-тах Фрейбурга (Брейс-гау) и Берлина, в 1919
защитил в Берне дис. “Понятие худож. критики в нем. романтизме”. В 1925 ун-т Франк-фурта-на-Майне отверг габилитационное
соч. Б. “Происхождение нем. типа трагедии”, вследствие чего вся деятельность Б. протекала вне академич. сферы. Эмигрировав из
Германии в марте 1933, Б. в 1935 стал членом переехавшего из Франкфурта в Париж Ин-та социальных исследований. В 1940 Б.,
спасаясь от гестапо, покончил самоубийством при неудачной попытке перейти исп. границу.
Творчество В. не укладывалось в рамки общепринятых в 20-30-е гг. представлений о научной филос. деятельности: строго говоря, у
Б. нет академич. филос. трудов, в то время как его формально принадлежащие к истории лит-ры сочинения явл. философскими в
более широком смысле слова, т.к. пользуются истор. материалом для прояснения фундаментальной концепции сущности истории и
стремятся проникнуть в глубинную логику истор. движения. При этом искусство и вообще худож. проявления культуры оказывают-
ся центральными в теории Б., в этом отношении продолжающего и углубляющего филос. тенденцию Зольгера. Б. рассматривает ис-
кусство как ключ к истории и миру. Его подход обогащен всем опытом сверхутонченной культуры, пережившей “декаданс” и “мо-
дерн”; Б. отчетливо осознает всю ее зыбкость и хрупкость в совр. эпоху, катастрофич. характер самой эпохи, к-рая ломает традиц.,
сложившийся тип европ. культуры. Отсюда в творчестве Б., с одной стороны, адекватный его пониманию культуры тонко-
эссеистич., вдохновенный, порой даже поэтически-рапсодич. стиль, а с др., — трезвость ученого, не дающего увлечь себя филос.
мифотворчеством. Такая неразрывная двусторонность определила тип филос. мышления Б.: критик духовно-истор. школы в лит-
ведении и философии истории, он в известной мере следует ее стилю, методам и приемам и рассматривает историю как некое дви-
жение. В то же время полюсы филос. мышления Б. не противоречат друг другу, но создают своего рода целостность, в к-рой совме-
щаются и опосредствуют друг друга весьма разнообр. филос. и научные мотивы, определяющие горизонт мысли Б. Через своего
друга Г. Шолема Б. рано познакомился с кругом культурно-филос. идей сионизма; в сер. 20-х гг. Б. сближается с марксизмом и в
1925-26 посещает Москву (Б. принадлежит часть статьи о Гёте в 1-м изд. БСЭ). Этот визит оставил у него крайне двойств, впечатле-
ние. Однако и в дальнейшем Б. постоянно обращался к философии марксизма, и прежде всего к истор. материализму. Известная
поэтич. элитарность весьма естественно соединяется у Б. с глубоким пониманием положения угнетенных классов и всей серьезности
рабочего движения, материализм — с наследием духовно-истор. школы, истор. материализм — с мессианизмом, все время заново
осмысливаемым, экон. понимание истории под влиянием марксизма — со своеобр. экзистенциальным ее рассмотрением, смысл к-
рого остается у Б. еще недостаточно раскрытым (зашифрованность принадлежит стилю мысли Б., к-рая почти сознательно рассчи-
тана на затрудненное, замедленное восприятие). Написанные незадолго до гибели афористически-краткие тезисы “О понятии исто-
рии” и примыкающий к ним “Теолого-полит. фрагмент” заключают в себе суть культурно-филос. подхода Б. и обрисовывают всю
широту достигнутого им опосредствования противоположностей. Б. критикует вульгарное понимание прогресса. По его мнению,
прогресс — это штормовой ветер, дующий со стороны рая, буря, к-рая неудержимо гонит к будущему, между тем как перед глазами
отвернувшегося от грядущего растет груда развалин. Стремление понять историю по-новому соединяется с политически актуаль-
ными моментами: так, Б. критикует социал-демократию за конформизм в политике и экономике, раскрывает противоречия вульгар-
но-марксистского, собственно позитивистского (по определению Б.) взгляда на труд, следствием к-рого выступает “эксплуатация
природы, с наивным удовлетворением противопоставляемая эксплуатации пролетариата”. У Й.Дицгена Б. обнаруживает “технокра-
тич. черты”, к-рые “впоследствии встретятся в фашизме”.
Центр., незавершенной работой Б. были “Парижские пассажи” (ее тезисы “Париж, столица 19 столетия”, опубл. в 1955): начатый в
1927 труд эволюционировал под влиянием работ Лукача и Э. Блоха и заключал в себе целостный анализ париж. культуры эпохи
Бодлера в единстве ее многообр. проявлений от высокого искусства до быта и рекламы с раскрытием присущего новейшему време-
ни понимания товара, анализ одновременно социол., психол. и психоаналитический. Более популярное изложение взглядов Б. на
перелом в истории искусства и всей культуры содержится в статье “Произведение искусства в эпоху его техн. воспроизводимости”
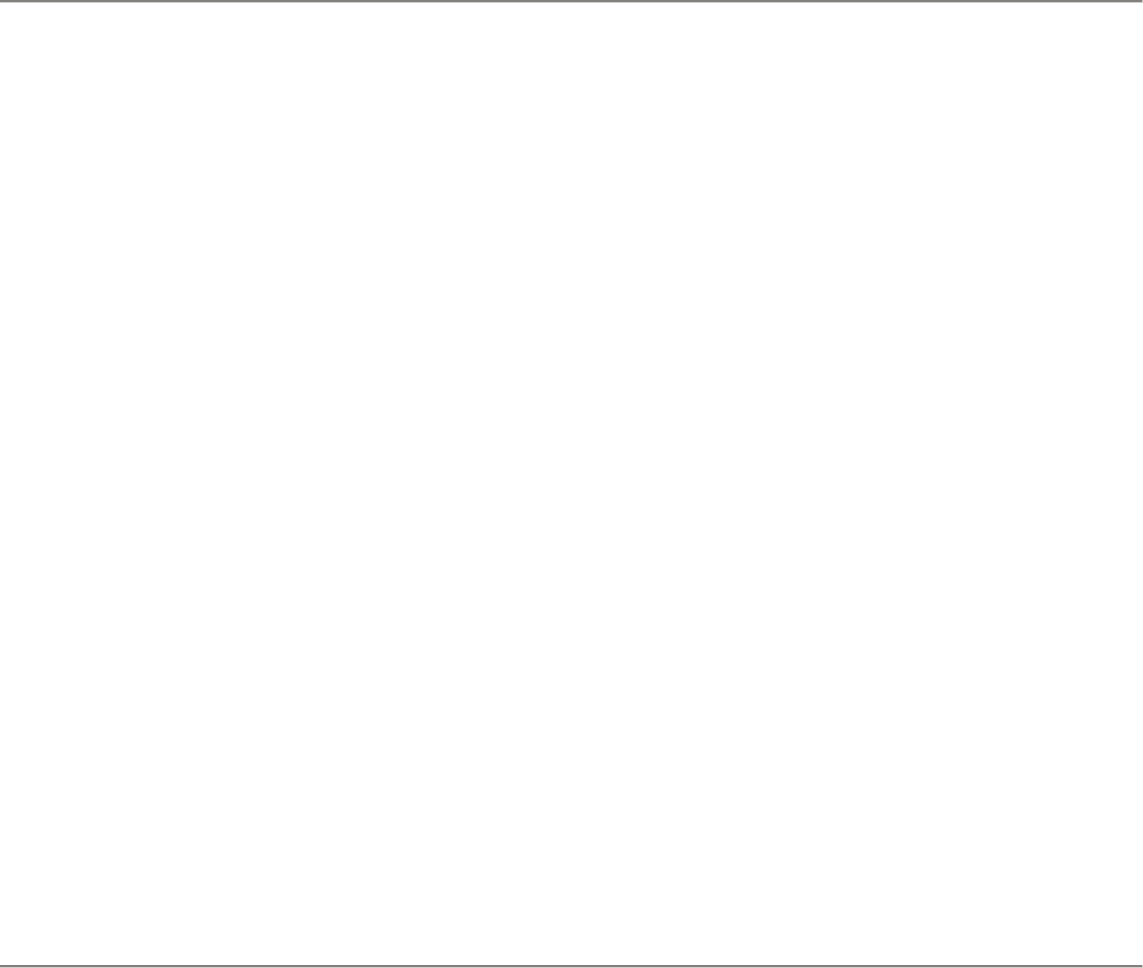
70
(впервые изд. на франц. яз., 1936), где и говорится об утрате худож. созданием “ауры” своей уникальности и даются характеристики
новой, массовой культуры. Б. сохранил независимость по отношению к руководителям Франкфурт, социол. школы Адорно и Хорк-
хаймеру, к-рых не устраивала полит, левизна Б., его открытость леворадикальным мыслителям типа Э. Блоха. Можно отметить нек-
рую культурно-критич. общность между “Понятием худож. произведения...” Б., “Теорией романа” Лукача (1916) и “Духом утопии”
Блоха (1918).
Посмертное влияние творчества Б. началось с 1955, с переиздания ряда его работ по инициативе Адорно. Воздействие идей Б. с го-
дами нарастает и углубляется в силу того, что все более отчетливо послеживается родство культурно-истор. исканий Б. с новым,
постепенно осознающим себя направлением, ориентирующимся на концепцию целостности истории и философии культуры (куль-
турологии), а также между присущей Б. многозначностью (неоднозначностью), принципиальной незавершенностью и неисчерпае-
мостью мысли и совр. философией, скорее задающей вопросы, чем настаивающей на ответах. Наконец, учение Б. вполне соответст-
вует эклектизму культуры “постмодернизма”. Б. все еще остается недостаточно изученным, не вполне раскрытым и всецело сохра-
няющим свою актуальность философом культуры.
Соч.: Gesammelte Schriften. Bd. 1-3. Fr./M., 1991;
Париж — столица XIX столетия // Историко-философ-ский ежегодник. 1990. М., 1991; Теория искусства у ранних романтиков и
позднего Гёте // Логос. М., 1993.
Лит.: Roberts J. Walter Benjamin. L; Basingstoke, 1982;
Pensky М. Melancholy Dialectics. Amherst, 1993.
А. В. Михайлов
БЕРГЕР (Berger) Питер Людвиг (р. 1929) - амер. социолог, культуролог и философ, один из ведущих представителей феноменоло-
гич. социологии знания, проф., директор Ин-та экон. культуры Бостонского ун-та.
Область науч. исследований — история и философия религии, антропология, обширная сфера культурных реальностей, истолкован-
ных через призму социологии познания. В работах “Шум торжественных ассамблей” (1961), “Амбивалентное видение” (1961), “Ли-
цом к современности. Очерки по проблемам об-ва, политики и религии” (1977) Б. проводит культурологич. различие между церков-
ной религиозностью и нетрадиц. верой. Высоко оценивая феномен веры в созидании культуры, Б. выступает против секуляризации
совр. обществ. сознания, критикует концепции “смерти Бога” и “постхристианской эры”, утверждая, что секуляризованные миро-
воззрения не в состоянии ответить на коренные вопросы человеч. существования.
Значит, место в культурологии Б. уделено обоснованию социол. знания, его специфики и предназначения. В книге “Введение в со-
циологию” (1963) Б. раскрыл взаимосвязь между “человеком в об-ве” и “об-вом в человеке”. Оценивая социологию как форму соз-
нания, Б. раскрывает обществ, жизнь как драму, обосновывая вместе с тем гуманистич. перспективу развития культуры.
Многие социальные проблемы Б. трактует прежде всего через культурную антропологию. Так, абсурдной в антропол. смысле ока-
зывается идея “перманентной революции”, кит. “культурная революция”. Радикальность и консерватизм социологии можно уподо-
бить, следовательно, позиции человека, к-рый думает смело, но действует осторожно, сознавая свою свободу и ее границы.
По мнению Б., предшественником социологии познания явился историцизм в его дильтеевском варианте. Значит, внимание Б. уде-
лил реификации социальной реальности, т.е. представлению о социальных феноменах как о “вещах”; разрабатывал феноменолог.
версию социологии знания (совм. с Т. Лукманом).
Критикуя традиц. учения, занимающиеся анализом лишь теор. знания, он обратил внимание исследователей на обыденное, дотеоре-
тическое знание. Интерпретативная социология Б. настаивает на уважении к идеалам и верованиям людей как некоей социокультур-
ной реальности. Б. уделяет значит, внимание пониманию как методу постижения культурных феноменов и интерпретации разл.
смыслов, значимых в их повседневной жизни.
Б. выступил также как социальный мыслитель, изучающий причины культурных мутаций в об-ве. В трудах “Сознание вне очага”
(1973), “Пирамиды жертв” (1975), “Лицом к современности” (1977), “Капиталистич. революция” (1986), “Восточно-азиатская пер-
спектива” он рассматривает соотношение обществ, и культурных факторов в общей динамике истории, сопоставляет социальные и
культурные циклы, выявляет механизмы модернизации, т.е. преображения об-ва по зап. стандарту. Спектр культуролог, интересов
Б. весьма широк Соч.: The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge (with Luckmann Т.). N.Y., 1966; The
Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion. N.Y., 1967; The Heretical Imperative: Contemporary Possibilities of
Religious Affirmation. N.Y., 1979; The Capitalist Revolution. Aldershot etc., 1987; Капиталистическая революция: 50 тез. о процветании,
равенстве и свободе. М., 1994.
П.С. Гуревич
