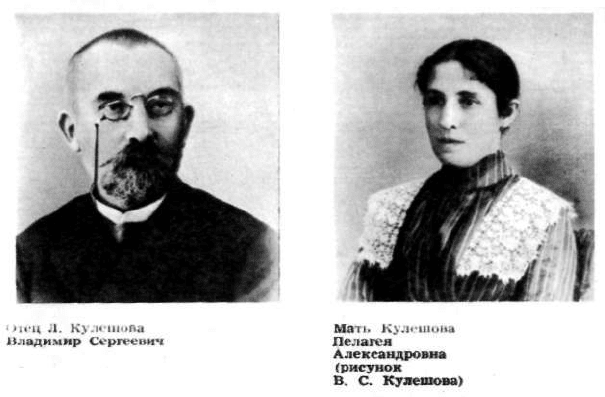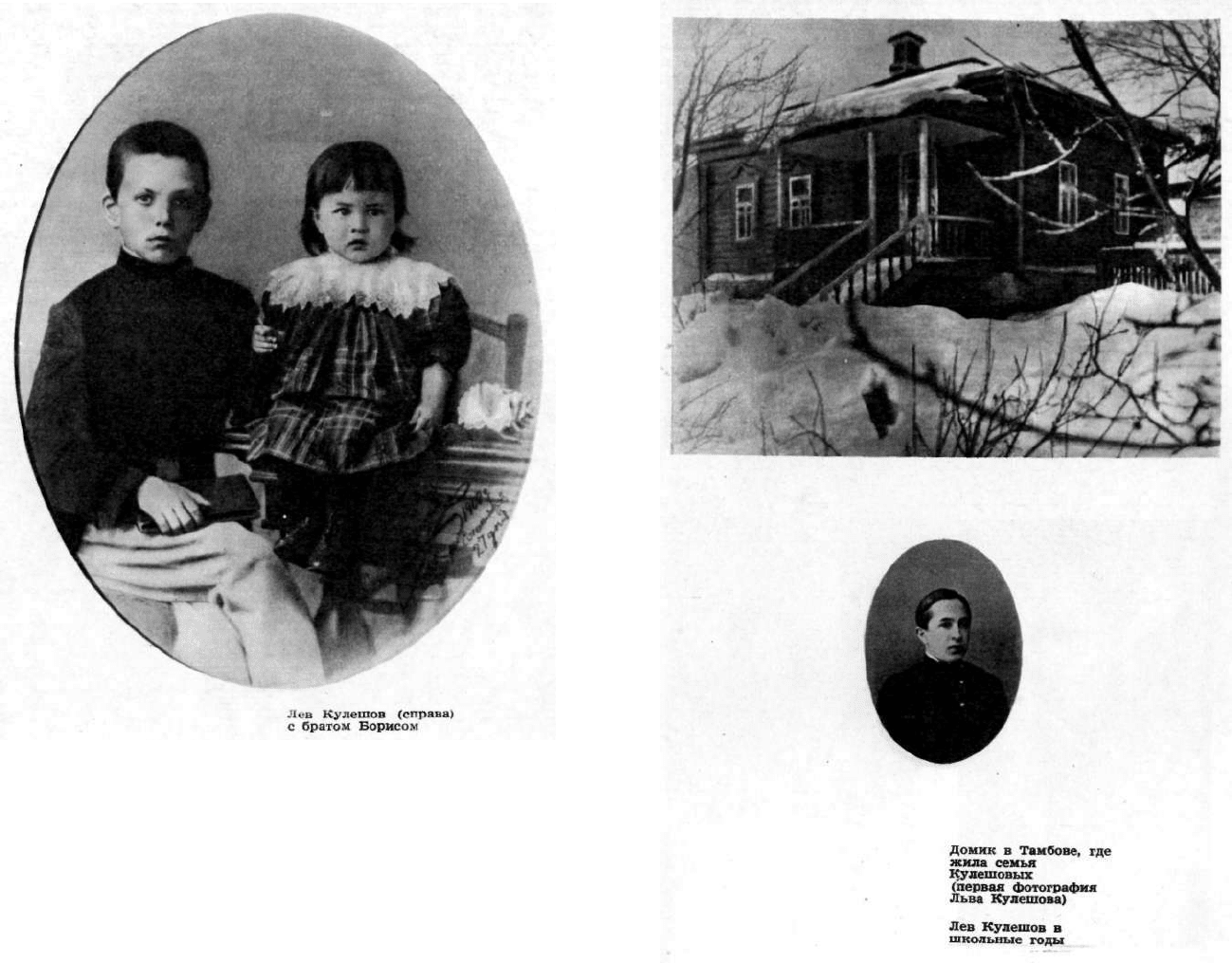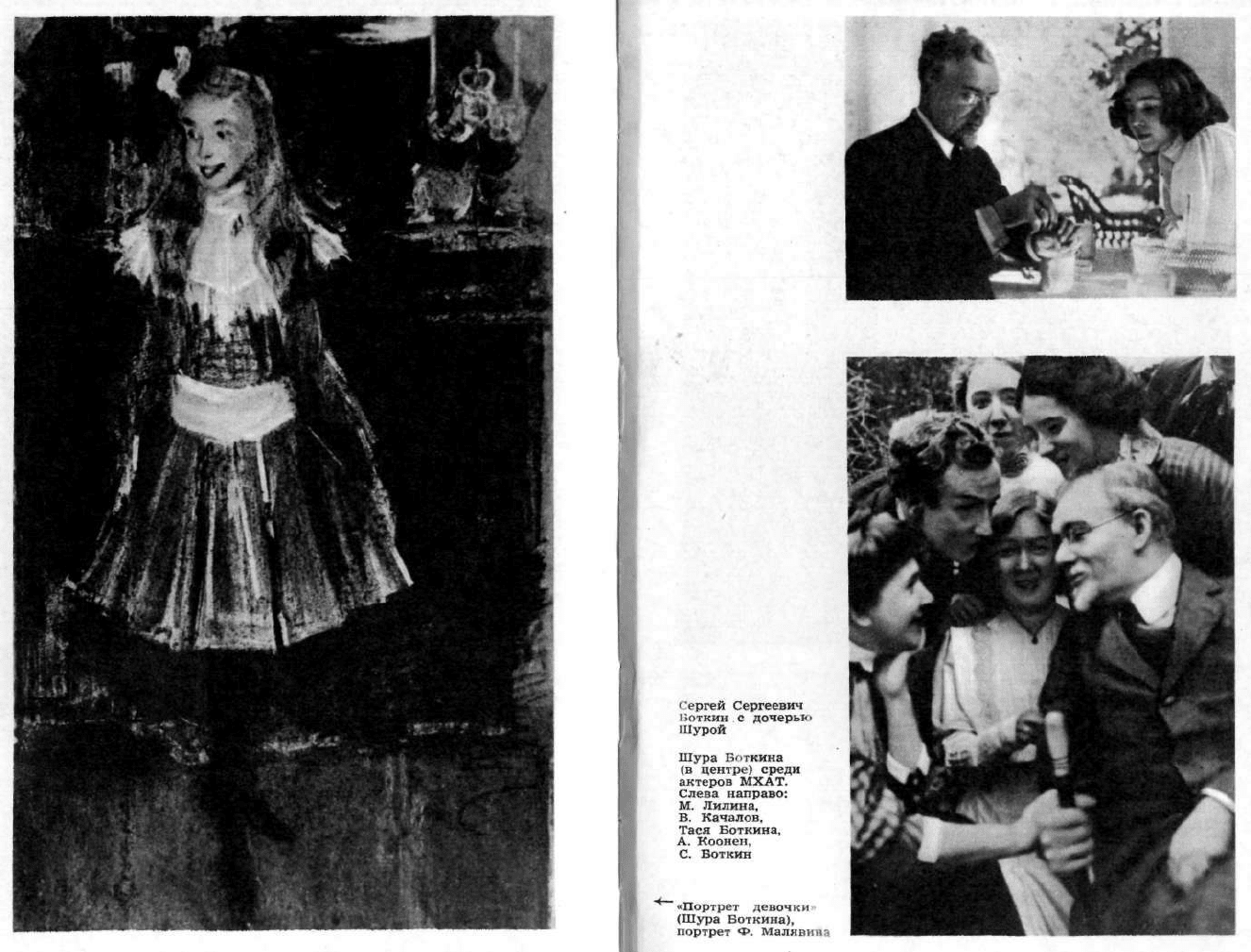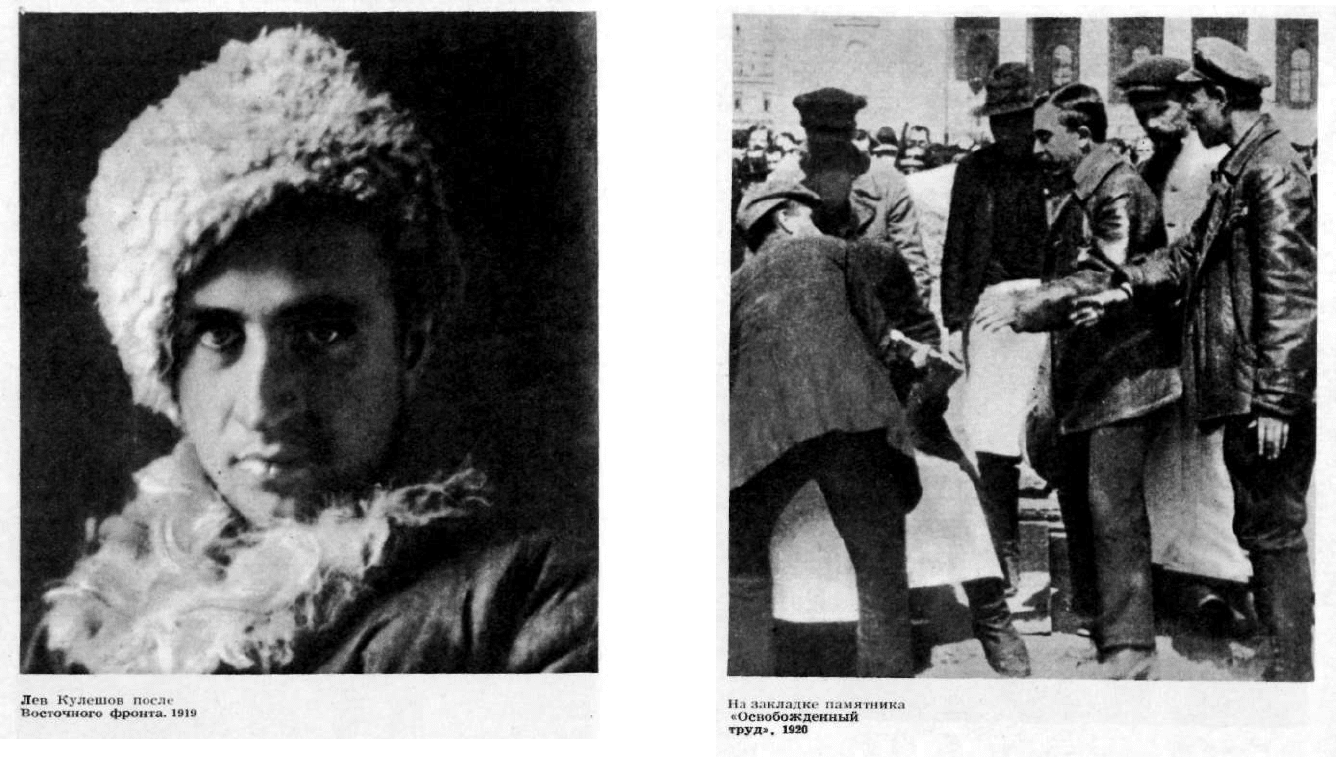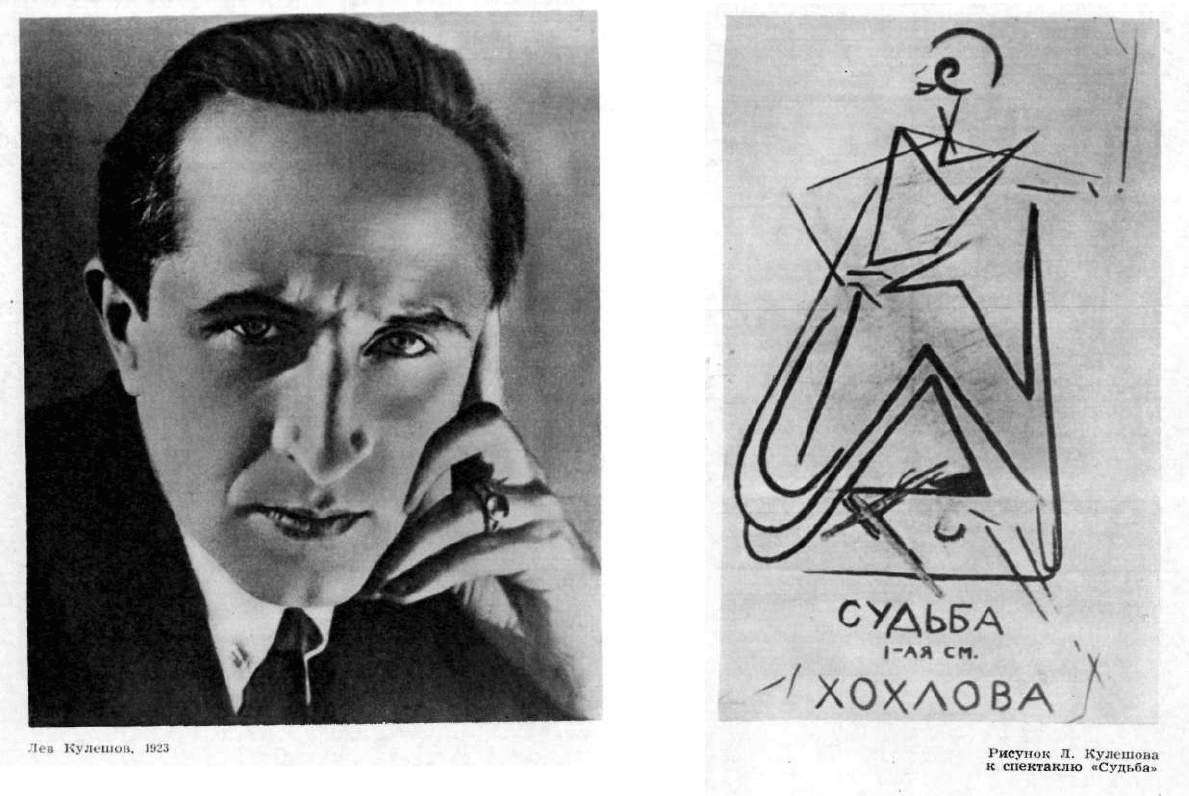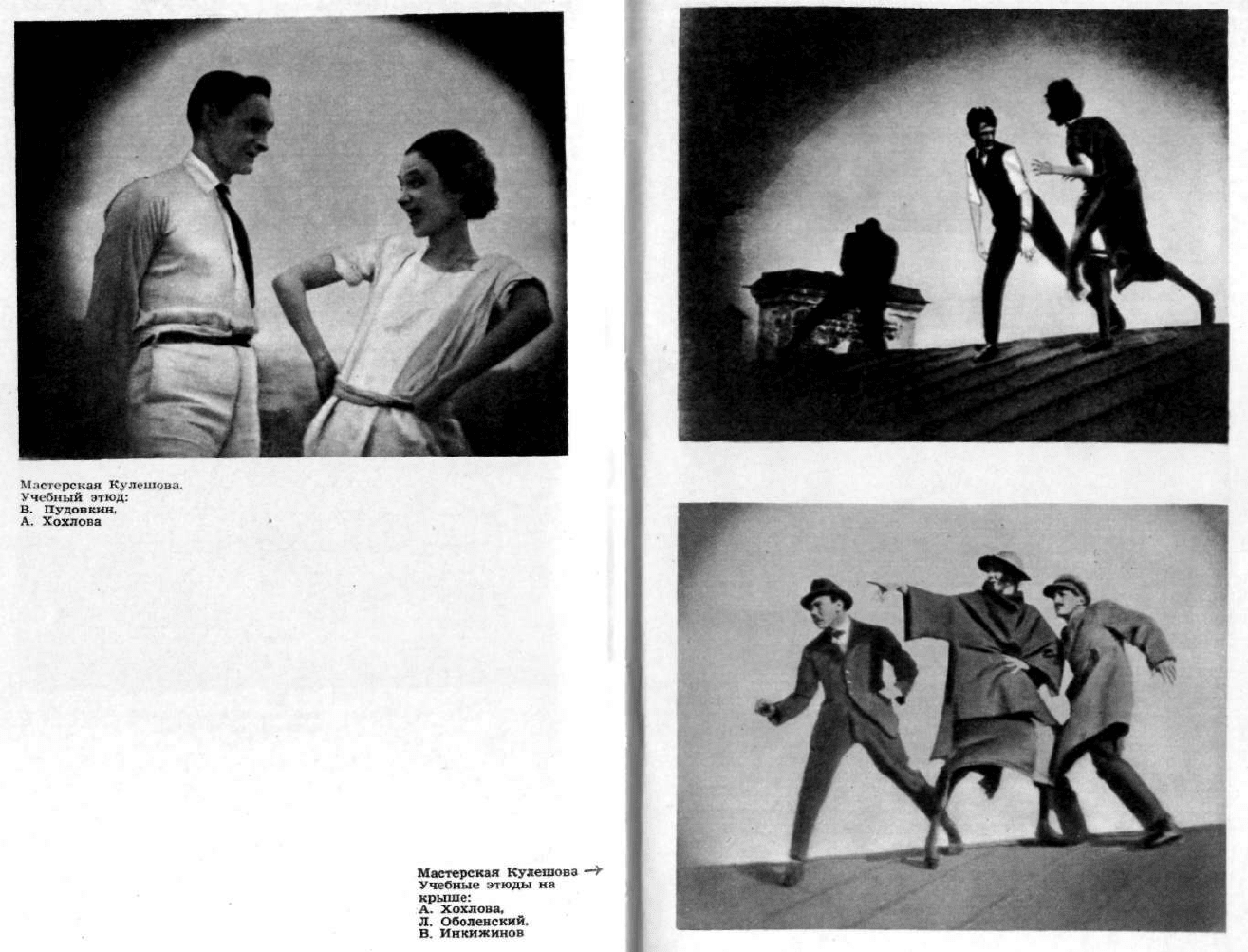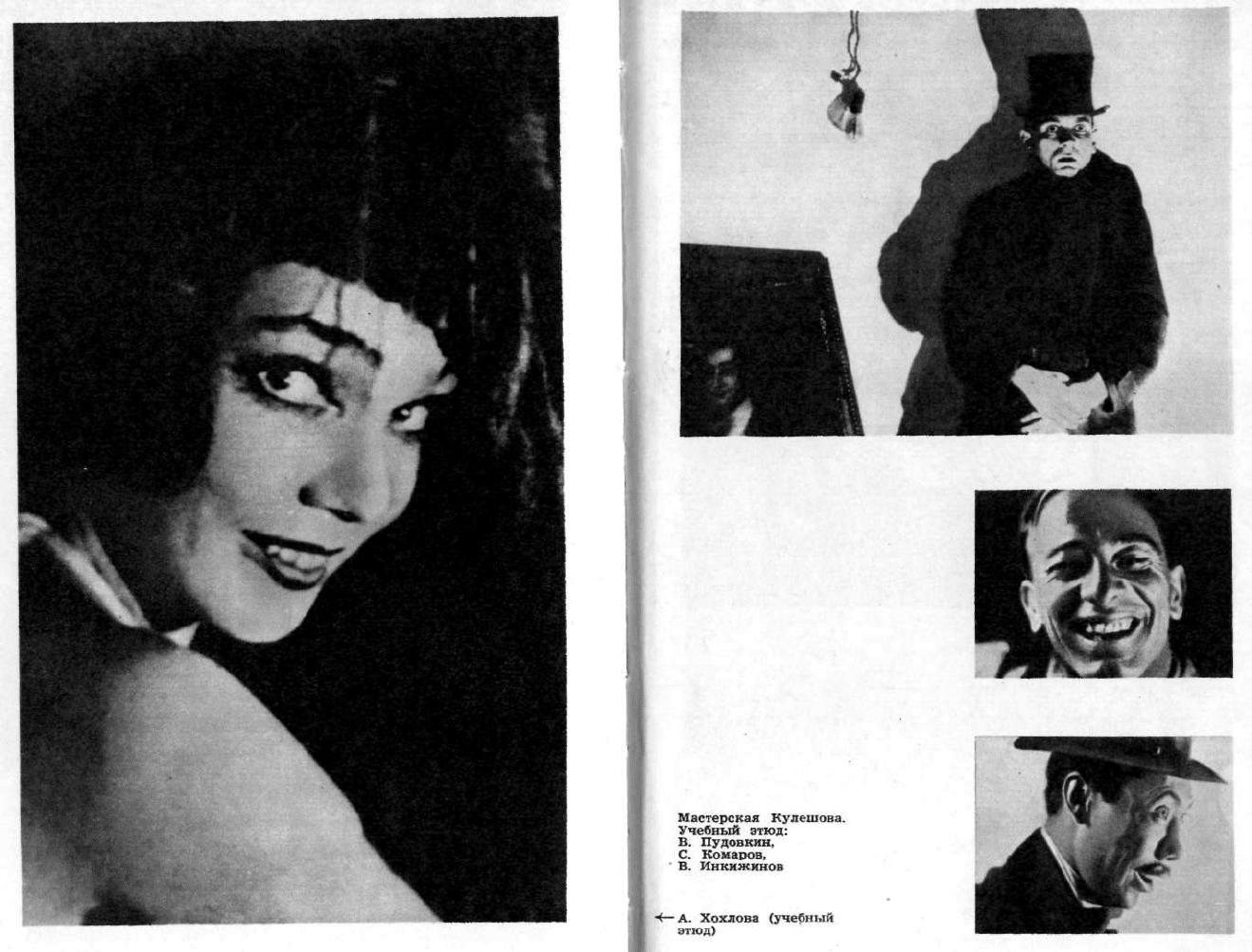Кулешов Л. 50 лет в кино (1975)
Подождите немного. Документ загружается.

Поэтому стоит заново оценить по заслугам опыт Куле-
шова, который не только самоотверженными усилиями
преодолел тогдашнюю несовершенную технику, но и за-
ложил основы системы, принципиально противоположной
всем устоям капиталистического кинопроизводства.
Он создал школу, коллектив единомышленников, объе-
диненных не только эстегическои верой, но и этическими
обязательствами, направленными к полной отдаче всех
сил любимому искусству. Стоит прочесть несколько стра-
ниц соавтора книги «50 лет в кино» А. Хохловой, повест-
вующих о том, с какой самозабвенной преданностью, в
каких условиях жесточайшей и добровольной самодис-
циплины, с каким вдохновением и энтузиазмом работали
они в те годы, чтобы в полной мере оценить подвижниче-
ство этой школы и ее вдохновителя Кулешова.
И в этом смысле советская кинематография все еще не
извлекла всех уроков из примера Кулешова. Ведь прин-
ципы, которые он заложил в своем коллективе,— это не
«групповщина», не элитарная «кастовость», а те самые
принципы коллективизма, которые невозможны ни при
какой другой системе, ни в каком другом государстве,
кроме советского, где художник, освобожденный от влас-
ти денежного мешка, может свободно экспериментиро-
вать, развивать и обогащать накопленный опыт.
Не только американская, но и вся западноевропейская
система обезлички творческих и технических работников
кино, находящихся во власти богатых, но безграмотных
и самодовольных продюсеров, противоположна принципу
добровольного творческого объединения единомышленни-
ков, творящих социалистическое искусство.
Ведь опыт советской кинематографии двадцатых го-
дов, во многом опирающийся на принципы, впервые вы-
двинутые Кулешовым, опыт по созданию творческих
коллективов, соревнующихся и в то же время помогаю-
щих друг другу, оказался плодотворным, и можно только
посетовать, что впоследствии он не получил дальнейшего
усовершенствования, уступив место некритическому пе-
реносу в наши условия некоторых элементов западной
методики организации производства.
Лишь в последние годы опыт формирования творчес-
ких объединений на студиях (к сожалению, еще не дове-
денный до совершенства) снова оживил и впитал в себя
славные традиции начинаний Кулешова.
В таком же, если не большем долгу находится сегод-
няшнее советское кино перед Кулешовым и в вопросе о
300
проведении предварительных репетиций, пропаганде ко-
торых он отдавал столько сил.
Метод этот имеет глубоко принципиальное значение и
не только в экономическом разрезе, хотя он является
весьма важным для государственного понимания эконо-
мики кинопроизводства: ведь система предварительных
репетиций, на которых так последовательно настаивал
Кулешов, действительно резко удешевляет стоимость са-
мого дорогого съемочного процесса.
Но еще более важно то, что, согласно методике Куле-
шова, центр тяжести творческого процесса переносится
на период, когда над художником еще не висит «дамок-
лов меч» сроков и сметы, когда он может спокойно про-
бовать и искать. Ясно, что такая методика позволяет рас-
ширить плацдарм творческих поисков, столь необходимых
для создания произведения подлинного искусства.
Я не говорю уже о том, что метод предварительных
репетиций наносит удар по всякому дилетантизму, по той
часто самодовольной любительщине и ремесленничеству,
которые, к сожалению, еще бытуют на наших студиях. Не
говорю, наконец, и о том, что этот метод является как бы
продолжением и закреплением традиций коллективного
творчества, заложенных еще Станиславским и Немирови-
чем-Данченко при основании Художественного театра.
Вот почему наряду с открытием «эффекта» монтажа
мы должны воздать должное Кулешову и за все осталь-
ные его новации, которые еще не оценены нами полной
мерой. А между тем в своей совокупности они и придают
его образу то значение, которое позволяет считать его
подлинным зачинателем того, что мы называем сегодня
культурой советской кинематографии.
Поэтому нельзя без внимания читать эту книгу, где
Кулешов и Александра Хохлова — не только верный со-
ратник режиссера, но и сама художник большого дарова-
ния и культуры — синхронно описывают свой творческий
и жизненный путь.
К сожалению, судьба Хохловой как актрисы типична
не только для нее одной. Схожие с ней по своей резко
нестандартной индивидуальности такие актрисы, как Се-
рафима Бирман, Юдифь Глизер, Фаина Раневская, также
не могут занести в свой репертуар завидное количество
ролей на театральных подмостках, а в кино лишь, может
быть, одна Раневская должна быть благодарна случаю,
позволившему ей в содружестве с Габриловичем и Ром-
301
мом создать одну из своих самых выдающихся трагико-
медийных ролей в фильме «Мечта».
Эти трудности своей актерской судьбы Александра
Хохлова как бы компенсировала своей плодотворной пе-
дагогической деятельностью, воспитав вместе с Кулешо-
вым несколько поколений советских кинематографистов.
И не зря в начале этих строк, продиктованных лю-
бовью и уважением к ушедшему от нас мастеру, я назвал
его чародеем-нигромантом. Сегодняшние ученики Куле-
шова выпуска ВГИКа 1968 года поздравили его словами,
к которым я могу только присоединиться:
«Лев Владимирович не похож на профессора. Споря,
он говорит, что может вслепую склеить целую часть филь-
ма. Сидя за рулем с закрытыми глазами, он предлагает
въехать в самые узкие ворота. Тоже на спор. Он приучает
и к искусству спорному. Он разбирает его не в рамках
установившихся ценностей, а возникающих заново, по-
стоянно... И мы любим его искусство. Мы любим его кни-
ги, фильмы, рисунки. Он не похож на профессора. Он, ско-
рее, мудрый волшебник, раздающий добро легко и весело.
Он добрый волшебник...»
ИЛЛЮСТРАЦИИ