Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография
Подождите немного. Документ загружается.

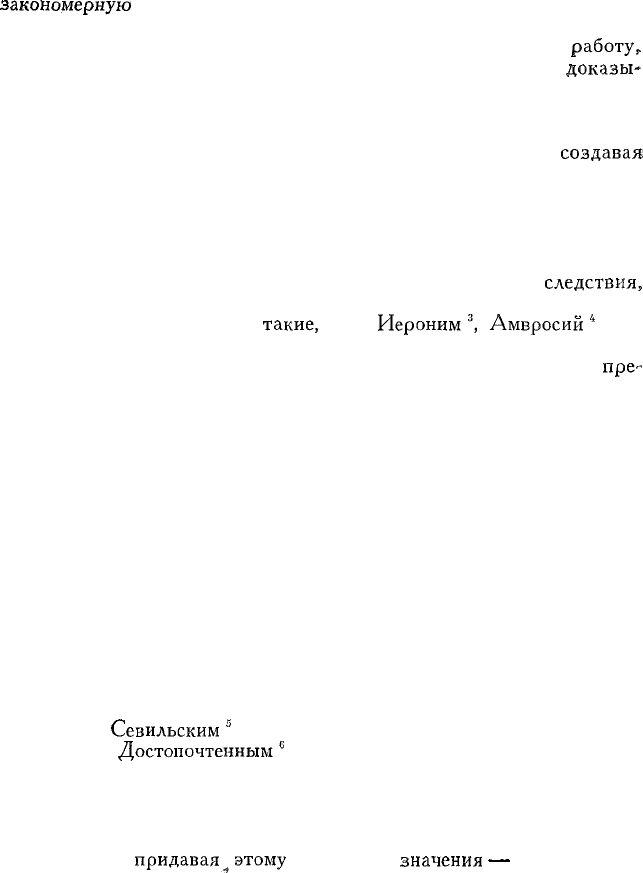
Характерные черты христианской историографии 5Т
последовательность, в центре которой — рождение-
Христа.
Решая ту же самую задачу, Евсевий создал и другую
так называемое «Praeparatio Evangelica» *, в которой он
вал, что дохристианская история мира может рассматриваться как.
процесс, задуманный таким образом, чтобы найти свою кульми-
национную точку в Воплощении. Иудейская религия, греческая
философия, римское право объединяются в его работе,
почву, на которой христианское Откровение только и могло
пустить свои корни и созреть: если бы Христос был рожден
в мир в любое иное время, то этот мир был бы просто неспосо-
бен принять его.
Евсевий был всего лишь одним из представителей большого·
числа мыслителей, стремившихся разработать в деталях
вытекавшие из христианской концепции человека. Когда мы
видим, что отцы церкви,
как
или
даже Августин, с презрением и враждебностью говорят о языче-
ской учености и литературе, то мы должны помнить, что это
зрение вытекает не из недостатка образованности или варварско-
го безразличия к знанию как таковому, но из страстности,
с которой эти люди, провозгласившие новый идеал знания и стал-
кивавшиеся с яростной оппозицией, трудились над переориента-
цией всей структуры человеческой мысли. В случае истории, а мы
здесь занимаемся только ею, эта переориентация не только возоб-
ладала со временем, но и оставила свои плоды в виде непреходя-
щих завоеваний исторической мысли.
Подход к истории как, в принципе, к истории мира в целом,
в рамках которой войны, подобные войнам Греции с Персией,
Рима с Карфагеном, рассматриваются беспристрастно не с точки
зрения победы одной из враждующих сторон, а с точки зрения
влияния их исхода на будущие поколения,— такой подход стал
общим местом. Символом этого универсализма оказывается при-
нятие единой хронологической системы отсчета для всех истори-
ческих событий. Единая универсальная хронология, изобретенная
Исидором
в седьмом столетии и популяризирован-
ная Бедой
в восьмом, датирующая все проис-
шедшее временем до и после рождества Христова, ясно показы-
вает, откуда пришла ее идея.
Общим местом стала и идея провиденциализма. Нас учат
в наших школьных учебниках, например, что англичане — между
делом и не
большого
в восемнадца-
том столетии создали "империю: т.. е. они осуществили то, что при
ретроспективной оценке представляется как проведение в жизнь
некоего плана, хотя в то время никакого сознательного плана
не существовало.
* «Приготовление к Евангелию» (лаг.).
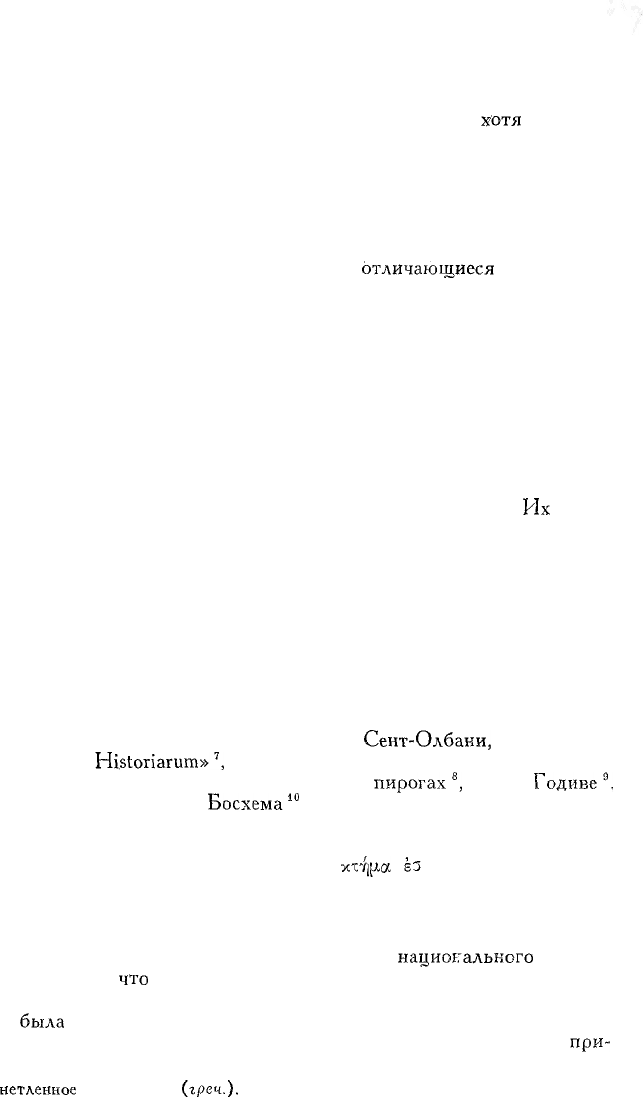
52 Идея истории. Часть II
Общим местом стала и апокалиптическая идея,
историки
относят ее кульминационный, апокалиптический момент к самым
различным временам и событиям: к Ренессансу, изобретению
книгопечатания, научному движению семнадцатого столетия,
Французской революции, либеральному движению девятнадцатого
века или даже, как историки-марксисты — к будущему.
И идея эпохальных событий стала общим местом, а вместе
с ней и деление истории на периоды,
характерны-
ми чертами. ;
Все эти элементы, столь знакомые современной исторической
мысли, полностью отсутствовали в греко-римской историографии
и были старательно разработаны мыслителями раннего хри-
стианства.
§ 3. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
Средневековая историография, посвятившая себя разработке
указанных концепций, с одной стороны, представляет собой про-
должение эллинистической и римской историографии.
метод
остается неизменным. Средневековый историк все еще черпает
•фактический материал из преданий и не располагает эффектив-
ным оружием критической оценки этих преданий. Здесь он подо-
бен Ливию, со всеми его достоинствами и недостатками. У него
нет никаких средств для изучения того, как возникли эти преда-
ния, дошедшие до него, и для анализа их различных компонен-
тов. Его критика носит чисто личный, ненаучный, несистемати-
ческий характер, и это часто подводит его, и он нам кажется
неумно доверчивым. Но, с другой стороны, он часто обнаружи-
вает замечательные стилистические достоинства, силу воображе-
ния. Например, смиренный монах из оставивший
нам «Flores
приписанные Матвею из Вестминсте-
ра, поведал нам о короле Альфреде и
леди
короле Кнуте на берегу
и т. д. Все это, может быть,
и сказочные истории, но они — немеркнущие жемчужины нашей
литературы и не меньше, чем история Фукидида, заслуживают
того, чтобы их бережно сохраняли как
αεί *.
Однако в отличие от Ливия средневековый историк обрабаты-
вает свой материал с универсалистской точки зрения. И в сред-
ние века существовал национализм, но историк, зараженный
национальными антипатиями или чувством
превос-
ходства, знал,
поступает плохо. Его задачей было не хвалить
Англию или Францию, но поведать о gesta Dei **. Для него исто-
рия
не просто драмой человеческих устремлений, в которой
он принимал ту или иную сторону, но процессом, которому
сокровище
деяния божьи (лат.).
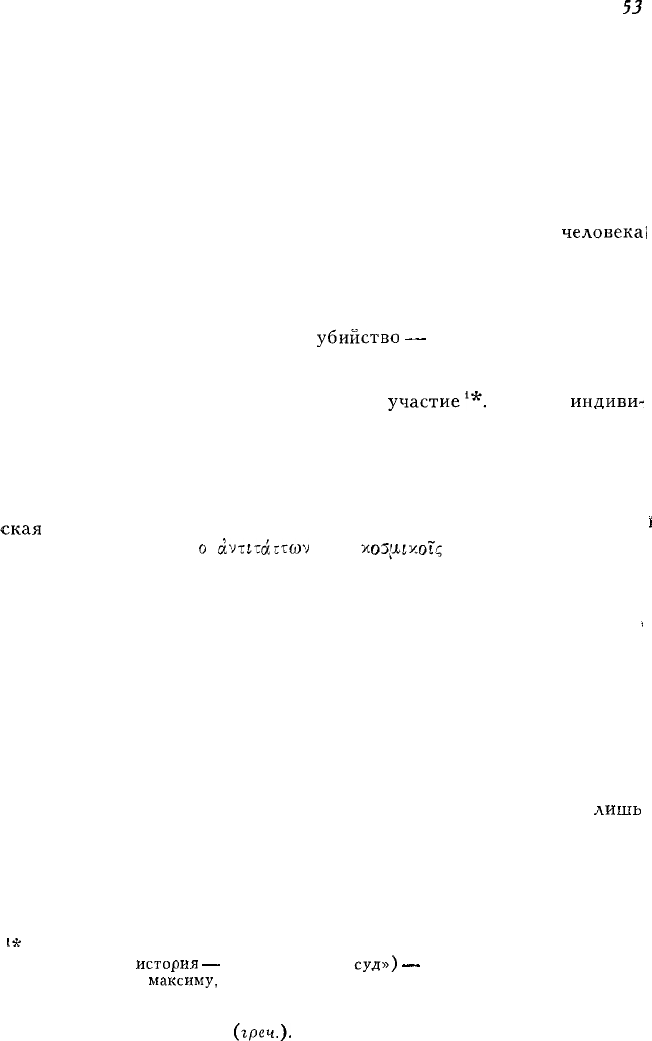
Средневековая историография
суща внутренняя объективная необходимость. Самые мудрые и
сильные люди вынуждены подчиниться ей не потому, что, как
у Геродота, бог — разрушительное и вредоносное начало, но по-
тому что бог, будучи провидцем и творцом, имеет собственный
план и никому не позволит помешать его осуществлению. Поэтому
человек, действующий в истории, оказывается втянут в боже-
ственные планы, и те увлекают его за собой независимо от его
согласия. История как воля бога предопределяет самое себя,]!
и ее закономерное течение не зависит от стремления
управлять ею. В ней возникают и реализуются цели, не плани-
руемые ни одним человеческим существом. Даже те, кто думает,
что они противодействуют им, на самом деле способствуют их
исполнению. Они могут убить Цезаря, но не в силах помешать
падению республики. Само это
новое и дополнитель-
ное обстоятельство, содействующее этому падению. Следователь-
но, общий ход исторических событий — критерий оценки действий
индивидуумов, принимающих в нем
Долг
дуума — стать добровольным инструментом для достижения
его объективных целей. Если он выступит против них, то ему
не удастся остановить или изменить ход истории. Все, чего он
добьется, так это лишь своего осуждения, того, что все его усилия
окажутся тщетными, а жизнь прожита впустую. Это патристиче-;j
доктрина. Ранний христианский писатель Ипполит опре-
деляет дьявола,
как
τοις
*.
Великой задачей средневековой историографии было открыть
и разъяснить этот объективный, или божественный, план. Он раз-
вертывался во времени, и потому его осуществление проходило
последовательно ряд этапов. Размышления над этой последова-
тельностью и породили концепцию исторических эпох, каждая из
которых начиналась с какого-нибудь эпохального события. Но по-,
пытка выделить исторические периоды — показатель развитой
и зрелой исторической мысли, не боящейся истолковывать факты,
а не просто устанавливать их. Однако и здесь, как и в других
областях, средневековая мысль, отнюдь не лишенная смелости
и оригинальности, оказалась неспособна выполнить свои обеща-
ния. Чтобы проиллюстрировать это, я воспользуюсь всего
одним примером — примером средневековой периодизации исто-
рии. В двенадцатом столетии Иоахим Флорский разделил историю
на три периода: царствование бога-отца, или невоплощенного
бога, т. е. дохристианская эра; царствование бога-сына, или хри-
Знаменитый афоризм Шиллера «Die Weltgeschichte ist das Weltgericht»
(«Всемирная
это всемирный
представляет собой старую
средневековую
возрожденную в конце восемнадцатого столетия.
Он типичен для того культа средневековья, который был характерен для
многих романтиков.
* враг всего миропорядка
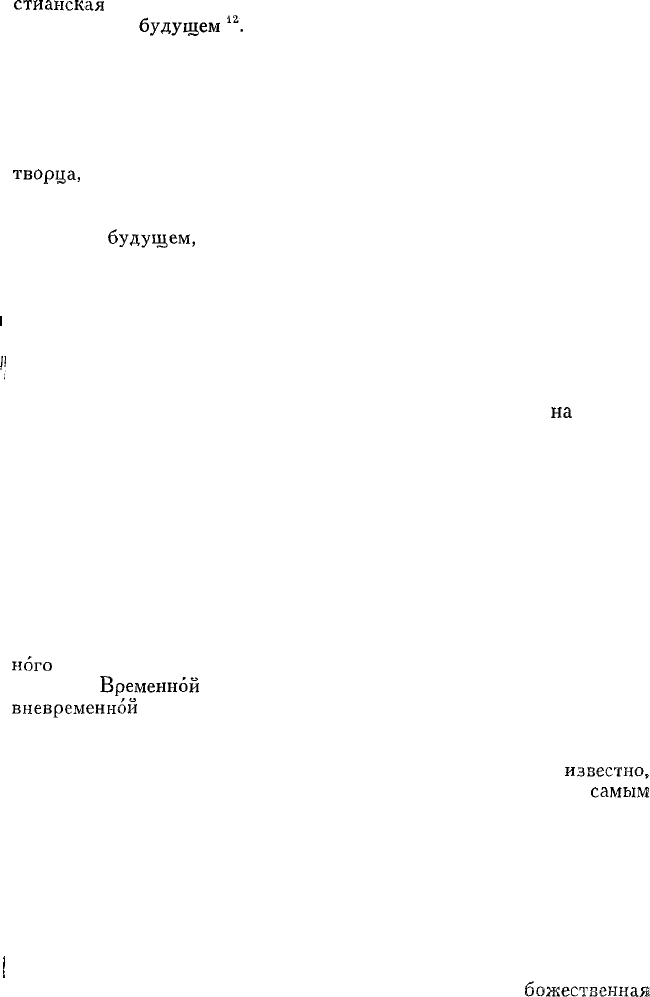
54 Идея истории. Часть II
эра; царствование святого духа, которое должно было
начаться в
Это обращение к будущему свидетель-
ствует об одной важной черте средневековой историографии.
Если бы от средневекового историка потребовали объяснить, как
он узнал, что история протекает в соответствии с неким объек-
тивным планом, он ответил бы — через божественное Откровение.
Оно — часть того, что Христос открыл людям о боге. И это
Откровение давало ключ не только к пониманию прошлых деяний
но показывало нам и его будущие намерения. Христово
Откровение, следовательно, позволяло нам охватить мыслью исто-
рию всего мира в целом — от его сотворения в прошлом до его
конца в
ту историю, какой она представляется вневре-
менному и вечному видению бога. Таким образом, средневековая
I историография предвидела конец истории, конец, предопределен-
ный богом и ставший известным людям через его Откровение.
Поэтому она включала в себя эсхатологию.
Эсхатология всегда является чужеродным элементом в исто-
рии. Дело историка — знать прошлое, а не будущее. Если же
историки претендуют на то, чтобы определить будущие события
до того, как они произошли, то это верный признак,
основа-
нии которого мы можем с уверенностью сделать вывод о какой-то
порочности самой их концепции истории как таковой. Более того,
мы можем точно определить, в чем состоит этот порок. Здесь
происходит следующее: они расщепляют единую реальность исто-
рического процесса на две отдельные части (на ту, которая опре-
деляет, и на ту, которая определяется), на абстрактный закон
и простой факт, на всеобщее и отдельное. Они гипостазируют все-
общее, превратив его в некое ложное единичное, существующее
само по себе и для себя, и тем не менее продолжают рассматри-
вать его в этой его изоляции как нечто, определяющее ход кон-
кретных событий. Всеобщее, будучи изолированным от времен-
процесса, действует не в нем самом, но только воздействует
на него.
процесс здесь — нечто пассивное, формируемое
силой, воздействующей на него извне. И так как
эта сила действует совершенно одинаковым образом во все вре-
мена, то, зная, как она действует в настоящем, мы понимаем
также, как она будет действовать в будущем. Если нам
как она направляла поток событий в одно время, мы тем
знаем, как она направит его в другое время. Поэтому мы можем
предсказывать будущее. Отсюда в средневековой мысли полная
противоположность между объективной целью бога и субъектив-
ными целями человека мыслится таким образом, что цель бога
навязывает истории некий объективный план, совершенно не зави-
сящий от субъективных целей человека. А это с необходимостью
ведет к идее о том, что намерения людей никак не влияют на ход
истории, а единственной силой, направляющей ее, оказывается
божественная природа. Поэтому, предположив, что
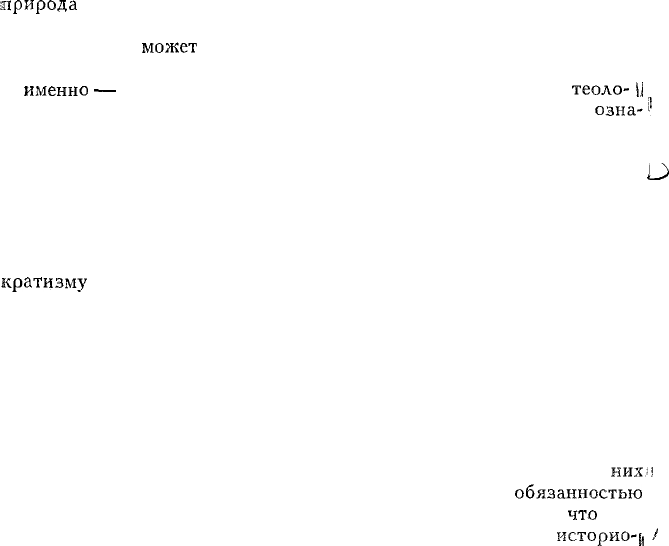
Средневековая историография 55
дана в Откровении веры, те, кому она дана, могут благо-
даря силе веры знать, каким должно быть будущее.
Все это
показаться близким к субстанциализму.
На самом же деле мы сталкиваемся здесь с чем-то совсем иным,
а
с трансцендентализмом. Бог в средневековой
гии — не субстанция, а чистый акт. Трансцендентализм же
чает, что деятельность божества мыслится не как проявляющаяся
в человеческой деятельности и посредством ее, а как действующая
извне и управляющая ею, не имманентная миру человеческого
действия, а трансцендентная этому миру.
В данном случае произошло следующее: маятник мысли кач-
нулся от абстрактного и одностороннего гуманизма греко-римской
историографии к столь же абстрактному и одностороннему тео-
средневековой. Деятельная роль провидения в истории
была признана, но признана таким образом, что человеку ничего
не оставалось делать. Одним из следствий этого было, как мы
видели, ошибочное убеждение историков в том, что они могут
предсказывать будущее. Другим следствием было то, что, стре-
мясь обнаружить общий план истории и веря, что этот план при-
надлежит богу, а не человеку, они стали заниматься поисками
сущности истории вне самой истории, пренебрегая деяниями люд-
скими, для того чтобы открыть план божественный. Вследствие
этого конкретные факты человеческой деятельности стали для
чем-то малозначительным. Они пренебрегли первой
историка — его готовностью любой ценой установить,
же
произошло в действительности. Вот почему средневековая
графия так слаба в смысле критического метода. Эта слабость''
не случайна. Она определяется не скудостью источников и мате-
риалов, находившихся в распоряжении ученых. Она зависит не от
ограниченности того, что они могли делать, а от ограниченности
того, что они желали делать. Они стремились не к точному и науч-
ному исследованию подлинных фактов прошлого, а к точному
и научному изучению атрибутов божества, к теологии, прочно
•основанной на двойном фундаменте веры и разума, к теологии,
позволившей бы им определять априори, что должно было
произойти и что должно будет произойти в ходе исторического
процесса.
Все это обусловило то, что в глазах ученого-историка того
типа, который не заботится ни о чем другом, кроме точности
в передаче фактов, средневековая историография не просто неудов-
летворительна, но преднамеренно и отталкивающе ложная. Исто-
рики девятнадцатого столетия, которые, как правило, и занимали
именно такую чисто академическую позицию в своем отношении
к природе истории, воспринимали эту историографию с крайней
антипатией. Сегодня же, когда мы менее одержимы требованием
критической точности и больше заинтересованы в интерпретации
фактов, мы можем смотреть на нее более дружелюбными глазами.
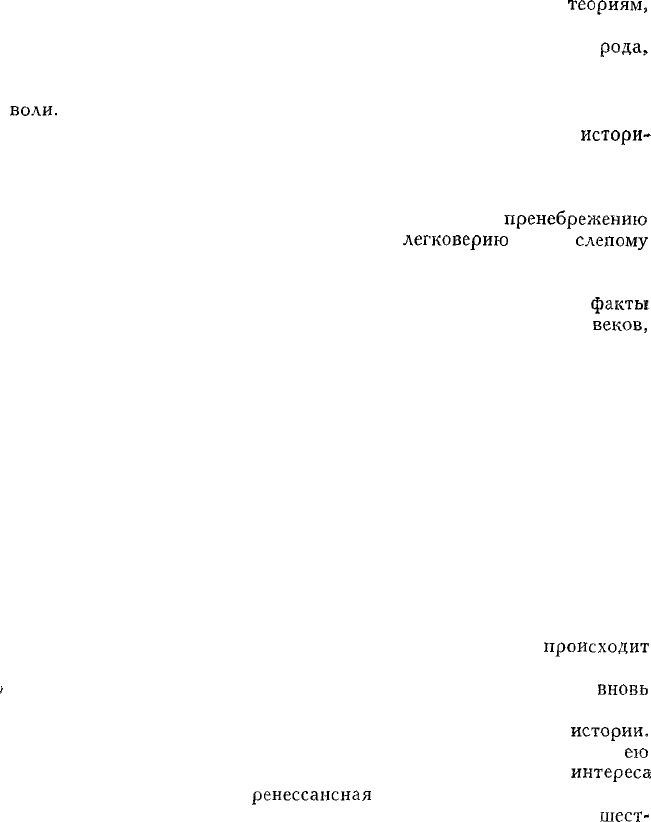
/
56 Идея истории. Часть II
Мы столь далеко зашли на пути, возвращающем нас к средне-
вековой точке зрения на историю, что возникновение и падение
наций и цивилизаций является для нас результатом действия
какого-нибудь закона, закона, имеющего мало общего с намере-
ниями и целями людей, составлявших эти нации и цивилизации.
И не так уж плохо, по-видимому, мы сейчас относимся к
которые утверждают, что крупномасштабные исторические измене-
ния обязаны своим происхождением диалектике особого
действующей объективно и формирующей исторический процесс
в соответствии с необходимостью, не зависящей от человеческой
Все это несколько сближает нас со средневековыми
ками, и, если мы хотим избежать ошибок, свойственных идеям
этого рода, изучение средневековой историографии полезно для
нас потому, что оно показывает, как антитеза между объективной
необходимостью и субъективной волей ведет к
исторической точностью, к ненаучному
и к
принятию традиции. У средневекового историка были все основа-
ния для ненаучности, понятой в этом смысле: в то время никто
еще не открыл, как критиковать источники и устанавливать
научным образом. Все это сделала историческая мысль тех
которые последовали за средневековьем. Для нас же сейчас, когда
эта работа уже проделана, нет извинений. И если бы мы пошли
назад, к средневековой концепции истории со всеми ее ошибками,
то тем самым мы бы продемонстрировали и ускорили то падение
цивилизации, которое, может быть, и преждевременно, уже сейчас
провозглашают некоторые историки.
§ 4. ИСТОРИКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Одной из главных задач европейской мысли в конце средних
веков было осуществить переориентацию исторических исследова-
ний. Великие теологические и философские системы, дававшие
основу для априорных определений общего плана истории, пере-
стали внушать доверие, и вместе с Ренессансом
возврат к гуманистическому взгляду на историю, основывавше-
муся на гуманизме античности. Академическая точность
становится важной, потому что действия людей перестают казать-
ся ничтожными в сравнении с божественным планом
Историческая мысль снова ставит человека в центр рисуемой
картины. Но, несмотря на это новое пробуждение
к греко-римской мысли,
концепция человека глубоко
отличалась от греко-римской, и когда Макьявелли в начале
надцатого столетия высказывает свои идеи об истории, комменти-
руя первые десять книг Ливия, он отнюдь не воспроизводит
взгляды Ливия на историю. Человек для историка эпохи Возрож-
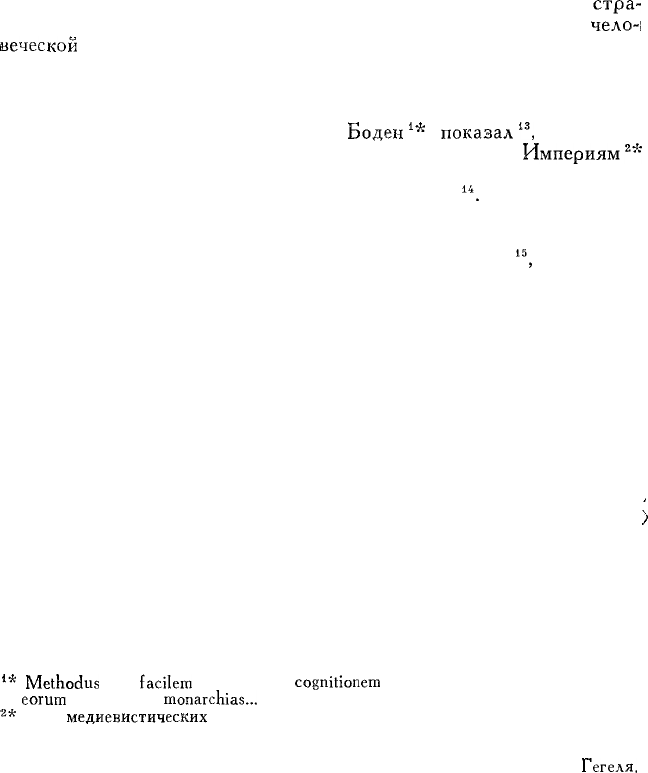
Историки Возрождения 57
дения не был похож на человека, обрисованного античной фило-
софией, управляющего своими действиями, творящего собствен-
ную судьбу силой своего интеллекта. Это был человек, как его
представляла христианская мысль,— существо страстное и импуль-
сивное. История поэтому становилась историей человеческих
стей, которые рассматривались как необходимое проявление
природы.
Благим плодом этого нового подхода мысли была прежде всего
та великая чистка всего фантастического и недостоверного, что
содержалось в средневековой историографии. Например, в сере-
дине шестнадцатого столетия Жан
что при-
нятая в истории схема периодизации по четырем
основывалась не на точном истолковании фактов, а на произволь-
ной схеме, заимствованной из Книги Даниила
А многочислен-
ные ученые, в большинстве случаев итальянцы, занялись опровер-
жением тех легенд, в которые многие страны облекали свое незна-
ние собственного происхождения. Полидор Вергилий
например,
в начале шестнадцатого столетия разрушил старое предание об
основании Британии Брутом-троянцем и заложил основы крити-
ческой истории Англии.
К началу семнадцатого столетия Бэкон оказался в состоянии
подвести итоги всему этому развитию, разделив свою карту зна-
ния на три большие области — поэзию, историю и философию,—
управляемые тремя способностями человеческого духа — вообра-
жением, памятью и разумом. Сказать, что память владычествует
над историей, равносильно утверждению, что главная задача исто-
рии — воскрешать в памяти и регистрировать факты прошлого
такими, какими они были в действительности. Тем самым Бэкон
настаивает на том, что история должна быть прежде всего интере-
сом к прошлому ради него самого. Это — отрицание претензий ,
историка на то, чтобы предвидеть будущее, и в то же самое
время отрицание идеи, согласно которой главным делом историка
является познание божественного замысла, проходящего через
факты. Его интересуют факты сами по себе.
ad
historiarum
(1566), Cap. VII: «Confutatio
qui quatuor statuunt».
Для
тенденций романтизма конца восемнадцатого века,
о которых я уже упоминал в связи с Шиллером, весьма характерно то, что
Гегель воскрешает эту давно опровергнутую схему четырех Империй в своем
параграфе о мировой истории в конце «Философии права». Читатели
привыкшие к его неистребимой привычке делить любой предмет, по канонам
его диалектики, на триады, с удивлением обнаруживают, что схема мировой
истории, приводимая на заключительных страницах этой книги, делится на
четыре раздела, озаглавленные «Восточная империя», «Греческая империя»,
«Римская империя», «Германская империя». Читатель здесь склонен думать,
что наконец-то факты оказались слишком сильными для гегелевской диалек-
тики. Но отнюдь не факты сломали его диалектическую схему. Это — вос-
становление средневековой периодизации.
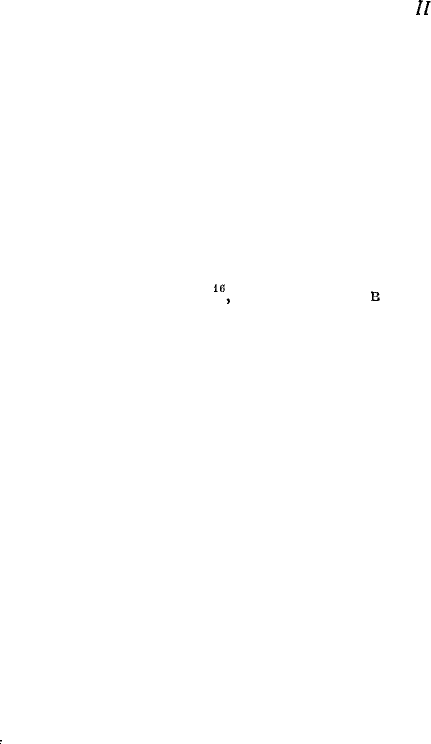
58 Идея истории. Часть
Но положение истории, понятой таким образом, было не очень
определенным. Она освободилась от ошибок средневековой мыс-
ли, но ей все еще нужно было найти свой собственный предмет.
У нее была определенная программа — возрождение прошлого,
но она не располагала ни методами, ни принципами, руковод-
ствуясь которыми она могла бы осуществить эту программу.
В действительности же бэконовское определение истории как
области памяти было ошибочным, потому что прошлое только-
тогда нуждается в историческом исследовании, когда его не пом-
нят и не могут вспомнить. Если бы его можно было вспомнить,
то не было бы нужды в историках. Уже во времена Бэкона, его
современник Кемден
занимаясь —
лучших традициях Ренес-
санса — топографией и археологией Британии, показал, как забы-
тая история может быть реконструирована на основании опреде-
ленных данных, точно так же, как естествоиспытатели, работав-
шие в то же время, строили на основании своих данных научные
теории. Вопроса, как усилиями мысли историк восполняет пробелы
своей памяти, Бэкон так никогда и не поставил.
§ 5. ДЕКАРТ
Творческая мысль семнадцатого столетия сосредоточилась на
проблемах естественных наук и обошла проблемы исторической
науки. Декарт, как и Бэкон, делил все человеческое знание на
поэзию, историю и философию, добавив к ним четвертую
область — теологию. Но свой новый метод он применил только
к одной философии с ее тремя основными разделами: математи-
кой, физикой и метафизикой, ибо лишь здесь он надеялся достичь
надежного и достоверного знания. Поэзия, говорил он,— больше
природный дар, чем научная дисциплина; теология зависит от
веры в Откровение; история же, как бы она ни была интересна,
и поучительна, и ценна для формирования практического отноше-
ния к жизни, не могла притязать на истину, ибо события, описы-
ваемые ею, никогда не происходили так, как она их описывала.
Поэтому революция в познании, которую планировал и осуще-
ствил Декарт, не дала ничего исторической мысли, потому что
он не считал историю областью знания в строгом смысле этого
слова.
В этом плане заслуживает пристального внимания один пара-
граф, посвященный истории, из первой части его «Рассуждения
о методе».
«Но я полагаю, что посвятил уже достаточно времени языкам,
а также чтению книг древних с их историями и небылицами.
Беседовать с писателями других веков — почти то же, что путе-
шествовать. Полезнее познакомиться с нравами других народов,
чтобы более здраво судить о наших собственных и не считать,
что все, не согласное с нашими обычаями, смешно и противно
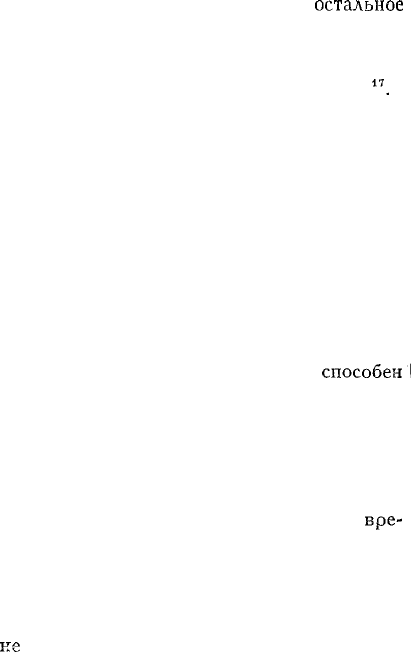
Декарт 59
разуму, как обычно думают те, кто ничего не видел. Но тот, кто
чересчур много времени тратит на путешествия, становится в кон-
це концов чужим в собственной стране, а слишком большая любо-
знательность по отношению к событиям прошлых веков обычно
приводит к весьма большой неосведомленности в делах своего
века. Кроме того, вымыслы вселяют веру в возможность таких
событий, которые абсолютно невозможны; ведь даже самые прав-
дивые повествования, если они не извращают и не преувеличи-
вают значения событий, чтобы сделать чтение более заниматель-
ным, по меньшей мере почти всегда опускают самые низменные
и менее значительные подробности, в силу чего все
представляется не таким, каково оно в действительности, и по-
этому те, кто сообразует свое поведение с примерами, отсюда
извлекаемыми, могут впасть в сумасбродство рыцарей наших
романов и вынашивать замыслы, превосходящие их силы»
Декарт здесь делает четыре замечания, на которые стоит
обратить внимание. 1. История как бегство от реальности: исто-
рик — путешественник, который, пребывая вне дома, становится
чужаком по отношению к собственному времени. 2. Исторический
скептицизм: исторические повествования — недостоверные отчеты
о прошлом. 3. Антиутилитарная идея истории: недостоверные по-
вествования никак не могут помочь нам понять, что в действи-
тельности является возможным и тем самым — как эффективно
действовать в настоящем. 4. История как сфера игры воображе-
ния: даже в лучшем случае историки искажают прошлое, пред-
ставляя его более блестящим, чем оно было на самом деле.
1. В ответ на декартовскую оценку истории как «бегства от
современности» можно было бы сказать, что историк
разглядеть подлинное прошлое только в том случае, если он твер-
до опирается на настоящее. Его задача — совсем не в том, чтобы
полностью отрешиться от своего времени. Он должен во всех от-
ношениях быть человеком своей эпохи и рассматривать прошлое
с точки зрения этой эпохи. Это поистине сильный ответ, но чтобы
дать его, необходимо было дальнейшее развитие теории познания,
развитие, выходящее за рамки теории Декарта. Только во
мена Канта философы поняли познание как процесс, направлен-
ный на объект в соответствии с собственной точкой зрения по-
знающего. Кантианская «коперниковская революция» содержала
в себе в скрытой форме теорию — хотя сам Кант никогда ее и не
разрабатывал,— которая показывала, как возможно историческое
знание, когда историк
только не отказывается от взглядов
своей эпохи, но именно придерживается их.
2. Утверждать, что исторические повествования рассказывают
о событиях, которые не могли произойти, равносильно утвержде-
нию, что у нас есть какой-то критерий, благодаря которому мы
и получаем возможность судить о том, что могло произойти, осно-
вываясь не только на дошедших до нас свидетельствах. Декарт
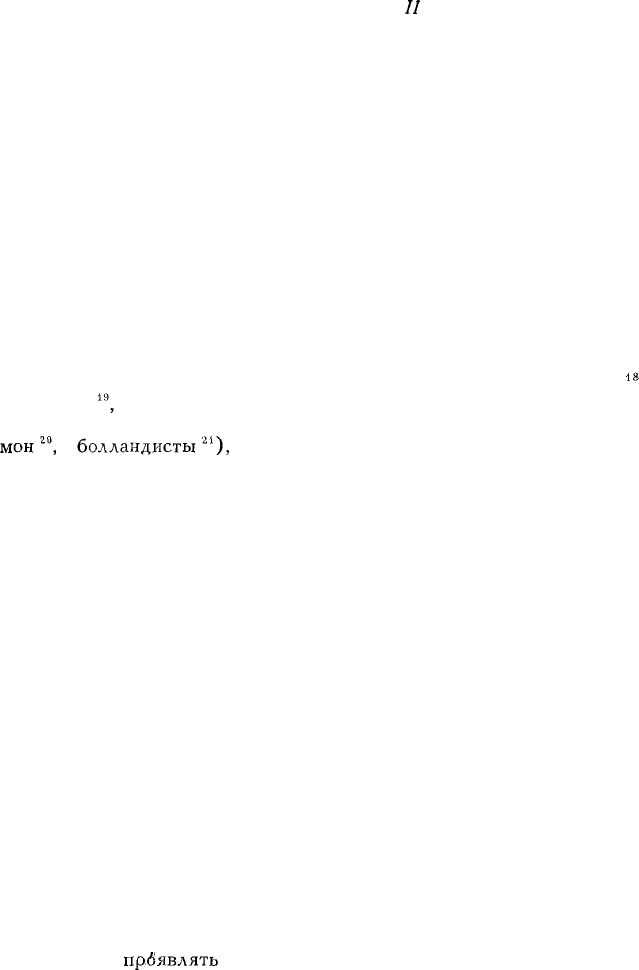
60 Идея истории. Часть
здесь предвосхищает возникновение подлинно критического мето-
да в историографии, полное развитие которого явилось бы ответом
на его собственное возражение.
3. Ученые Ренессанса, возрождая многие элементы греко-рим-
ской концепции истории, возродили и ту ее идею, что история
имеет практическую ценность, ибо учит людей искусству полити-
ки и практической жизни. Эта идея была неизбежна в то время,
когда люди не могли найти теоретических основ для иного под-
хода к истории, согласно которому ценность истории имеет теоре-
тический характер и заключается в ее способности открывать
истину. Декарт был совершенно прав, отвергая эту идею. Факти-
чески он предвосхищает замечание Гегеля из введения к его
«Философии истории», замечание, согласно которому единствен-
ным практическим уроком истории является то, что она никого
и никогда ничему не научила. Но Декарт не видел, что совре-
менные ему исторические труды таких людей, как Быокенен
и Гроций
а в еще большей мере работы историков, принадле-
жавших к поколению, еще только вступавшему в науку (Тилле-
были продиктованы простым стремле-
нием к истине. Прагматическая концепция истории, которую он
критиковал, была в то время мертва.
4. Говоря, что исторические повествования преувеличивают
величие и великолепие прошлого, Декарт фактически предлагает
некий критерий, с помощью которого их можно подвергнуть кри-
тике, а истина, скрываемая или искажаемая ими, может быть
восстановлена. Если бы он продолжал работать в этом направле-
нии, он мог бы создать основы метода исторической критики,
кодекс ее правил. Приведенный выше тезис фактически и стано-
вится одним из этих правил, сформулированных в начале следую-
щего столетия Вико. Но Декарт не понимал этого, потому что
его интеллектуальные интересы были столь определенно сориен-
тированы на математику и физику, что, когда он писал об исто-
рии, он ошибочно принимал плодотворные указания, направлен-
ные на усовершенствование исторического метода, за доказатель-
ство полной невозможности такого усовершенствования.
Таким образом, отношение Декарта к истории было причуд-
ливо-неопределенным. Коль скоро речь идет о его намерениях,
он в своей работе стремился к тому, чтобы поставить под сомне-
ние ценность истории, как бы ее ни понимать, ибо он стремился
отвлечь людей от истории, направить их усилия на развитие точ-
ной науки. В девятнадцатом столетии наука пошла своим, незави-
симым от философии путем, потому что послекантовские идеали-
сты начали
все более скептическое отношение к ней.
Разрыв стал ликвидироваться только в наше время. Это отчуж-
дение было совершенно аналогично тому, которое возникло в сем-
надцатом веке между историей и философией под влиянием анало-
гичной причины — исторического скептицизма Декарта.
