Барашков Ю. Ностальгия по деревянному городу
Подождите немного. Документ загружается.

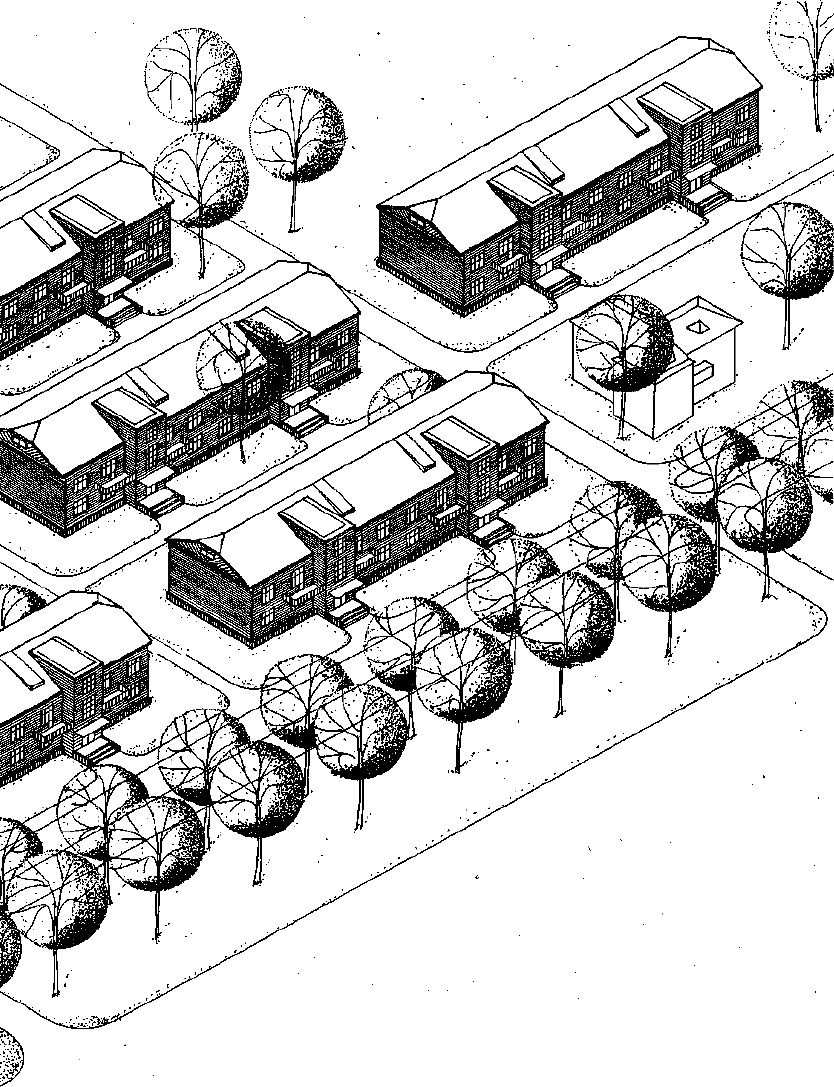
КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ • 141
Преподавательский городок АЛТИ. 1929—1933.
КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ • 142
ся как естественный, прочно ассоциировался с
демократичностью нового строя. Вселяясь в
дом, соседи фотографировались вместе на па-
мять, что сегодня трудно себе представить.
Во многие дома-коммуны распиленные и на-
колотые дрова завозились «общей кучей», из
которой каждый брал сколько ему нужно.
Идея, однако, оказалась утопической, по-
скольку игнорировала неизбежную замкну-
тость семейной жизни. «Эпизодчик Любы к
Вове», отнюдь для этих двоих не ерундовый,
по природе своей чужд коммунальности. Сам
Маяковский до 1917 года блестяще высказался
о диалектике частного и общего: «Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем траге-
зия Гёте». Цинизм? Что ж, походите с гвоз-
дем в сапоге дня три-четыре, не имея другой
обуви на смену, и, пожалуй, вас перестанут
посещать возвышенные мысли. А счастливые
новоселы домов-коммун обосновывались там
не на три дня, недели или месяца — без вся-
ких шансов сменить квартиру в обозримом
будущем.
Для таких домов в теории следовало под-
бирать жильцов, психологически склонных к
коллективизму. На самом деле не до того бы-
ло. Но даже при соблюдении этого условия
дальнейшая динамика социально-культурных
и бытовых потребностей индивидов мало-
предсказуема, изменение же состава семей во-
все не поддается прогнозам. Да и тогдашние
экономические возможности не обеспечивали
хотя бы минимально качественного прожива-
ния в домах-коммунах, очень скоро превра-
тившихся в огромные коммуналки, а еще
позже — в студенческие или аспирантские
«общаги».
Время все расставило по местам. Комму-
ны, основанные, в сущности, на примере сти-
хийно складывавшихся коммуналок, где
объединение усилий жильцов диктовалось не-
обходимостью преодолевать тяжелейшие
внешние обстоятельства, с повышением жиз-
ненного уровня должны были распасться, что
и произошло. Не апеллируя более к умозри-
тельным идеалам, не споря с объективными
социальными процессами, конструктивистская
архитектура обратилась к чисто земной задаче
— дать среднему горожанину удовлетворяю-
щее его самого жилье — и провидчески опре-
делила в качестве такового отдельную
квартиру в секционном доме, предтечей кото-
рого был дореволюционный доходный дом. С
учетом новых экономических условий, подсоб-
ные помещения урезали и уплотнили, отказа-
лись от дополнительных лестниц, свели к
минимуму внутренние переходы.
Первый двухсекционный двухэтажный де-
ревянный конструктивистский дом, известный
как «дом с мансардами», появился у нас в
1930 году на Петроградском проспекте, 17. Он
и теперь стоит под этим номером на проспек-
те Ломоносова. Чуть позже на Северодвин-
ской улице вырос преподавательский городок
АЛТИ из десятка подобных домов, располо-
женных параллельными рядами — так пред-
ставляли себе конструктивисты советский
«бесклассовый» город с одинаковым для всех
жильем. Они любили впервые примененную в
Германии Вальтером Горпиусом полосную
застройку и за то, что она позволяла, на их
взгляд, наилучшим образом ориентировать
квартиры по сторонам света. Каждое здание
имело лаконичную, продуманную компози-
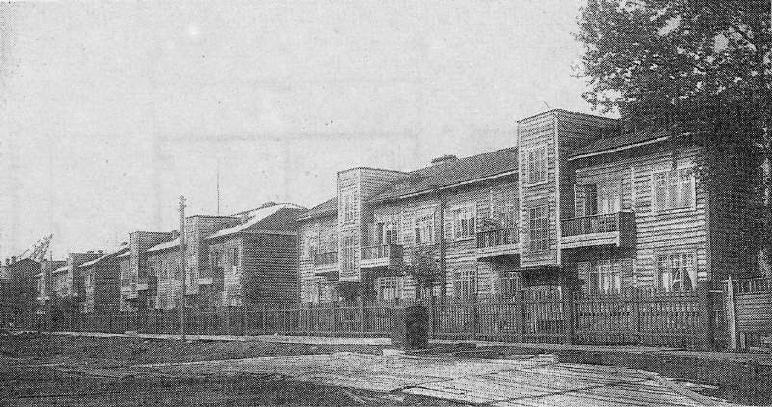
КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ • 143
Преподавательский городок АЛТИ. 1931—1933. Северодвинская ул.
цию, чеканно ясные формы, обладало всеми
стилистическими признаками конструктивиз-
ма: функциональный план, почти пологая
крыша, большие оконные проемы, выдвину-
тые из плоскости фасадов и подчеркнутые
вертикальными полосами остекления лестнич-
ные клетки.
Во всех домах однотипные квартиры, до-
статочно комфортные даже для наших дней:
большая общая комната, две спальни — одна
такого же размера, другая поменьше, про-
сторная кухня, санузел, где со временем мож-
но было свободно разместить ванну.
Позднейшие конструктивистские секцион-
ные дома представляли собой, с точки зрения
внутренней планировки, более или менее удач-
ные вариации на прежнюю тему — две квар-
тиры на лестничной площадке, с комнатой
или без комнаты для домработницы («солид-
ные» семьи держали прислугу вплоть до кон-
ца 50-х годов, когда эта категория лиц
наемного труда практически исчезла).
Проектировщики старались избежать тем-
ных квартир, поэтому дома открыты для со-
лнца и отвернуты от сумрачного, холодного
севера. Из размышлений о пространственных
функциях квартала в городской среде был сде-
лан вывод о важности сквозного прохода че-
рез парадное для освоения внутреннего
пространства двора и его связи с обществен-
ным пространством — улицей.
Помимо того, что конструктивистские жи-
лые здания имели иную, чем старые дома,
«социальную программу», они выделялись в
городе своими размерами (духу и устремлени-
ям эпохи отвечали постройки в три, четыре и
более этажей), заимствованными на Западе
непривычно огромными окнами, полным от-
сутствием декора. Но их формы, образован-
ные сочетанием простейших геометрических
тел, и даже размеры в целом не противоречи-
ли основным характеристикам традиционного
архангельского дома — простоте и массивнос-
ти. Разве что выступавшие из фасадных пло-
скостей лестничные клетки составляли
исключение.
На этом и завершилась скоротечная эво-
люция архангельского деревянного дома в со-
ветский период.
В чем прекрасные и горькие уроки россий-
ского конструктивизма? Было бы очевидной
ошибкой утверждать, что искусство, архитек-
тура в частности, никак не влияют на обще-
ство. Но это — обратное влияние, пределы
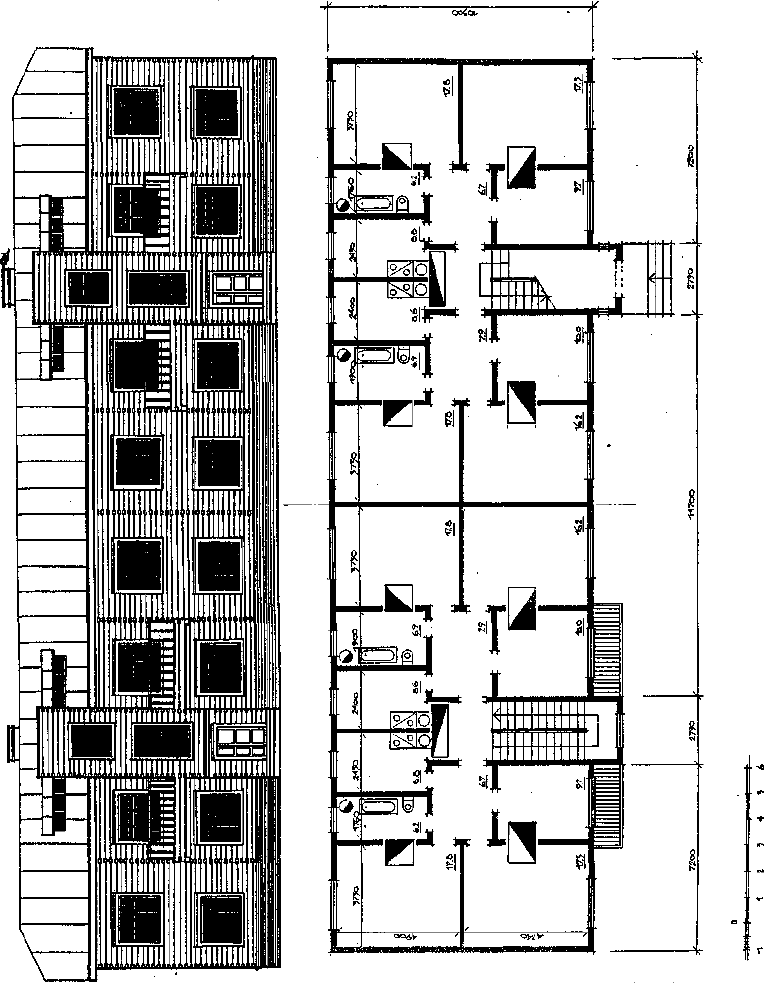
144 • КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ
Жилой дом в преподавательском городке АЛТИ. 1931. Северодвинская ул., 3.
Уличный фасад, планы секций.

КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ • 145
Фрагмент жилого дома. Стоял на месте теперешней
Областной библиотеки. Набережная, 105.
6. Зак. 1635
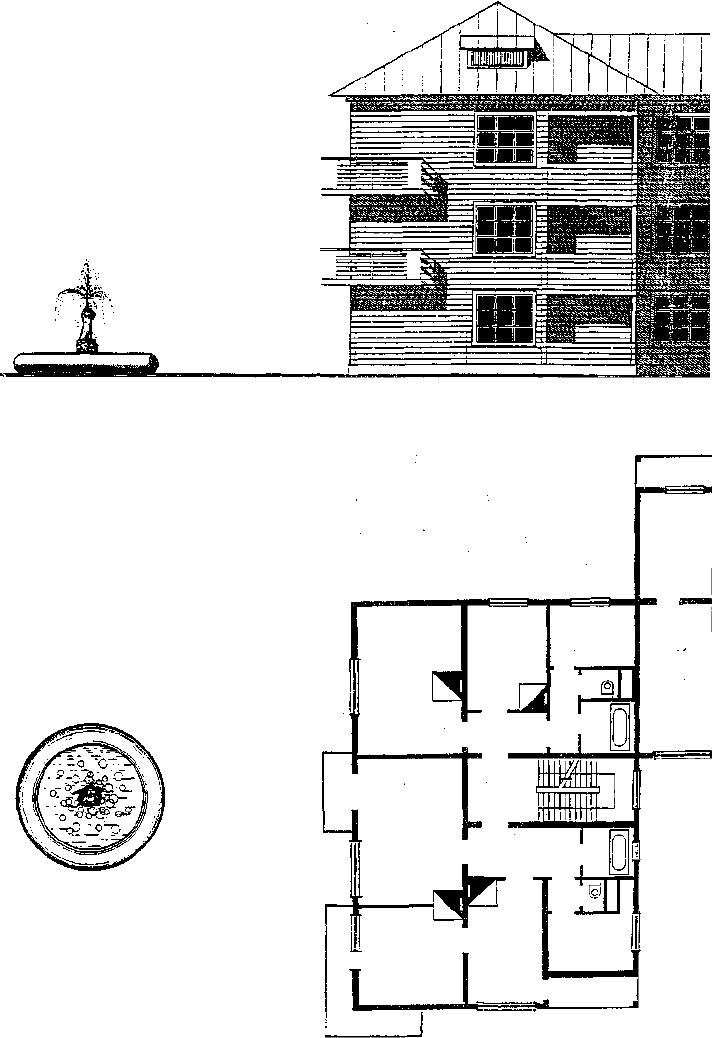
146 • КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ

КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ • 147
Дом Севлеспромстроя. 1934. Ул. Гайдара, 16. Дворовый фасад, план этажа.
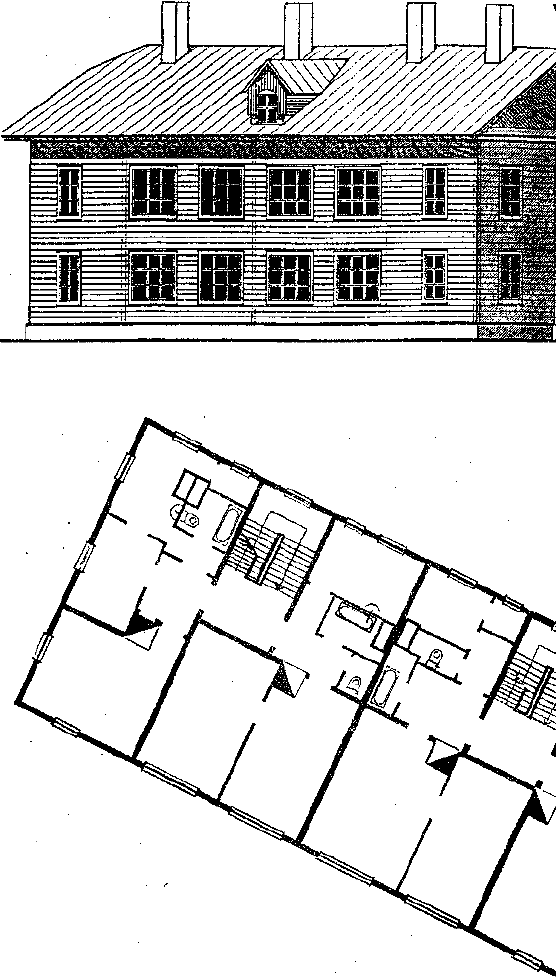
148 • КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ
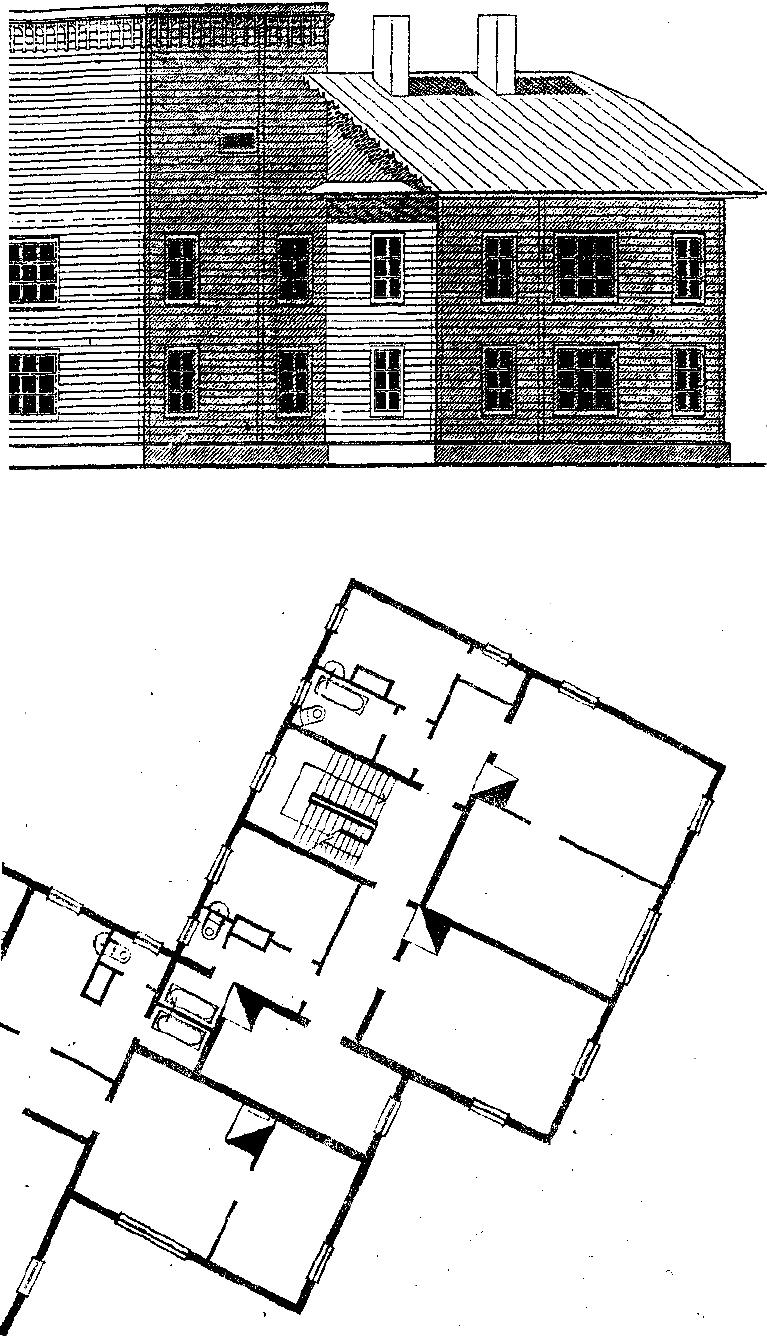
КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ • 149
Жилой дом на Комсомольской ул. Уличный фасад, план этажа.

150 • КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ
Двухсекционный жилой дом. 1935. Пр. Ломоносова, 283. Главный фасад, планы
секций.
