Репина Л.П. (ред.) История и память: историческая культура Европы до начала нового времени
Подождите немного. Документ загружается.


расселения славян составитель упомянул и соседствовавшие с ними племена, однако, поместив их в состав
непосредственно подчиненных «Русскому царствию» «стран». Исследователи в данном отрывке
усматривали попытку оправдать внешнюю политику времени Ивана Грозного историческими аргументами .
Но может быть и иное объяснение представленного в СК перечня. Так, его состав мог обусловливаться
спецификой понимания книжником макарьевской поры текста своего источника, созданного несколькими
веками ранее. Есть основания думать, что в 7-й главе 1-й степени был использован перечень соседей Руси,
который содержался в «Слове о погибели Русской земли». Во всяком случае, как было отмечено в
историографии'
6
, «Слово о погибели» было использовано в 1 -и главе 7-Й степени, повествующей о князе
Ярославе Всеволодовиче. В соответствии со своим источником, автор СК отмечает, что древнерусским
князьям «присягаху и повиновахуся многия страны и дань даяху отъ моря и до моря: угрове, и чахи, и ляхи,
и ятвяги, и литва, и ьгЬмьцы, и чюдь, и корила, и Устюгъ, и обои болгары, и бур-тасы, и черкасы, и мордва,
и черемиса; и самии половьцы дань даяху и мосты мостяху, литва же тогда и изъ лесовъ бояхуся выницати,
татари •^ ™-~~ — ---------- - При этом, как указал
же тогда ни слухомъ не именовахуся» . ..
r
..
Jt
~,.., ,«.» ^«оол М. Горлин , те народы, которые в «Слове о
погибели» представлены в качестве соседей Руси (чехи, ляхи, литва, угры, немцы и др.), в СК фигурируют в
числе «Имен областей русских». Есть основания полагать, что таким образом автор памятника понял
фрагмент своего источника
19
. Несомненно, что отрывок «Слова о погибели», которое отделяло от СК
несколько веков, содержал ряд малопонятных для
15
Кусков В. В. Степенная книга. С. 93; Pelemki J. The Contest for the Legacy ofKievanRus'. N. Y., 1998.
16
Подробнее о параллелях СК и «Слова о погибели Русской земли» см.: Жданов И, Н. Русский былевой эпос (Исследования и
материалы). СПб., 1895. С. 95-96; Серебрянский Н. И. Древнерусские княжеские жития (Обзор редакций и тексты). М., 1915. С.
163-166; Gorlin M. Le Dit de la Ruine de la terre russe et de la mort du grand-prince Jaroslav// Revue des etudes slaves. !947. T. 23. Fas.
1-4. P. 13-22; Гудзий Н. К. О «Слове о погибели Рускыя земли» // ТОДРЛ. М.; Л., 1956. Т. 12. С. 537-539; Бегунов Ю. К. Следы
«Слова о погибели Рускыя земли» в Степенной книге//ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 15. С. 116-130; Он же. Памятник русской
литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли». М.; Л., 1965. С. 145-152.
17
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1.С. 254.
1S
Gorlin M. Le Dit de la Ruine de la terre russe... P. 18.
1
М, Горлин (Ibid. P. 18) указал на то, что подобная версия была «по сердцу» московскому книжнику середины XVI века.
Древнейший период русской истории.
615
книжника XVI века историко-географических реалий
20
— этот фрагмент предоставлял в распоряжение
автора памятника целый веер возможных интерпретаций. Вряд ли можно говорить о непосредственном
«отражении» политических амбиций московского правительства в памятнике в случае с помещением
соседей Руси в число ее данников — важно отметить другое: именно такое толкование для писателя
макарьевской поры представлялось естественным.
При сравнении версий основных летописных источников СК с текстом памятника обращает на себя
внимание пропуск описания этнографических подробностей быта восточнославянских племен. Так, в своем
этнографическом описании автор Никоновской летописи противопоставляет «кротких, тихих и стыдливых»
полян, имеющих «къ родителемъ и къ племени великое стыд*Ьние», диким древлянам, радимичам, вятичам
и северянам, «живущим въ л*Ьсехъ, якоже и всякыи зв*Ьрь», которые «ядуще все нечисто, срамословие...
предъ родители и племени не стыдятся» . В СК данное описание отсутствует. Можно предположить, что
составителю представлялось сомнительным, что населенная подобными племенами Русская земля могла в
скором времени «въ благочестии просиять». Очевидно этим же, может быть объяснен пропуск
содержащегося в основном источнике СК — Никоновской летописи — рассказа о страхе варяжских князей
перед «звериным» нравом славян при описании прихода Рюрика с братьями на Русь .
го
О степени информированности книжника сер. XVI в. о древнерусской исторической географии свидетельствует рассказ об
уставе Ольги мостникам, который содержшся во включенной почти полностью в СК пространной редакции Жития Ольги: «И
иде Ольга съ сыномъ своимъ и БОИНСТВОМЪ по Деревской земли, уставляюши уставь и уроки и ловища. Н^цыи же глаголють,
яко Деревская земля б-Ь, иже во области великого Новаграда, нын*Ь же Деревская пятина именуема; инии же глаголють, яко
С^верская cipana 64, ид'Ьже б-Ь Черниговъ градъ» (см.: ПСРЛ. Т. 21. Ч, 1.С. 11). Как видим, книжник — современник автора
СК (вероятно, Сильвес1р) который, похоже, обладал теми же представлениями о древнерусской географии (в противном
случае, создатель СК внес бы в этот рассказ какие-либо уточнения, что, как показывает анализ редакторской правки
древнейших списков памятника, было в его духе). Он предлагает читателю две версии локализации Деревской земли, не считая
возможным присоединиться ни к одной из них. На значение этого фрагмента для изучения географических представлений
автора СК указал А. С. Орлов (см.: Орлов А. С. Великорусская историческая литература XVI века. Конспект лекций, читанных в
И.М.У. в 1911-12 ак. году. М., 1912. С. 21), отметив при этом, что писатель макарьевского времени «седую старину» ичвестий
своих источников «пробовал истолковывать по своему». ** ПСРЛ. Т. 9. С. 5.
21
!
Там же. С. 9.
616
Глава 16
Многое в особенностях представления первых веков русской истории в СК проясняет рассмотрение 8-й
главы 1-й степени («Царю Феодосию брань съ Русию»). Отметив, что «и преже Рюрикова пришествия въ
Словенскую землю не худа бяше держава Словенскаго языка», книжник повествует о войнах императора
Феодосия Великого с «русскими воями», о многочисленных походах Руси «на многая страны и на
Селунскии градъ и на Херсунь и на прочихъ тамо... иже и на самый Царьград», а также о войнах Руси с

царем «Хоздроем Персидским»
3
. Специальное изучение источников этого сюжета
4
показало, что в этой
главе автор СК использовал Чудеса Дмитрия Солун-ского, Житие Стефана Сурожского, «Слово о законе и
благодати», летописный материал, Поучение митрополита Фотия Василию Дмитриевичу), прямо
сославшись на некоторые из них
25
. К 8-й главе примыкает рассказ о крещении Руси и присылке на Русскую
землю митрополита, который был почерпнут из славяно-русского перевода «Окружного послания»
патриарха Фотия
26
. Любопытно, что если в источнике данного рассказа фигурирует епископ
7
, то в 6-й главе
1-й степени СК —- митрополит и епископы, т. е. уже целая церковная организация. Любопытно отметить,
что, повествуя о начале русской истории, книжник специально подчеркивает «славу русского имени» еще до
прихода на Русь Рюрика — основателя прославляемой в памятнике династии. Очевидно, при описании
древнейшего периода автору СК было важно отметить, что «слава» Русской земли была не менее значима,
чем добродетели ее правителей
8
. Есть основания полагать, что книжник в рассказе о начале русской
истории развернул заявленный им тезис о том, что «не въ новыхъ бо л*Ьтехъ Руская земля многа и велика
пространством и неисчетна сильна воиньствомъ, но вельми отъ древних л'Ьтъ и врсменъ многимъ странамъ
и царствомъ
23
ПСРЛ. Т. 21. Ч. КС. 63.
24
Подробнее см.: Усачев А. С. Образ языческой Руси в Степенной книге // Образы прошлого и коллективная идентичность в
Европе... С. 352-356.
25
См.: «яко же свид'Ьтельствуетъ н'Ьчто мало отчасти въ чудес*Ьхъ великомученника Дмитрия и святого архиепископа
Стефана Сурожскаго» (см.: ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1.С. 63).
26
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1.С. 62-63.
Буланин Д. М. «Окружное послание» константинопольского патриарха Фотия в древнерусских рукописях XVI-XV1I вв.//
Старобългаристика. 1981. №5. С. 52. На использование славяно-русского перевода «Окружного послания» в СК указал Д. М.
Буланин. См.: Бу.панцн Д. М. Переводы и послания Максима Грека (неизданные тексты). Л., 1984. С. 85. Прим. 18.
2
Подробнее см.: Усачев А, С. Образ языческой Руси. С. 363-364,
Древнейший период русской истории.
617
страшни бяху и многим одолНшаху»
29
. Вероятно, с этой же целью вносились изменения и в описание
соседей Руси. Так, обращает на себя внимание редкое упоминание этнонима хазары в СК. В
памятнике они фигурируют лишь трижды (в списке «Имен областей Русских», в повествовании о
посланниках от различных вер и в описании похода Мстислава Владимировича на Киев в 1023 г.
30
т. е. на
рассматриваемый период приходится лишь одно упоминание хазар). Думается, что пропуск известий о
подчинении Олегом древлян, северян и радимичей, а позднее Святославом — вятичей связан со скудостью
сведений, содержащихся в СК, о хазарах. Необходимо вспомнить контекст, в который помещено описание
хазар в источниках СК. Так, в Никоновской летописи из 14-ти упоминаний хазар за период до 986г. восемь
непосредственно связаны с подчинением ими славянских племен. Из шести оставшихся упоминаний одно
приходится на пророчество подчинения хазар славянам как воздаяние за века порабощения и еще три — на
описание борьбы Святослава с хазарами за контроль над вятичами . Мы вправе связать данные пропуски с
нежеланием составителя сообщать о многолетнем подчинении целого ряда славянских племен хазарам и о
той упорной борьбе, которую в течение десятилетий вели первые русские князья с хазарами за их
подчинение. Этим, по-видимому, и объясняется то, что «хазарская линия» в СК снята (в памятнике даже
пропущена славная для «самодержца» Святослава победа над хазарами). Это, скорее всего, и является
причиной пропуска описания покорения дулебов обрами, которые в СК вообще не упоминаются ". Таким
образом, характеризуя славное прошлое Руси, книжник макарьевского счел излишним упоминать о
подчинении славян хазарам и обрам.
В описании событий русской истории дорюриковой поры обращает на себя внимание пропуск сообщений о
местных князьях. Так, в СК опущено описание деятельности Кия, о которой повествуют ее летописные
источники
33
. Ничего не сообщает составитель и о новгородском старейшине Гостомысле и неком
«владельце сущая с нимъ»,
29
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1.С. 63.
30
Там же. С. 63,75, 164.
•а ч
ПСРЛ. Т. 9. С. 6-8, 31. В Воскресенской летописи аналогичная картина: из 14-ти упоминаний хазар до 986 г. девять прямо
говорят о подчинении ими славянских племен, одно помещено в пророчество о подчинении хазар Руси как наказание их за
господство над славянами и три поимекования содержатся в рассказе о войне Святослава с хазарами, после подчинения им
вятичей. См.: ПСРЛ. Т. 7. С. 264, 266, 267, 269, 287.
32
ПСРЛ. Т. 9. С. 5; Т. 7. С. 264.
33
ПСРЛ. Т. 9. С. 4; Т. 7. С. 263.
618
Глава 16
описание которых содержится в Воскресенской летописи
3
. В рассказе о войне Владимира с Рогволодом
Полоцким автор СК пропускает известие о Туре, правившем в Турове . Упоминая о походе Руси на Сурож,
составитель опускает имя новгородского князя Бравлина, которое содержалось в его источнике (в Житии Стефана
Сурожского). Тем не менее, в восходящее к «Окружному посланию» повествование вставлены некие анонимные
«русские самодержатели», под руководством которых Русь совершила поход на Константинополь. В сочетании с
пропуском известия о племенных княжениях ряда славянских племен все это приводит к мысли о том, что
составитель намеренно опускал описание действий князей не-Рюриковичей и, тем не менее, считал необходимым
сообщать о безымянных «самодержателях», под предводительством которых Русь совершала победоносные

походы на соседей. По всей видимости, конструируя историю языческой Руси, книжник середины XVI века,
умолчав о конкретных князьях, тем не менее, не мог себе представить успешных военных действий без ру-
ководящей роли пусть и безымянных «самодержателей».
Отметим, что описания некоторых русских правителей дохристианского периода, которые предками династии
русских государей не являлись, известных по летописным источникам СК в ее тексте сохранены. Так, автор СК
упоминает Аскольда и Дира. Однако известия о них значительно сокращены по сравнению с летописными ис-
точниками памятника. Так, повествуя об их правлении в Киеве, создатель СК пропускает сообщения своего
основного летописного источника — Никоновской летописи — об их войне с полочанами, убийстве болгарами
сына Аскольда, а также упоминание о победе Аскольда и Дира над печенегами
36
. В тексте СК было сохранено
лишь известие о походе этих князей на Византию. Тенденция к сокращению материала относительно не
принадлежавших к роду Рюрика русских правителей может быть соотнесена с отчетливо выраженной в памят-
нике линией на прославление Рюрика и его потомков. С этим обстоятельством похоже связана и отмеченная Я. С.
Лурье вставка автора СК в рассказ о походе Аскольда и Дира на Константинополь (4-я глава 1-й степени). Перед
этим известием книжник ввел принадлежащее ему рассуждение о том, что «Рюрикъ, Владимировъ прад*Ьдъ, не
токмо самъ въ Русстей земли преименитъ б'Ь властию, но и мужие его»
3
. Как заметил исследователь, эта
преамбула понадобилась для
34
ПСРЛ. Т. 7, С. 262, 268.
35
ПСРЛ. Т. 2 ]. Ч. 1. С. 69; Т. 9. С. 39; Т. 7. С. 292.
36
ПСРЛ. Т. 9. С. 9.
Э7
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1.С. 62
Древнейший_^ериод pyccKouiicmopuu.
619
того, чтобы «в заслугу Рюрику поставить даже походы Аскольда и Дира на Царьград»
8
. Кратко сообщает автор
СК и о деятельности князя Олега — в памятнике лаконично передан рассказ о его вокня-жении в Киеве и походе
на Царьград. Любопытно, что ни Аскольд и Дир, ни даже «сродник» Рюрика Олег, которому Рюрик поручил сво-
его малолетнего сына Игоря, в СК ни разу не именуются «самодержцами» и «скипетродержцами» (обычными в
СК поименованиями потомков Рюрика) — в памятнике они фигурируют как «князья». Это дает основания
полагать, что даже понменование отделяло представителей прославляемого в памятнике рода от прочих
правителей.
Повествуя о приходе на Русь основателя воспеваемой в памятнике династии, автор СК подвергает правке ряд
известий своих источников. Так, он пропускает рассказ о выборе новгородцами Рюрика среди правителей прочих
народов. Как во многом справедливо указал В. В. Кусков, лаконизм в описании призвания объяснялся стремлени-
ем составителя подчеркнуть то, что Рюрик стал «единодержцем» на Руси сразу, вне зависимости от каких либо
колебаний и выбора новгородцев
3
. Заимствуя рассказ Никоновской летописи о Вадиме, автор СК в данном
пассаже в уста новгородцев вкладывает «проречение» о прочности и долговечности власти новой династии,
специально отметив, что «аше тогда и нечестиви бяху новгородцы, но обаче по проре-чению ихъ паче же
благоволениемъ Божиимъ, и до ныне непременно царствують ими отъ Рюрикова семени благородное изращение»
°.
Отмечая особенности представления первых русских князей в памятнике, нельзя не отметить двойственного
отношения к ним автора СК. С одной стороны, русские князья являются язычниками («погаными»), С другой,
Рюрик и его ближайшие наследники являются основателями правящей династии, представители которой
воспеваются в памятнике; они совершают смелые походы на соседей, внушая ужас даже гордому Царьграду.
Особенно ярко данная тенденция в описании первых русских князей проявилась при описании Святослава
Игоревича в Житии Ольги и 1-й степени. Так, из всех многочисленных известий об этом князе в летописных
источниках СК ее автор счел необходимым упомянуть о мести Ольги древлянам (Святослав в этом рассказе
выступает в качестве второстепенного персонажа), о славных походах этого князя на Болгарию и Византию и об
отказе Святослава креститься, несмотря на настойчивые просьбы его мате-
38
Лурье Я. С. Россия Древняя и Россия Новая (Избранное). СПб., 1997. С. 70. Кусков В.В, Степенная книга. С. 91. 'ПСРЛ. Т. 21. Ч.
1.С. 61.
40
620
Глава 16
ри
41
. Сохраняя в тексте памятника почерпнутый из летописей мужественный облик Святослава, а также
перечень его славных побед над болгарами и греками, книжник, тем не менее, считает необходимым
осудить этого князя за непослушание матери и нежелание креститься. Таким образом, сохраняя героические
черты Святослава, книжник представляет его в качестве неисправимого язычника, упорство которого
заслуживает самого сурового порицания.
Вероятно, двойственное отношение к первым русским князьям определило и двойной счет в родословии
русских князей. Так, очевидно полагая, что истинными государями являлись лишь православные русские
князья, книжник ведет их счет от первого христианина на русском княжеском столе — князя Владимира.
Каждая степень памятника начинается с указания на степень родства соответствующего князя от крестителя
Руси — «...степень» от Владимира . Однако, представляя родословную князей таким образом, книжник
сталкивался с известным противоречием — не христианин Владимир основал воспеваемую в памятнике
династию, а язычник Рюрик. Отсчет родословия русских князей с Владимира мог означать умаление роли
его предков и в конечном счете сокращение истории правящего рода. Каким образом пытался книжник
разрешить данное противоречие? Есть основания полагать, что на определенном этапе создания памятника
(вероятно, в самом начале) он планировал внесение двойных указаний на родословие русских князей, в

которых бы отражались происхождение от основателя династии Рюрика и от первого христианского пра-
вителя Владимира. Так, во 2-й степени посвященной Ярославу Владимировичу указывается, что он от
Владимира «вторый степень», «от Рюрика же 5» . Вероятно, двойным счетом княжеского родословия
книжник пытался связать воедино два периода русской истории и истории княжеского рода — языческий и
христианский.
Важное значение для автора СК имеет период правления Владимира Святославича, с которым было связано
крещение Русской земли и основание династии христианских государей. Это, по всей видимости, и
определяет особое место повествующей о крестителе Руси 1 степени в памятнике. Как отметил И. В.
Курукин^ , посвященная Владимиру 1 степень по своему объему почти в десять раз превосхо-
Древнейший период русской истории.
621
41
Там же. С. 12,22-24,62.
42
Например, см.: ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. С. 173, 184.
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. С. 168. Впрочем, двойной счет родословия русских князей (от Рюрика и Владимира) в памятнике не
закрепился.
Курукин И. В. Сильвестр: политическая и культурная деятельность (источники и историо!рафия). Дисс. канд. ист. наук,
М., 1983. С. 127.
дит 4-ю степень, которая повествует о не менее известном деятеле древнерусской истории — Владимире
Мономахе. Специальное исследование источников 1 -и степени показало, что описание времени правления
Владимира в СК выделяется не только объемом, но и обилием привлеченных источников (в этом отношении
с 1-й степенью сравнима лишь 17-я степень, повествующая об Иване IV
45
). Так, если
46
рассказывая о прочих русских князьях домонгольского времени , автор СК использует в среднем один-два
летописных источника, два-три житийных текста, то к созданию биографии Владимира привлечен более
широкий круг источников: Никоновская и Воскресенская летописи, «Память и похвала» Иакова Мниха,
«Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, Жития Владимира и Ольги, основанное на «Слове о
законе и благодати» «Поучение на память иже в святых равнаго апостолом благовернаго великаго князя
Владимера въ святы-их равнаго апостолом и благовернаго великого князя Владимира, в святем крещении
нареченнаго Василиа, крестившаго всю Роускую землю» (далее Поучение на память Владимира)
47
,
памятники русской средневековой лексикографии (вероятно, «Азбуковник» старшей редакции), а также
Устав Владимира и «Правило о церковных людях»
48
. Начиная рассказ о Владимире, автор СК считает
необходимым разъяснить читателю необходимость повествования не только о его христианском периоде
жизни, но и о языческом:
«И не зри никто же на первое нечестие и злострасное ко rp-fexy Владимирове рачение, но последними его иже къ Богу и
чедов*Ь-комъ благочестивыми д-Ьлы уцеломудримся. Стремления бо его нечестивая и страстная сего ради явлена зд"Ь,
да не впаднемъ въ таковая, а иже впадши останемъ оть согрешения, Владимирову подражающе исправлению и
совершению благочестия» .
На «двухполюсной» характер СК, в которой по своему объему и значению 1-я и 17-я степени, безусловно, выделяются,
обратила внимание Г. Ленхофф. См.: Lenhoff G. The "Stepennaja kniga'' and the Idea of the Book in Medieval Russia // Germano-
Slavistische Beitrage. Festschrift Гиг Peter Rehder zum 65. Geburstag. Munhen, 2004. S. 449-458.
Например, в повествующей о Ярославе Владимировиче 2-й степени использованы Никоновская и Воскресенская летописи, а
также «Слово о законе и благодати»; в посвященной Всеволоду Ярославичу 4-й степени — эти же летописи, «Слово о князьях»
и Киево-Печерский патерик.
7
Памятник не издан, сохранился в единственном списке 30-х гг. XVI в., см.: РГБ. Ф. 113. №659. Л, 375-387 об.
4Х
Подробнее об источниках 1-й степени и их редактировании, см.: Усачев А. С. Образ Владимира Святославича в Степенной
книге: как работал русский книжник середины XVI в.? //Диалог со временем. М., 2005. Вып. 14. С. 66-105.
49
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1.С. 66.
622
Глава 16
Древнейший период русской истории.
623
Таким образом, книжник, явно не удовлетворенный лаконизмом предшествующей агиографической
традиции, повествующей лишь о деяниях Владимира-христианина, указывает на необходимость изучения в
дидактических целях всей жизни князя, его пути от «нечестивых... стремлений» к «благочестию».
Жизнеописание Владимира начинается с рассказа о набеге печенегов на Киев в его малолетство. В
распоряжении книжника было две версии этого известия, содержащиеся в летописных источниках СК
(Никоновской и Воскресенской летописях) и в пространной редакции Жития Ольги. Первая, в соответствии
с традицией, идущей от начального русского летописания, сообщала об осаде печенегами Киева, требовании
обессиленных осадой горожан к Ольге сдать город, о подвиге отрока, подавшего весть воеводе Претичу
50
.
Вторая же избавила рассматриваемый рассказ от упоминания о поведении киевлян и поступке отрока и
ввела мотив божественного вмешательства: согласно версии Жития Ольги, Бог, вняв молитве княгини,
«покрыл» ее с внуками «от всякого зла» и «ускорил» приход воеводы Претича, который избавил Киев от
осады. Какой же вариант предпочел автор СК? 13-я глава 1 -и степени, вслед за Житием Ольги, повествует о
том, что «аще не бы Господь храняй Владимира, раба своего, хотящаго последи бы-ти ему сосуда
избраннаго, и молитвъ ради праведныя Ольги въ мале бы взять былъ Киевъ градъ»
51
. Предпочтение
житийной версии этого сюжета летописной, очевидно, было обусловлено стремлением подчеркнуть

небесное покровительство еще юному Владимиру-язычнику. При этом такие «земные» подробности
спасения Киева, как подвиг отрока, были пропущены. Согласно выраженному в СК взгляду, не люди, а сам
Бог спас будущего крестителя Руси от врагов. Не оставлял Бог без своей помощи киевского князя и в более
зрелом возрасте. Так, в 61-й главе 1-й степени, передавая, в соответствии со своими летописными
источниками, рассказ о битве с печенегами под Василевым , автор памятника обращает внимание читателя
на божественную помощь в битве Владимиру, который «покрываемъ десницею Божиею отъ многихъ врать»
«безъ вреда сохраненъ бысть» .
Сообщая о вокняжении Владимира в Киеве, книжник, в соответствии с летописным материалом, повествует
о последовавших за смертью Святослава Игоревича усобицах между его сыновьями^.
50
ПСРЛ. Т. 9. С. 33-34; Т. 7. С. 287-288.
51
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1.С. 66.
52
ПСРЛ. Т. 2]. Ч. 1. С. 122; Т. 9. С. 66; Т. 7. С. 315.
53
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1.С. 122.
54
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. С. 68-69; Т. 9. С. 38-39; Т. 7. С. 292.
Однако свидетельства источников подверглись правке. Так, создатель памятника, подчеркивая вслед за
Никоновской и Воскресенской летописями пагубную роль Свенельда в разгоревшейся между Ярополком и
Олегом борьбе, усиливает осуждающий усобицы мотив — в тексте 19-й главы 1-й степени указывается, что
свой совет Ярополку напасть на Олега Древлянского Свенельд дал «коварствуя» (в летописных источниках
СК эта деталь отсутствует). Кроме того, в рассказе о смерти Олега пропущен плач Ярополка над телом
погибшего брата. Автор отходит от своего основного летописного источника — Никоновской летописи —
ив описании краткого правления Ярополка. Он не считает нужным включать указания своего источника на
единовластие этого князя после смерти Олега и бегства Владимира (Ярополк «б'Ь вла-д-Ъа единъ в Руси,
яко же отець его и д'Ьдъ его»). Нет в СК и известия о греческом посольстве к Ярополку, которое «яшася ему
по дань, якоже и отцу его и д*Ьду его». Другим пропуском было свидетельство о победе Ярополка над
печенегами, о которой повествует Ник., а также сообщение о печенежском князе Ильдее, который перешел
на службу к Ярополку. Упоминание Никоновской летописи о посольстве римского папы к этому князю
также отсутствует в СК . Видимо, образ могущественного правителя, который, как его отец и дед, взимал
дань с Царьграда, одерживал победы над печенегами, принимая их князей к себе на службу, а также вел
переговоры с далеким Римом, был слишком выразителен для того, чтобы соседствовать с образом
основателя династии русских государей. Это, впрочем, не мешало в целом положительной оценке Ярополка
в СК, свидетельством чему служит рассказ о крещении костей братьев Владимира Ярославом в
75-й главе 1-й степени
56
.
Сообщив о бегстве Владимира из Новгорода, а затем о его возвращении и начале похода против Ярополка,
книжник вновь вмешивается в текст своих источников. Он пропускает изложение речи Владимира
изгнанным им из Новгорода посадникам Ярополка {в Никоновской летописи «идите и рците брату моему
старейшему Ярополку: идеть на тя менший брать твой, Володимеръ, буди на брань готовь»
57
). Вероятно, эти
слова, в которых отмечалось «старейшинство» Ярополка, в поход, на которого собрался его «менший» брат,
были излишни в памятнике, который отстаивал необходимость беспрекословного подчинения
«державным».
55
ПСРЛ. Т. 9. С. 39; Т. 7. С. 292.
5h
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1.С. 165-167.
57
ПСРЛ. Т. 9. С. 39.
L
624
Глава 16
Древнейший период русской истории.
625
Повествуя о победе Владимира над Рогволодом Полоцким, книжник также пропускает ряд деталей,
которые содержались в его летописных источниках . В СК отсутствует ответ Рогнеды Владимиру («Не
хошу розувати робичища..,»). Как отметил В. В. Кусков , это может быть связано с пропуском рассказа о
происхождении Владимира от ключницы. Вслед за этим памятник, в соответствии со своими летописными
источниками, повествует о победе Владимира над Яро-полком. Как же было подано явно не красящее образ
равноапостольного князя братоубийство в прославляющем его произведении? В. В. Кусков пишет, что в
СК особенно подчеркивается пагубная роль воеводы Ярополка Блуда. Именно в «зломъ совете лукавого
раба Ярополка, господоубийственаго Блуда» книжник усматривает причину убийства будущим
равноапостольным князем своего брата
61
. При этом летописное известие о речи Владимира к Блуду с
просьбой помочь расправиться с братом пропускается. О стремлении автора СК смягчить вину Владимира в
убийстве брата свидетельствует и правка заимствованного из «Памяти и похвалы» фрагмента в 30-й главе. В
соответствии с Никоновской и Воскресенской летописями датируя крещение Руси 6496 годом, книжник,
вслед за сочинением Иакова Мниха, привязывает эту дату к хронологии правления Владимира, сообщая о
крещении «въ десятое л-Ьто» его правления
62
. Однако, если «Память и похвала» повествует о крещении
Владимира «въ 10-е л'Ьто по убьеньи брата своего Ярополка» , то СК содержит указание на крещение «въ

десятое л-Ьто самодержьства его» . Как видим, в заимствованной из источника фразе слова о начале
«самодержства» Владимира вытеснили известие об убийстве им Ярополка, с которого собственно его
княжение и началось.
Крайне немногословно описывая события языческого периода правления Владимира, книжник сохраняет
рассказ своих летописных
58
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. С. 69; Т. 9. С. 39; Т. 7. С. 292. Кусков В. В. Степенная книга. С. 96. Там же. С. 96.
61
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1.С. 69.
Подробнее об особенностях датировки событий времени Владимира Святославича в СК см.: Усачев А. С. Особенности
датировки событий древнерусской истории в Степенной книге // Восточная Европа в древности и средневековье: Время
источника и время в источнике. XVI Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР 0. Т. Пашуто. М., 2004. С. 206-21 1.
w
Зимин Л. А. Память и похвала Иакова Мниха и Житие князя Владимира по древнейшему списку // Краткие сообщения
института славяноведения АН СССР. 1963. №37. С. 72.
64
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1.С. 98.
источников о сотворении этим князем кумиров
65
. Чем можно объяснить включение данного сообщения,
явно не красящего образ будущего равноапостольного князя? Представляется, что ответ на этот вопрос
следует искать в уже отмеченных выше словах создателя СК о том, что «первое нечестие и злострасное ко
rp*fexy Владимирове рачение» «явлено» в памятнике для того, чтобы, «да не впаднемъ въ таковая, а иже
впадши останемъ оть согрешения, Владимирову подра-жающе исправлению и совершению благочестия».
Впрочем, как показывает сравнительный анализ свидетельств СК и ее источников, в этом правиле было
место и исключениям. Так, в произведении с Владимира снимается вина за убийство брата, а также в 1-й
степени не нашлось места описанию женолюбия Владимира. Таким образом, можно зафиксировать еще
одну любопытную особенность в оформлении образа киевского князя — указание на необходимость повест-
вования о прегрешениях Владимира-язычника в назидательных целях не мешало книжнику уменьшить его
вину в убийстве брата, переложив ее основную тяжесть на «господоубийственного» Блуда, и пропустить
известие о многоженстве будущего крестителя Русской земли.
После краткого рассказа о правлении Владимира-язычника автор СК обращает внимание читателя на
события, связанные с крещением князя и Руси. Летописные источники начинают сообщение об этом
событии с сюжета о посланцах от различных вер. Однако памятник отступает от летописной традиции и
использует в повествовании о крещении Владимира ряд композиционных приемов, характерных для
пространной редакции Жития Ольги. Так, описанию крещения Ольги предшествует пассаж о «рассуждении
духовного тщания» княгини и указание на ее «желание» к благочестию. Аналогична роль 22-й главы 1-й
степени («Начало желания Владимерова во благочестие») в жизнеописании Владимира. Заимствуя из Жития
Ольги мотив «начала желания к благочестию» до знакомства с христианскими догматами, автор СК
наполняет его почерпнутым из «Памяти и похвалы» рассказом о «просвещении сердца» киевского кня^я
«человеколюбцем Богом»
66
. Далее в памятнике развивается содержащееся в сочинении Иакова Мниха
упоминание о «просвещении разума» Владимира Богом до речи философа, изложившего основы
христианского вероучения киевскому князю: «Самъ же Господь и блаженному Владимиру отверзе умъ
возненавид'Ьти бездушныхъ кумиръ...» . Желая усилить этот мотив, автор в ткань своего текста вводит
нити уже иного источ-
и
ПСРЛ. Т, 21. Ч. 1. С. 70; Т. 9. С. 40; Т. 7. С. 295.
6Й
ПСРЛ. Т. 21.4. \.С.1\;ЗимтА.А, Память и похвала Иакова Мниха. С, 67.
67
ПСРЛ. Т, 21. Ч. 1.С. 71.
L
626
Глава 16
ника — восходящего к «Слову о законе и благодати» рассказа, повествующего о том, что «прииде на нь
[Владимира. — А. У.] посещение Вышняго, и како призре на нь всемилостивое око благаго и челов-
Ьколюбиваго Бога и восиа разоумъ в сердци его» .
Подчеркивание стремления Владимира к Богу еще до знакомства с христианскими догматами, является
лишь вводной частью повествования о пути Русской земли к крещению. Центральную его часть составляет
рассказ об апостоле Андрее в 23-й главе. Книжник, не ограничиваясь летописной повестью, которая
содержалась в предшествующих памятнику сводах, на основе использования различных источников создает
не имеющее аналогов по своей подробности описание прихода апостола на Русь. В СК подчеркивается и
усиливается (в сравнении с предшествующими ей памятниками) связь Андрея с Русью. Так, в соответствии
с пространной редакцией Жития Ольги, автор СК передает рассказ о посещении Андреем новгородской веси
Грузине и водружении там жезла . Ответ на вопрос о том, с какой целью в СК был включен
беспрецедентный в древнерусской книжности рассказ об апостоле Андрее, содержит 24-я глава 1-й степени.
Она вслед за пространной редакцией Жития Ольги, повествует о пророчестве и молитве равноапостольной
княгини относительно крещения Русской земли. При этом автор СК помещает пророчество бабки Вла-
димира в несколько иной контекст (по сравнению с Житием), поясняя, что «отъ святаго апостола Андрея по
мнозе времени начася первое въ Руси благочестие святою и достохвальною великою княгинею Ольгою, иже
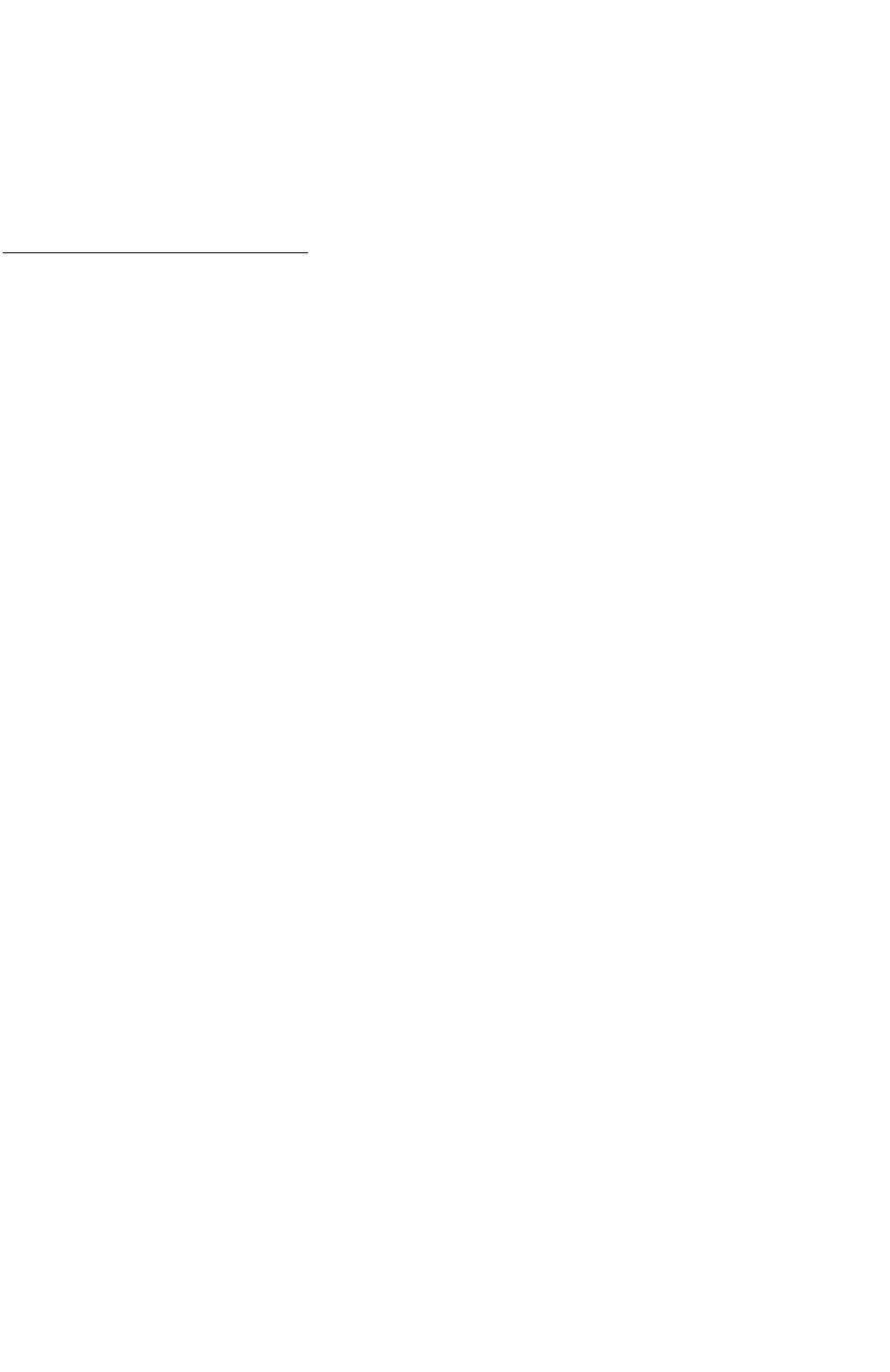
бысть баба сего святого Владимира, отъ него же по всей земли Рустей распространися... Сие же нын*Ь обое
пророчество, Анд-реово и Ольгино, совершая Богъ благимъ произволениемъ блаженнаго Владимира»
70
. Как
видим, создатель СК отмечает важнейшие вехи в деле крещения Руси: пророчества Андрея и Ольги о
принятии Русью христианства и их исполнение Владимиром. Таким образом, он, поясняя значение
пророчества первой русской христианки, выстраивал линию преемственности Андрей — Ольга, которая
дополняла уже прочно укоренившуюся в предшествующих СК памятниках летописания и агиографии
преемственность Ольга — Владимир. Это дает основание заключить, что, выстраивая в 22-24 главах линию
преемственности «Андрей — Ольга — Владимир», автор СК подготавливал читателя к мысли о
закономерности крещения Руси внуком первой
68
Там же. С. 71-72; Молдова» А. М. «Слово о законе и благодати» Иларио-на. Киев, 1984. С. 175.
6Ч
ПСРЛ.Т. 21. Ч. 1.С. 73.
70
Там же. С. 73.
Древнейший период русской истории.
627
русской христианки. Тем самым он представил развитие русской истории языческого периода как движение
к крещению, как процесс, в котором важнейшими вехами были пророчества Андрея и Ольги. Это, в свою
очередь, сообщало принятию христианства характер ключевого события древнерусской истории, тем
самым, превращая Владимира Святославича в главного героя истории Древней Руси.
Для того чтобы усилить тезис о божественном вмешательстве в судьбу Русской земли и ее правителей,
автор СК в основанный на летописных данных рассказ о крещении Владимира (29-я глава 1 -и степени)
вводит интересную деталь — упоминание спустившейся с неба руки, которая прикоснулась к киевскому
князю. Любопытно, что эта деталь была позаимствована из дополнительного источника— Поучения на
память Владимира
71
. Этой же цели, очевидно, служило и указание на принятие Владимиром по крещении
«царского имени» — Василий. В соответствии со «Словом о законе и благодати»
7
, книжник сообщает о
том, что корсунский епископ «запов*Ьда же ему [Владимиру. — А. У.] о молитв-Ь и о nocrfe и о покаянии, и
благослови его епископъ, и сотвори и оглашенна, и нарече ему царское имя Василий» . В «Слове», однако,
отсутствует указание на «царственность» полученного по крещении имени, которое было, по-видимому,
заимствовано из современного СК памятника русской средневековой лексикографии (вероятно,
«Азбуковника» старшей редакции
74
). Интересно, что автор СК счел необходимым в рассказе о возвращении
Владимира после крещения в Киев отметить перемены в облике князя. Так, если источник СК Никоновская
летопись сообщает о том, что «отдаде же Володимиеръ, яже взялъ, Корсунь градъ грекомъ, царици для» (в
Воскресенской летописи «въдасть же за в'йно грекомъ опять Корсунь царици д-йля»}
75
, то в рассказе СК о
возвращении Корсуня грекам в 35-й главе 1-й степени сделано существенное дополнение к летописному
известию — создатель памятника специально указывает на то, что киевский князь Корсунь «грокомъ отда не
токмо за в*Ьно царицы ради, наипаче же благодати ради свитого ему крещения». При этом в 35-й главе
поясняется, что «паче бо всего мира богатьство души своей спасение въ Корсуни обр*Ьте» . Таким
образом, автор СК
71
Ср.: ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. С. 96; РГБ. Ф. 113. № 659. Л. 378 об.
72
Молдаван А. М. «Слово о законе и благодати». С. 175.
73
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1.С. 96.
74
Ковтун Л. С. Азбуковники XV1-XVII вв. (старшая разновидность).
Л., 1989, С. 170.
"ПСРЛ. Т. 9. С. 57; Т. 7. С. 311.
76
СРЛ.Т. 1.4. КС. 103.
628
Глава 16
подчеркивал перемены во внутреннем облике Владимира после крещения, для которого все земные
богатства стали уже ничем по сравнению с «души своей спасеньем». Сравнение представленной в СК
биографии Владимира с материалом источников памятника дает возможность проследить тенденцию к
сообщению образу киевского князя агиографических черт. Прояснить общий характер эволюции образа
Владимира в СК по сравнению с ее источниками помогает анализ одного семантического разночтения в
рассказе, который основан на фрагменте из «Слова о законе и благодати». В этом отрывке, который
повествует о погребении Владимира, читается «иде же и мужьственое твое т'Ьло лежить, ждя трубы
архангеловы» . В СК текст источника изменен: «ид'Ьж-Ь и до нын'Ь почивають честныя его мощи, ожидая
7Я
всестрашьныя трубы архангтелевы» . Как видим, книжник эпохи Ивана IV предпочел написать о «честных
мощах» равноапостольного князя, опустив упоминание его «мужественного тела». Это может
свидетельствовать о том, что образ святого в СК начинает все более теснить образ мужественного, хотя и
благочестивого воителя, каким представляют Владимира летописные источники памятника.
Свидетельство о возвращении Владимира на Русь после крещения распадается на две версии —
Никоновской и Воскресенской летописей. Первая сообщает о браке киевского князя с Анной, его возвра-
щении с митрополитом Михаилом и корсунскими «презвитерами» в Киев, в то время как вторая кратко
указывает лишь на взятие им с собой безымянной царевны и «попов» . Какую версию предпочел книжник?
Как следует из текста памятника, его автору оказалась ближе версия Никоновской летописи. Чем мог
обусловливаться подобный выбор? В СК подчеркивается, что на Русь уже во времена Ас-кольда и Дира
прибыл с миссионерскими целями митрополит из Константинополя. Очевидно, тем же стремлением

показать древность возглавляемой митрополитом церковной иерархии на Руси обусловлено и включение в
1-ю степень рассказа о первом митрополите Михаиле, о котором умалчивают прочие своды. При этом
интересно отметить, что в СК в связи с крещением Владимира фигурирует патриарх Фотий (бывший
константинопольским патриархом в 858-867 и 877-886 гг.), который, согласно помещенному в памятник
Житию Ольги, крестил еще бабку князя. Чем объясняется поистине удивительное долголетие этого иерарха
на страницах СК? Обратившись к источникам 1 степени, мы обнаружим, что в них содержатся два име-
7
Молдаван А. М. «Слово о законе и благодати». С. 179.
7В
ПСРЛ. Т.21.Ч. I.C. 131.
79
ПСРЛ. Т. 9. С. 56-57; Т. 7. С. 310.
Древнейший период русской истории.
629
ни константинопольского патриарха, при котором произошло крещение Русской земли. Никоновская
летопись сообщает о патриархе Фо-тии, в то время как Поучение на память Владимира повествуют о Ни-
колае Хрисоверге (983-996 гг.)
80
. Таким образом, создатель памятника мог выбирать. Свое предпочтение он
отдал Фотию. Причины этого, видимо, кроются в желании автора СК скрепить Ольгу и Владимира
дополнительными узами, связав крещение первой русской христианки, ее равноапостольного внука и
Русской земли в целом со знаменитым константинопольским патриархом.
При рассмотрении описания истории русской церкви в СК обращает на себя внимание особый интерес
автора памятника к церковной истории Ростово-Суздальской земли. 42-я глава 1-й степени, которая
сообщает о крещении Суздальской земли и об основании Владимира-на-Юшьме и Успенской церкви в нем
представляет один из наиболее ярких примеров соединения создателем памятника различных источников в
едином повествовании. В 42-й главе книжник сочетает летописный рассказ с деталями, содержащимися в
Поучении на память Владимира . С особым вниманием автора СК к истории Суздальской земли и ее
церковной организации может быть связана и 53-я глава 1-й степени («Начало Ростовстей церкви»), которая
повествует о возникновении церковной организации в Ростовской земле. Данный фрагмент был основан на
данных Воскресенской летописи и Жития Леонтия Ростовского
82
. Очевидно, внимание автора СК к
церковной истории этого региона обусловливалось тем, что именно Владимир-на-Клязьме, согласно
читаемой в памятнике версии, унаследует «самодержство» Киева, а затем передаст его находящейся в этой
же части Руси Москве.
Ключевой в понимании автором места церкви в русской истории является 58-я глава 1-й степени, которая
повествует об учреждении десятины. Как нам удалось установить ранее , наряду с летописным материалом
и Уставом Владимира в этом фрагменте использовано «Правило о церковных людях», из которого
почерпнут пассаж о щедрости князей и княгинь по отношению к церкви . Дан-
R0
ПСРЛ. Т. 9. С. 57, 64; РГБ. Ф. 113. № 659. Л. 378 об. Воскресенская летопись, повествуя о крещении, вообще не упоминает
имени константинопольского
патриарха.
к|
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. С. 109; Т. 9. С. 64; РГБ. Ф. 113. № 659. Л. 380 об.
KI
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. С. 115; Т. 7. С. 313-314; ЧОИДР. 1893, Кн. 4. С. 3-4.
si
Усачев А. С. Образ Владимира. С. 89-91.
М4
ПСРЛ, Т. 21. 4.1. С. 119-120; Бенешевич В.И. Памятники древнерусского канонического права. 4.2. Вып. 1, (РИБ. Т.
36). Пг., 1920. С. 40-52;
630
Глава 16
ная глава пронизана идеей самого тесного союза власти и Церкви, на основе покровительства светской
власти духовенству. Для того чтобы придать этой модели больший историко-юридический вес, очевидно и
был привлечен материал Устава Владимира и «Правила».
Согласно представлениям автора СК, одна из наиболее важных сторон деятельности христианского
правителя — утверждение «благочестия» в стране путем строительства церквей. В основанной на данных
Никоновской летописи 51-й главе 1-й степени («Поставление епископовъ во градехъ») содержится рассказ о
поставлении митрополитом Леонтом епископов по русским городам . Любопытно, что в этой главе
отсутствует упоминание о поставлении белгородского епископа Никиты. Ответить на вопрос о причинах
пропуска можно, обратившись к тексту 54-й главы 1-й степени, которая, в соответствии с записью
Никоновской летописи под 6504 г., сообщает об основании Владимиром Белгорода . В этой главе
отмечается наряду со строительством града и «наполнением» его множеством жителей то, что Владимир «въ
него же епископа Никиту посла, его же постави Леонть митрополить». Таким образом, материал в СК был
перегруппирован — известие о поставлении белгородского епископа было связано с основанием города
Владимиром. Это в свою очередь позволяет предположить, что основание города и церковной организации в
нем рассматривались книжником круга митрополита Макария как неразрывный процесс, в котором важную
роль играет не только митрополит, но и князь. Об этом же свидетельствует и текст 42-й главы 1-й степени,
которая на основе рассказов Никоновской летописи и Поучения на память Владимира сообщает о
строительстве Владимира-на-Клязьмс и основании в нем Богородичной церкви . В 54-й главе 1-й степени
автор СК подчеркивает, что «на пустынныхъ м*Ьстехъ святый Влади-миръ многая грады созидая и въ нихъ
святыя церкви воздвизая и бла-
ос
гочестиемъ исполняя» . Вероятно, эта фраза является результатом преломления в сознании книжника

середины XVI века приведенного в 41-й главе 1-й степени летописного известия о строительстве Вла-
димиром порубежных городов по Десне, Трубежу, Суле и т. д.
89
. По всей видимости, это сообщение 41-й
главы, дополненное примером
Щапов Я. Н. Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. М, 1976. С. 81.
К5
ПСРЛ. Т. 21. Ч. I.C. 114; Т. 9. С. 65.
К6
ПСРЛ. Т. 21. Ч.
1.С. 115; Т. 9. С. 66. "ПСРЛ. Т.21.Ч. 1.С. 109. "
к
Там же. С. 115.
КЧ
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1.С. 109; Т. 9. С. 58; Т. 7. С. 313.
Древнейший период русской истории.
631
строительства Белгорода и основания в нем владычной кафедры, представлялось достаточным для того,
чтобы подчеркнуть один из аспектов деятельности русского князя — строительство городов в безлюдных
местах с последующим основанием в них церквей и «благочестия». Согласно тексту 50-й главы 1-й степени,
наделяя сыновей городами, Владимир призывал их «церкви Божия воздвизати»
90
. О стремлении автора
СК подчеркнуть утверждение православной веры как на Руси, так и вне ее, как главную задачу русского
государя свидетельствует и правка Поучения на память Владимира, повествующего о наставлениях, которые
киевский князь давал своим сыновьям, сажая их по городам (50-я глава 1-й степени). В «достроенной»
части речи Владимира сыновьям, которая отсутствовала в источнике этого пассажа, содержалось
пожелание совместно с представителями высшего духовенства «поганых на благочестие обраща-ти, и
требища идольския разоряти, и всякое нечестие истребляти, и церкви Божия воздвизати»
91
. Очевидно,
особое внимание к такому аспекту деятельности древнерусских князей, как основание ими «благочестия»
«на пустынных местах» могло обусловливаться реалиями России середины XVI века, в которой после
присоединения Казани и Астрахани появилось множество подлежащих христианизации мест. Поэтому
распространение православия на новоприсоединенных землях вызывало особую заботу русских светских и
церковных властей, свидетельством чему служит послание влиятельного деятеля «Избранной рады»
Сильвестра казанскому наместнику Александру Борисовичу [Горбатому], в котором он призывал к самым
энергичным действиям по утверждению православной веры в новоприсоединенном крае
92
. Таким образом,
роль князя в создании церквей и епископий представлена не менее рельефно, нежели роль митрополита.
Вместе с тем в СК объемнее (чем в памятниках летописания) представлена и роль митрополита в решении
дел светских. Так, в рассказе о посаже-нии Владимиром сыновей по городам в 50-й главе 1-й степени автор
СК указывает на то, что «помысли по сихъ преблаженный Владимиръ сов'Ьт благъ сов'Ьщати со отьцемъ
своимъ, преосвященнымъ митро-политомъ Леонтомъ веса Русии, еже бы разделите ему землю Руския
державы въ наследие сыновомъ своимъ и устрой™ во град'Ьхъ епи-
90
ПСРЛ. Т. 21.Ч. i.e. 114.
9
'Там же. С. 114.
" Голохвастов Д. П., Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр и его писания // ЧОИДР. 1874. Кн. 1. С. 88-40.
632
Глава 16
скопы во исполнение благочестия, и нача разд'Ьляти грады сыновомъ своимъ»
93
(указание на какой-либо
«совет» Владимира с митрополитом при наделении сыновей городами в известных источниках памятника
отсутствует). Это в свою очередь свидетельствует в пользу уже высказанного в историографии мнения о
«симфонии» светской и ду-
f >• ^-..л94
ховнои властей как об одной из основополагающих идеи СК .
Своего рода итог деятельности Владимира и ее следствий для русской истории подводит Похвала
крестителю Руси (72-я глава 1-й степени) . Останавливаясь на заслугах Владимира, книжник в первую
очередь отмечает крещение Русской земли, которое позволило поставить русского князя в один ряд с
императором Константином Великим. Однако наряду с этим другой несомненной заслугой Владимира
представлено основание династии русских государей, представители которой за свою многочисленность
сравниваются с потомками Авраама. Однако, окидывая взглядом ветхо- и новозаветную историю,
московский книжник подводит весьма неутешительный итог — потомки Авраама («иже суть израильтяне»)
«мнози многажды заблудиша отъ Бога даннаго имъ закона»; тоже произошло и с сыном Константина
Великого, который «лрелестию дияволею во ариянскую совратися ересь и въ ней же и живота лиши-ся,
царьство вручивъ сроднику своему, Иулияну законопреступнику, и той до конца со истиннаго пути
совратися». Результаты краткого ознакомления с всемирной историей дают основания макарьевскому
книжнику с гордостью отметить, что «блаженнаго же Владимера благорасленый плод въ роды и роды и
донын'Ь никто же не отпаде благодатънаго Христова закона» — «вси и до ныне истинное благочестие
непорочьно сохраняху» .
Предпринятое выше рассмотрение характерных черт представления древнейшего периода русской истории
в СК может быть дополнено весьма красноречивым перечнем тематических блоков, которые вызывали
особый интерес автора рассматриваемого памятника. Анализируя часть СК, посвященную древнейшему пе-
риоду русской истории, можно выделить фрагменты памятника с
93
ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1.С. 113.
94
См. последнюю работу по этому вопросу: Покровский Н. Н. Исторические постулаты Степенной книги царского родословия
// Исторические источники и литературные памятники XVI-XX вв.: Развитие традиций. Новосибирск, 2004. С. 9-10.
"ПСРЛ.Т.21.Ч. 1.С. 136.
%
Там же. С. 132, 134-135.
Древнейший период русской истории.
633

набором сравнительно большого числа использованных источников и наиболее густой редакторской
правкой их фрагментов. Так, если повествуя о большинстве событий, автор ограничивался каким-либо
одним источником (чаще всего летописным), то в ряде случаев основной источник дополнялся другим (или
другими), который позволял расширить или уточнить соответствующий рассказ. Среди подобных
тематических блоков, которые отличаются обилием привлеченных источников и значительным числом
случаев редакторского вмешательства в их текст, выделяются:
• описание пределов «Русской державы» (7-я глава 1 -и степени; лето-
писи, «Слово о погибели Русской земли»);
• рассказ о походах Руси до прихода Рюрика (6-я и 8-я главы 1-й сте-
пени; летописи, Жития Ольги и Стефана Сурожского, Чудеса Дмитрия Солунского, славяно-русский перевод
«Окружного послания» патриарха Фотия);
• «проречение» крещения Руси апостолом Андреем и княгиней Ольгой
(23-я и 24-я главы 1-й степени; летописи, Жития апостола Андрея и Ольги, апокрифические Деяния апостолов, Апостол,
«Память и похвала» Иакова Мниха, вероятно, херсонесское Сказание об апостоле
Андрее);
• крещение Владимира (29-я глава 1-й степени; летописи, «Слово о за-
коне и благодати», Поучение на память Владимира, Жития Ольги и Владимира);
• сообщение об основании крестителем Руси Владимира-на-Клязьме
(42-я глава 1-й степени; Никоновская летопись, Поучение на память
Владимира);
• известие о «посажении» Владимиром сыновей по городам (50-я гла-
ва 1-й степени; летописи, Поучение на память Владимира);
• «Начало Ростовстей церкви» (53-я глава 1-й степени; летописи, Жи-
тие Леонтия Ростовского);
•рассказ об учреждении десятины (58-я глава 1-й степени летописи, Устав Владимира, «Правило о церковных людях»);
• описание достоинств Владимира (60-я глава 1-й степени; летописи,
«Память и похвала», «Слово о законе и благодати»);
• преставление, погребение Владимира и похвала ему (70-я и 72-я гла-
вы 1-й степени; «Слово о законе и благодати», «Память и похвала» Иакова Мниха, Поучение на память Владимира,
проложное Житие Владимира).
Как видим, этот перечень весьма красноречиво свидетельствует о проблемных приоритетах книжника
макарьевского круга при описании истории Древней Руси.
Особое значение для прояснения особенностей представления русской истории в СК имеют итоги
рассмотрения методов работы ее
634
Глава 16
_97
автора
4
'. Как показывает сравнительный анализ текста памятника и его источников, книжник «достраивал»
их фрагменты, насыщая целым рядом эпитетов, как правило, подчеркивающих добродетели описываемых
персонажей (Ольги, Владимира и др.). Вместе с тем, необходимо отметить, что при этом книжник не
домысливал новых фактов. Как показывает сравнение источников СК с ее текстом (особенно перечень
народов в списке «Имен областей русских»), фактические расхождения между ними скорее
обусловливались особенностями понимания книжником середины XVI века реалий его источников,
значительная часть которых создавалась несколькими веками ранее («Слово о законе и благодати», «Слово о
погибели Русской земли» и др.). Это в свою очередь побуждает не согласиться с содержащимся в
историографии утверждением того, что СК создавалась путем «пропуска, измышления и украшения фактов»
. Как показывают результаты исследования данного вопроса, спектр методов автора СК был много шире,
чем механическое копирование отрывков источников и вымысел известий.
Рассмотренный материал позволяет выяснить, какие ответы книжник макарьевского круга предложил на
актуальные для него вопросы при описании древнейшего периода русской истории. Как должна была
начаться история единственной земли, сохранившей верность православию? Она началась в незапамятные
времена («вельми отъ древних л'Ьть и временъ»), когда Русская земля уже была «многа и велика
пространством и неисчстна сильна воиньст-вомъ» и «многимъ странамъ и царствомъ страшна бяху и
многим одол'Ьваху». Каким следует быть православному царю? В пространном жизнеописании Владимира,
крестителя Руси, книжник создает своего рода эталон христианского правителя, мудрого и добродетельного,
управляющего страной в тесном союзе с церковью. Кто направляет историю Русской земли? Ответ вполне
однозначен: Бог, который действует руками добродетельных правителей из рода Владимира. Подобные
варианты ответов на поставленные вопросы и дали возможность аллегорически представить Русскую землю
в виде райского сада, украшенного ее добродетельными правителями — потомками идеального
христианского государя князя Владимира.
9
' Подробнее см.: Усачев А.С. Образ Владимира. С. 63-100.
п
Korpela J. Prince, Saint and Apostol: Prince Vladimir Svjatoslavic of" Kiev, his Posthumous Life and the Religious Legitimizalion of
the Russian Great Power. Wiesbaden, 2001. P. 195.
ГЛАВА 17
МОСКВА КАК НОВЫЙ КИЕВ, ИЛИ ГДЕ ЖЕ ПРОИЗОШЛО
