Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования
Подождите немного. Документ загружается.

собранную из ряда государственных и международных источников.
“Ежегодник Европы” (“Europe Yearbook”) несет в себе различные сведения по
европейским, а в последние годы и по неевропейским странам (в удобной для
использования форме). Дополнительные цифры итогового характера можно
обнаружить в изданиях “Мировой альманах” (“World Almanac”) и
“Энциклопедия стран мира” (“Worldmark Encyclopedia of Nations”),
снабженных хорошими указателями. Много экономической информации
содержится в “Статистическом ежегоднике международной торговли”
(“Yearbook of International Trade Statistics”).
3. Данные по правительственным учреждениям в США. Американские
федеральные и местные органы власти выпускают тысячи публикаций,
отражающих различные аспекты положения в обществе и их собственной
деятельности и приуроченных к проведению различных мероприятий
государственной политики. Конечно, в качестве наиболее плодовитого
поставщика информации выступает федеральное правительство, чьи
многочисленные публикации перечисляются в “Ежемесячном каталоге
публикаций правительства США” (“Monthly Catalog of U.S. Government
Publications”). Если вы приблизительно знаете, от какого ведомства или
правительственного органа может исходить интересующая вас информация, то
в “Ежемесячном каталоге” вы можете обнаружить сведения о публикациях
этого органа. “Окружной ежегодник” (“County Yearbook”) .и “Муниципальный
ежегодник” (“Municipal Yearbook”) содержат данные местного уровня по
политическим, экономическим и демографическим переменным. [c.314]
4. Событийная информация. По своей природе событийные данные не могут
фиксироваться регулярно и в сжатой форме. Их приходится отыскивать в
текущих сводках новостей, составляемых, как правило, без какой-либо оглядки
на специфические интересы политологов. Два наиболее полных источника
газетных новостей – это указатели (индексы) к “Times of London” и “New York
Times”. Еженедельный дайджест текущих событий (с распределением их по
темам) представлен в “Facts-on-File”; впоследствии эти сведения собираются в
ежегоднике “New Dictionary”, уделяющем основное внимание событиям внутри
и вокруг США. “Deadline Data on World Affairs” сообщает о событиях в мире,
группируя их по странам и темам. По-видимому, самым пространным
дайджестом новостей общего характера является “Keesing’s Contemporary
Archives: Weekly Diary of World Events”, где печатаются стенограммы
важнейших речей, информация о выборах и сводки новостей, а также имеются
предметный и именной указатели.
5. Опросные данные. Все перечисленные выше источники представляют
данные в печатном виде. Использование их в крупных исследовательских
проектах предполагает необходимость аккуратной регистрации данных и
приведения их к машинночитаемому виду. Наиболее полезные источники
опросных данных, наоборот, являют собой множества необработанных данных,

зафиксированных в машинно-читаемой форме. Доступ к ним можно получить в
ряде архивов данных, о которых мы говорили выше.
Важно упомянуть о том, что существует также много частных источников
данных. Какие из них способны пригодиться в каждом конкретном
исследовании, определяется спецификой предмета исследования. Если
исследование касается структуры капиталовложений западноевропейских
компаний, то полезные для нее данные можно найти в частных банках или
общенациональных и международных ассоциациях банков. [c.315]
СБОР СВОДНЫХ ДАННЫХ
Установив, какие источники данных нужны для исследования, исследователь
оказывается перед проблемой перевода данных источника в пригодную для
использования форму (кроме тех случаев, когда данные записаны на [c.315]
перфокартах и магнитных носителях). Основная задача тут заключается в
систематическом кодировании и регистрации данных.
Хотя эти операции займут всего лишь малую долю того времени, которая
понадобилась бы для сбора тех же самых данных полевым способом, тем не
менее такая работа может оказаться весьма трудоемкой. Поэтому очень важно
организовать ее как можно более эффективно. Прежде всего следует заранее
тщательно обдумать план исследования и ход намечаемого вами анализа
данных, с тем чтобы уяснить для себя, применительно к каким именно случаям
вам необходимы сводные данные и какие именно меры вас интересуют в
отношении каждого из этих случаев. Не сделав этого, вы рискуете потерять
время на фиксацию в конечном счете ненужных вам данных. Более того, если
достаточно тщательно спланировать исследование, составив список
приоритетных случаев и переменных, то при внезапно обнаруживающейся
нехватке времени или средств на сбор данных можно будет легко принять
наиболее рациональное решение, выключив из рассмотрения некоторые случаи
или переменные, так чтобы обойтись при этом по возможности малыми
жертвами. Если не принять такого решения, то это будет значить, что надо
действовать строго последовательно, собирая либо сразу все данные по
каждому случаю (в ситуации, когда вы хотите оставить за собой право опускать
по ходу дела какие-то случаи, сохраняя, однако, все переменные), либо данные
сразу по всем случаям для каждой переменной или собирать данные для всех
случаев по каждой переменной в отдельно взятый момент (если вам нужна эта
информация, но вы хотите иметь возможность исключить некоторые
переменные).
Так или иначе вам понадобятся два основных средства сбора данных: набор
спецификаций данных и регистрационный бланк данных (recording form).
Спецификации данных – это просто подробные описания данных,
подлежащих регистрации для каждого случая и для каждой переменной,
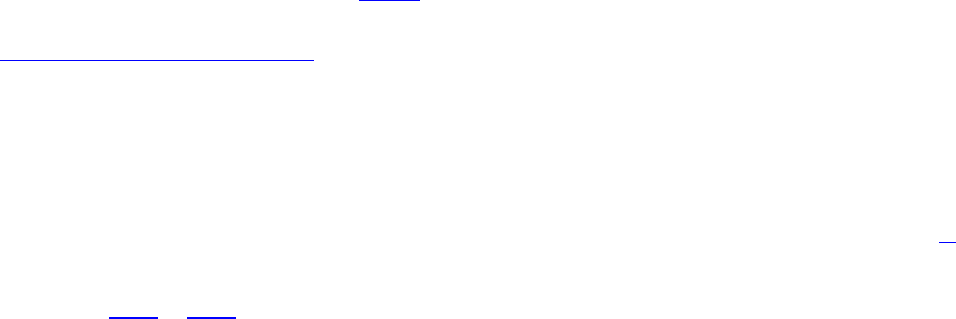
включая любые инструкции по кодированию. Иногда в качестве спецификации
может выступать одна-единственная фраза (в случае данных переписи и
ведомственной статистики), например общая численность муниципальных
служащих в 1980 г. или взрослое население [c.316] страны в 1970 г. Случается,
однако, что простые по видимости данные требуют пространных
спецификаций. Например, если мы хотим получить цифру, отражающую
общую величину государственных расходов на программы социального
обеспечения в каком-то определенном году, нам придется сформулировать, что
в рамках данного исследования понимается под “программой социального
обеспечения”; если нам нужна мера численности личного состава вооруженных
сил государства, то мы должны будем включить в спецификацию этой меры
оговорку, исключающую из подсчета полицейские силы применительно к тем
странам, где полиция формально входит в состав вооруженных сил. Навыки
работы с подобными деталями приходят в результате предварительного
изучения, с одной стороны, предмета исследования, а с другой – различных
систем фиксации конкретных единиц анализа. Но и после такого изучения
исследователь может столкнуться с дополнительными трудностями. Так,
например, может выясниться, что запланированные бюджетом и реальные
расходы на социальное обеспечение сильно различаются или что в
исследовании, предполагающем анализ временного ряда, необходимо
учитывать поправки на инфляцию. Но какую бы корректировку ни
приходилось вносить в исследование в ответ на подобные “хитрости”
материала, делать это надо методологически грамотно и сообразуясь со
значением понятия, операционализированного посредством конкретной меры.
При сборе событийной информации понадобятся очень подробные
спецификации данных, гарантированно учитывающие все значимые
различительные признаки. К примеру, может оказаться необходимым различать
беспорядки и мирные демонстрации, про- и антиправительственные
демонстрации и т.д. Самый надежный способ это сделать – занести в
кодировочную инструкцию, которой предстоит пользоваться кодировщику при
заполнении листа регистрации, те признаки (пусть даже мелкие), которые
отличают интересующее исследователя событие от других событий. (О
кодировании см. подробнее в гл.12.)
Регистрационный бланк предназначен для облегчения процесса сбора
данных. Это аналог бланка интервью, используемого в опросном исследовании,
поскольку, как и [c.317] бланк интервью, регистрационный бланк является
средством систематизации и кодирования наблюдений. Если данные предстоит
впоследствии переносить на перфокарты или на дисплей, в листе регистрации
для ускорения ввода в машину может быть оговорена ширина каждого столбца,
рассчитанного на запись того или иного типа информации. В книге Т.Р. Гурра
11
приводится пример заполнения регистрационного бланка событийных данных
(см. рис. 10.2 и 10.3). [c.318]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы хотели бы призвать начинающих исследователей отдать должное
потенциальным возможностям сводных данных как дополнения к другим видам
данных. Хотя существует множество исследований, опирающихся
исключительно на сводные данные, последние часто могут быть использованы
также и для контрольной проверки точности результатов, полученных на
основании данных других видов. Например, те, кому доводилось изучать
поведение избирателей на выборах, наверняка сталкивались со случаями, когда
те люди, которым свойственно всегда занимать сторону победителя, в
интервью, взятых после выборов, начинают обманывать, заявляя, что они
голосовали за победившего кандидата. Долю ложной информации в выборке
здесь могут помочь оценить как раз сводные данные по результатам
голосования. Если из ответов опрашиваемых следует, что за победителя на
последних президентских выборах голосовало 75% избирателей округа, а
статистика результатов голосования говорит, что реально за него голосовало
лишь 25% избирателей, то результаты опроса придется признать недостаточно
(по меньшей мере) валидным показателем той степени поддержки, которой
победивший кандидат пользуется в данном округе.
Кроме подобного применения, возможно использование сводных данных в
качестве основы для выработки дополнительных показателей понятий, что
позволяет контролировать валидность с помощью множественных показателей
(этот подход обсуждался нами выше). Так, желая определить степень
стабильности социально-политического положения в некотором районе, мы
могли бы, с одной [c.318] стороны, опросить жителей на предмет того,
собираются ли они и дальше проживать в этом районе, а с другой – в качестве
дополнительного показателя изучить сводные данные о частоте смены
домовладельцев в районе за последние несколько лет. Когда результаты
исследования подтверждаются данными, собранными столь различными
методами, степень доверия к этим результатам сильно возрастает. [c.319]
Дополнительная литература к главе 10
Специальных руководств, посвященных исключительно анализу сводных
данных, не существует. Информация о сводных данных большей частью
разбросана по отдельным работам, отражающим результаты применения
различных методов анализа сводных данных. Методика использования сводных
данных в политологии в общих чертах лучше всего описана в работах: Gurr
T.R. Politimetrics. – Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall, 1972; Merritt R.L.
Systematic Approaches to Comparative Politics. – Skokie (Ill.): Rand McNally, 1970.
Chap. 2. Целый ряд практических советов приводится в работе: Stewагt D.W.
Secondary Research. – Beveriy Hills (Calif.): Sage, 1984. Более развернутое
изложение проблем и методов применения сводных данных (с примерами)
содержится в кн.: Тауlоr Ch. L. (ed.) Aggregate Data Analysis. – Paris: Mouton,
1968. Дополнительные примеры исследований, основанных на сводных
данных, собраны в кн.: Тufte Ed. R. (ed.) The Quantitative Analysis of Social
Problems. – Reading (Mass.): Addison-Wesley, 1970. [c.327]
Работа: Steward Ph. L., et al. Political Mobility and the Soviet Political Process: A
Partial Test of Two Models. // American Political Science Review. 1972. Vol. 66. P.
1269–1290, – представляет собой особо впечатляющий прием использования в
качестве сводных данных результатов контент-анализа публикаций. Примером
использования в качестве сводных данных результатов опроса может служить
исследование: Hamilton R.F. Class and Politics in the United States. – N.Y.: Wiley,
1972. На использовании оценочных данных построена в основном работа:
Banks A.S., Техtоr R.B. A Cross-Polity Survey. – Cambridge (Mass.): MIT Press,
1965. Весьма поучительным примером использования демографических данных
и ведомственной статистики может считаться работа: Lеwis-Bесk M.S. The
Relative Importance of Socioeconomic and Political Variables for Public Policy. //
American Political Science Review. 1977. Vol. 71. P. 559–566.
Построение индексов обсуждается в работе: Valkonen Т. Individual and Structural
Effects in Ecological Research. // Dоgan M., Rоkkan S. (eds). Social Ecology.
Cambridge (Mass.): МГГ Press, 1968. P. 53–68, – а преобразование данных (и
вообще способы сбора и применения сводных данных) – в кн.: Wеbb E.L. et al.
Nonreactive Measures in the Social Sciences. – Boston Houghton Mifflin, 1981.
[c.328]

Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования: Пер. с англ. /
Предисловие А.К. Соколова. – М.: Издательство “Весь Мир”, 1997. – 544 с.
Красным шрифтом в квадратных скобках обозначается конец текста на
соответствующей странице печатного оригинала данного издания
Донна Л. Бари
*
11. ПОВЕРХ ГРАНИЦ: ПРАКТИКА СРАВНИТЕЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Все те исследовательские стратегии, с которыми мы до сих пор имели дело, без
труда можно было реализовать, не выходя – как в буквальном, так и в
переносном смысле – за пределы одной страны. По большинству политических
вопросов – начиная с проблемы полномочий правоохранительных органов и
кончая поиском коррелятов политической активности масс – мы можем
получить исчерпывающие данные, исходя из опыта собственной страны. Но в
то же время, сосредоточиваясь только на одной стране, мы ограничиваем свой
кругозор. Если мы хотим научиться лучше объяснять и предсказывать
политические события, то один из путей к этому – обратиться к
сравнительному анализу. Такой подход предоставляет нам возможность
оперировать более широким кругом данных и одновременно позволяет
поднимать такие вопросы, на которые данные одной отдельно взятой страны
ответа дать не могут. Касается ли это мотивов политического насилия, причин
отчуждения народа от правительства, результатов воздействия различных
типов политических организаций на государственную политику или каких-либо
других проблем – во всех случаях сравнительный анализ повышает надежность
наших выводов.
Зачем, в самом деле, ограничиваться изучением только одной страны? Ведь при
этом наши результаты будут прежде всего культурно обусловленными. Дело в
том, что каждая страна обладает своими уникальными особенностями, которые
могут вызвать смещение в результатах исследования. К примеру, мы хотим
выяснить, как социально-экономический статус избирателя влияет на его выбор
при голосовании. Если мы будем располагать только американскими данными,
то скорее всего придем к [c.329] заключению, что социально-экономический
статус и поведение на выборах связаны между собой очень слабо и что неверно
полагать, будто политическое поведение определяется теми социально-
экономическими условиями, в которых приходится жить и работать
избирателям. Если же мы расширим нашу выборку и привлечем данные других
стран Запада – скажем, Великобритании, Франции, ФРГ, – то с большой
вероятностью обнаружим куда более сильно выраженную зависимость, что
отчасти объясняется разницей в историческом развитии социальных классов в
этих странах. Таким образом, США не могут служить типичным примером для
данного случая
1
.

Возьмем другой пример. Допустим, нас интересует, кто и по какой причине
воздерживается от голосования на всеобщих выборах. Что касается США, то
мы обнаружим, что примерно половина избирателей не приходит в день
выборов на избирательный участок. Можно попытаться объяснить это тем, что
демократические выборы – особенно на общенациональном уровне – отбивают
у избирателей охоту голосовать, поскольку не дают им почти никакой гарантии
того, что голос каждого из них может повлиять на исход выборов. Но стоит нам
обратиться к данным Западной Европы, как мы придем к совершенно иному
заключению. Число не пришедших к урнам в среднем составляло 82% всего
числа избирателей в Норвегии в 70-е годы и более 90% в Италии в тот же
период, несмотря даже на то, что там в меньшей степени считали, что большое
число голосовавших преуменьшает эффект любого отдельного бюллетеня
2
.
Таким образом, должны быть другие объяснения тому, почему в США такой
низкий процент участия в выборах, и это становится нам ясно только благодаря
привлечению данных других стран. Сравнительный анализ показывает, что
состязательность в процессе выборов и институционные черты, такие, как
относящиеся к выборам законы и существование двух или многопартийной
системы, развивались долго и постепенно, что объясняет различный уровень
числа голосующих
3
. Оба рассмотренных нами примера говорят о том, что у
американской культуры – как и у любой другой – есть свои специфические
черты, которые могут исказить наши выводы. [c.330]
Сосредоточение внимания целиком на одной стране ограничивает нас еще и в
следующем отношении: оно мешает нам анализировать явления системного
уровня. Другими словами, существуют такие переменные величины (как,
например, тип политической системы или тип административно-
территориальной организации), которые характеризуют страну в целом и
поддаются изучению только при сравнении между собой двух и более стран.
Взять, к примеру, проблемы федерализма. У нас может возникнуть желание
утверждать, что федеральное устройство (когда власть поделена между
правительствами двух и более уровней) способствует неравному
распределению государственных средств между отдельными районами страны.
Если районные власти независимы от федерального правительства, то их
взгляды на то, как и куда тратить правительственные фонды, скорее всего
будут отличаться от мнения центральных властей. Чтобы проверить это
утверждение, нам нужно для сравнения изучить данные по меньшей мере одной
не федеральной, или унитарной, системы (когда отдельные районы формально
не располагают властью, независимой от центрального правительства). И
только обнаружив значительные расхождения между странами с федеральным
и с унитарным устройством, мы будем вправе заключить, что федерализм
представляет собой важную переменную, влияющую на распределение
государственных средств. Точно так же если мы беремся утверждать, что
экономический рост в странах, где индустриализация началась недавно, зависит
от способности правительства контролировать трудовые ресурсы. Чтобы
проверить это утверждение, нам необходимо иметь выборку, включающую

страны с различным уровнем контроля над производством
4
. Таким образом,
всякий раз, когда мы затрагиваем свойства системного уровня, мы оказываемся
перед необходимостью провести сравнительный анализ на материале двух и
более государств.
Сравнительный анализ может оказаться ценным подспорьем также и при
оценке политических реформ или их проектов. Изучение опыта других стран
помогает лучше понять преимущества и недостатки альтернативных “правил
политической игры” и, следовательно, точнее определить потенциальные
плюсы и минусы политической [c.331] реформы у себя дома. В 50-х годах в
США некоторые эксперты выступали за проведение реформы по образцу
британской политической системы, с тем чтобы добиться большего единства
внутри основных политических партий и, как следствие, обеспечить для
среднего избирателя большую ясность в выборе между партиями. Другие тогда
же выдвигали идею пропорционального представительства (система Франции),
при котором число мест, отданных некоторой партии в законодательном
органе, прямо пропорционально числу голосов, полученных ею на выборах, в
результате чего значительное число различных партий и групп имеют в
законодательном органе свой голос, соответствующий степени поддержки их
электоратом. В каждом из этих случаев опыт других стран много говорит нам
как о преимуществах, так и о недостатках соответствующего политического
устройства.
Сравнительный анализ является, таким образом, важной составной частью
политологического исследования, потому что позволяет делать обобщения
поверх узких подчас рамок отдельной культуры, а также осуществлять
проверку некоторых системных свойств. Само собой разумеется, такой анализ
должен удовлетворять всем тем стандартам качественного исследования, о
которых шла речь в предыдущих главах. Кроме того, необходимо
придерживаться следующих правил.
Первое правило касается концептуализации предполагаемого объекта
исследования: необходимо удостовериться, что вопросы, которые мы ставим,
реально допускают проведение сравнительного анализа. Второе правило
заключается в операционализации: каждая переменная величина, используемая
нами, должна быть эквивалентной мерой понятий, которые соответствует
каждой культуре в нашей выборке. Процесс построения выборки в свою
очередь приводит нас к третьему правилу: страны для анализа нужно
отбирать таким образом, чтобы свести к минимуму влияние культуры,
которое может исказить результаты. И наконец, выборка должна
удовлетворять еще одному правилу: наблюдения по каждой стране должны
быть независимыми.
Теперь рассмотрим каждое из этих требований, объясняя, как они могут влиять
на получаемые результаты. [c.332]

ВЫЯВЛЕНИЕ “КОЧУЮЩИХ” ВОПРОСОВ
Первое требование к сравнительному исследованию заключается в том, чтобы
ставить только такие вопросы, которые приложимы к разным культурам. В
такой формулировке это правило, возможно, покажется очевидным, не
нуждающимся в комментарии. Однако его простота обманчива, ибо многие
вопросы из тех, что поднимаются в политологии, на деле приложимы только к
очень узкому спектру стран. Взять, например, излюбленную в современной
политологии проблему объяснения поведения избирателей на выборах.
Постоянный интерес к тем факторам, которые обусловливают выбор
избирателя при голосовании, привел к появлению целой теории со своим
набором изощренных методов, которые по замыслу должны быть применимы в
любой политической обстановке, у нас в стране и за ее пределами. Однако
вопросы о том, почему и как люди голосуют, – плохие “кочевники”, потому что
ограничивают изучение только теми странами, в которых имеют место
регулярные выборы на состязательной основе, а такое условие автоматически
исключает из рассмотрения более половины государств мира
5
. Мы бы, скорее,
согласились исключить обсуждение однопартийных выборов или выборов с
одним кандидатом, хотя в этом случае мы могли бы наблюдать несколько иное
поведение электората и в основном только один выбор – “воздержаться”. Но
когда мало различий – особенно нечего объяснять. Те факторы, которые
заставляют людей голосовать тем или иным образом в странах с состязательной
системой голосования, не имеют никакого значения в случае выборов,
проводимых на конкурентной основе.
Таким образом, выбрав для анализа проблему голосования, мы
сформулировали исследовательскую задачу в терминах, применимых лишь к
части стран. Возможно, само по себе это и не покажется таким уж сильным
недостатком, поскольку наша выборка включает множество стран. Но
существует и другая проблема, – проблема получения по материалам
голосования выводов более общего характера. Считая, как это делают многие
исследователи, что результаты голосования отражают одобрение или
неодобрение избирателями политической системы или [c.333] их предпочтение
определенного кандидата, партии или политики, мы тем самым рассматриваем
выборы как меру для более общего понятия – изъявления населением своих
политических предпочтений. А это исключает допущение того, что государства
без регулярных выборов на состязательной основе могут предоставлять своим
гражданам средства для выражения одобрения, неодобрения или пожеланий
правительству.
Так ли это? Или, может быть, мы искусственно ограничиваем наше
исследование рамками выборов на состязательной основе? Не придем ли мы к
иным выводам, если переформулируем свою задачу? Если, например, мы
начнем задавать вопросы по более общей проблеме – проблеме того, как люди
выражают свое одобрение, неодобрение или предпочтения в сфере политики, –

то обнаружим, что обычные граждане в странах без выборов на состязательной
основе имеют возможность донести до правительства свои предпочтения
другими средствами, а именно теми, которые в более демократических странах
обычно ассоциируются с бросанием бюллетеня в урну
6
.
Например, голосование может быть формальностью, но граждане могли бы
рассмотреть другие формы участия в гораздо более благоприятном свете.
Таким образом, множество людей, игравших активную роль в советских
общественных организациях (таких, как домовые комитеты или профсоюзные
комитеты) в брежневскую эпоху, чувствовали, что они имеют влияние и
широкие полномочия в своих организациях и в советском обществе, хотя в то
время “выборы” единственного кандидата были, скорее, политическим
ритуалом
7
. И множество активистов, участвовавших в общественной жизни,
чувствовали, что их деятельность имеет вес и значение и изменяет ход событий,
хотя они и не были удовлетворены системой в целом
8
.
В дополнение можно сказать, что, даже если выборы в коммунистических
странах традиционно предлагали очень ограниченное число возможностей “для
выбора”, избиратели все же в известном смысле использовали их, чтобы
“озвучить” свои требования к деятельности правительства. Например, в СССР
избиратели имели несколько путей, чтобы посредством голосования “надавить”
на местные власти, даже когда выбирался единственный [c.334] кандидат.
Коммунистическая партия, как правило, ожидала, что представители местных
властей обеспечат как можно более высокий процент голосования, а это давало
в руки избирателей своего рода рычаг, позволявший требовать улучшений в
сфере коммунальных услуг. Иногда избиратели грозили воздержаться от
голосования, если местные власти не пойдут навстречу их требованиям,
касающимся улучшения жилищных условий, состояния дорог, водопровода,
канализации. (Тем не менее не все их требования могли быть удовлетворены, и
некоторые избиратели никогда даже не регистрировались, чтобы не
участвовать в выборах)
9
.
Более того, хотя в социалистическом государстве избиратель, возможно, и не
решал, кто будет управлять страной, у него (нее) было несколько путей донести
до правительства свое мнение или свои предпочтения в отношении действий
властей. Существовал и такой путь: обратиться с вопросом или жалобой.
Официальная пресса ежедневно публиковала вопросы и предложения
читателей по поводу деятельности государственных учреждений, начиная с
вопросов качества потребительских изделий и кончая вопросами охраны
окружающей среды и безопасности атомной энергетики. Жители могли также
обращаться непосредственно в государственные учреждения с просьбами
помочь в разрешении жилищных или пенсионных проблем
10
. Круг таких
проблем, разрешенных к обсуждению, был, конечно, ограничен;
“политические” жалобы на высших политических лидеров или на роль партии,
например, могли повлечь серьезные репрессии. И все же, как сообщали многие
