Лотман Ю.М., Живов В.М., Аверинцев С.С., Панченко А.М. и др. Из истории русской культуры. Том IV (XVIII - начало XIX века)
Подождите немного. Документ загружается.


Державин Г. Р. Сочинения. С объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. I—IX. СПб., 1864—
1883.
Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1933.
Джунковский С. Александровка, увеселительный сад в. к. Александра Павловича. СПб., 1793 (2-е
изд. — Харьков, 1810).
Дмитриев И. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1967.
Жуковский В. А. Полное собрание сочинений в 12-ти томах. СПб., 1902.
История... Выписана История печатная о Петре Великом. Собрание от Святого Писания о
Антихристе // Чтения в Имп. Об-ве Ист. и Древ. Росс. 1863. Кн. I. Смесь, с. 52—71.
Кантемир А. Собрание стихотворений. Л., 1956.
Капнист В. В. Собрание сочинений в 2-х томах. Т. 2. М.; Л., 1960.
Капнист В. В. Избранные произведения. Л., 1973. Карамзин Н. М. Письма к И. И. Дмитриеву.
СПб., 1866.
Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений. Под ред. Ю. М. Лотмана. М.; Л., 1966.
Княжнин Я. Б. Письмо Ея Сиятельству кн. Б. Р. Дашковой... // Собеседник любителей
Российского Слова. Ч. XI. СПб., 1784.
Кононко. Примечания на сочинения Державина. Публ. и комм. Е. Н. Кононко // Вопросы русской
литературы. Вып. 2 (22). Львов, 1973.
Коплан Б. К стихотворению «Пророк» // Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова. М.;
Пг., 1923.
751
Коровин Г. М. Ранняя комедия Д. И. Фонвизина // Лит. наследство. Т. 9—10. М.; Л., 1933.
Котовнч А. Духовная цензура в России (1799—1855 гг.). СПб., 1909.
Кулакова Л. И. О спорных вопросах в эстетике Державина // XVIII век. Сб. 8: Державин и
Карамзин в литературном движении XVIII—нач. XIX века. Л., 1969.
Лемке М. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904.
Лернер Н. О. Примечания к стихотворениям 1826—1828 гг. // Пушкин. Т. IV. СПб., 1910.
Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. I—X. М.; Л., 1950—1959.
Лотман Ю. М. Поэзия 1790—1810 годов // Поэты 1790— 1810-х годов. Л., 1971.
Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Вып. 2. Тарту, 1973.
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Слоры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры // Уч.
зап. ТГУ. Труды по русской и славянской филологии, XXIV. Вып. 358. Тарту, 1975.
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры // Уч. зап.
ТГУ. Труды по русской и славянской филологии, XXVIII. Вып. 404. Тарту, 1977.
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Новые аспекты изучения культуры Древней Руси // Вопросы
литературы. 1977, № 3, с. 148—166.
Майков Л. Н. Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий. СПб., 1889.
Маслович В.- (О стихах А. Нахимова) // Харьковский Демокрит. 1816. Май.
Моисеева Г. Н. Ломоносов и древнерусская литература. Л., 1971.
Муравьев М. Н. Стихотворения. Л., 1967.
Нахимов. Сочинения Акима Нахимова, в стихах и прозе... 2-е изд. Харьков, 1816.
752
Остафьевский Архив... Остафьевский Архив князей Вяземских. Т. I—III. Переписка кн. П. А.
Вяземского с А. И. Тургеневым (1812—1836). СПб., 1899.
Отчет... Отчет Имп. публичной библиотеки за 1892 год. СПб., 1895.
Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973.
Петров В. Сочинения. Уч. I—III. Изд. 2-е. М., 1811. Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971.
Пумпянский Л. В. Очерки по литературе первой половины XVIII века // XVIII век. Сб. статей и
материалов. М.; Л., 1935.
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. I—XVI. М.; Л., 1937—1949.
Решетников. Полное собрание псалмов Давыда поэта и царя, переложенных как древними, так и
новыми Российскими стихотворцами..., собранные... А. Решетниковым. М., 1911.
Свербеев Д. Н. Записки. Т. I. M., 1899.
Серман И. 3. Поэтический стиль Ломоносова. М.; Л., 1966.
Солосин И. И. Отражение языка и образов Св. Писания и книг богослужебных в стихотворениях
Ломоносова // Изв. ОРЯС. 1913. XVIII. Кн. 2.
Сперанский М. Н. Тайнопись в юго-славянских и русских памятниках письма. Л., 1929.

Сумароков А. П. Дополнение к духовным стихотворениям. СПб., 1774.
Сумароков А. П. Полное собрание всех сочинений. Части 1-Х. 2-е изд. М., 1787.
Сумцов Н. Ф. А. С. Пушкин. Исследования. Харьков, 1900.
Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. I. Сб. ОРЯС. Т. XI. — 2. СПб., 1874.
Толстой Д. А., гр. Городские училища в царствование имп. Екатерины П. СПб., 1886.
Тредиаковский В. К. Стихотворения. Л., 1935.
Тредиаковский. Неизданные тексты В. К. Тредиаковского // Венок Тредиаковскому. Волгоград,
1976.
753
Тынянов Ю. Ода как ораторский жанр // Поэтика. Временник отдела словесных искусств ГИИИ.
Вып. III. Л., 1927.
Успенский Б. A. Historia sub specie semioticae // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976.
Хвостов. Из архива Хвостова. Публ. А. В. Западова // Литературный архив. Материалы по
истории литературы и общественного движения. Т. I. М.; Л., 1938.
Херасков М. М. Избранные произведения. Л., 1961.
Черняев Н. И. «Пророк» Пушкина в связи с его же «Подражаниями Корану». М., 1898.
Яворский. Проповеди блаженный памяти Стефана Яворска-го... Часть III. M., 1805.
Boileau Despreaux. Oeuvres completes. T. II. Paris, 1832.
Briantchaninov. Mgr. Ignace Briantchaninov. Lettres inedites // Le Mes-sager, 1832.. 1977.N 121.
Danielou J. Message evangelique et culture hellenestique aux II
е
et НГ siecles // Bibliotheque de
theologie. Histoire des doctrines chretiennes avant Nicee. Vol. II. Tournai, 1961.
Ilvonen E. Parodies de themes pieux dans la poesie frangaise du moyen age. Helsingfors, 1914.
Laharpe J. F. Lycee ou cours de litterature ancienne et moderne. T. VII. Paris, 1813.
Lehmann P. Die Parodie im Mittelalter. 2. Aufl. Stuttgart, 1963. Rousseau J. B. Oeuvres poetiques. T. I.
Paris, 1823. Schapiro M. Words and pictures. The Hague—Paris, 1973.
Ю. М. Лотман
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТАТЬЕ В. М. ЖИВОВА
[«Кощунственная поэзия...»]
Статья В. М. Живова, бесспорно, привлечет внимание специалистов. На широком
историко-литературном материале автор развертывает концепцию, отличающуюся не
только новизной, но и убедительностью. Традиционная историко-культурная схема,
сложившаяся еще во время Пыпина, исходила из представления о том, что до эпохи
петровских преобразований русская литература имела однородно-церковный характер,
а после приобрела полностью секуляризованный, светский вид. В части, касающейся
древнерусской литературы, эта условная схема давно уже заменена детализованной и
богатой картиной, основанной на конкретных исследованиях и рисующей сложное
переплетение различных внутрицерковных тенденций на фоне внецерковной и
антицерковной идеологической и литературной жизни. Относительно же после-
петровского культурного развития все еще продолжает считаться аксиомой
представление о полной ликвидации церковной культуры, якобы утратившей всякое
влияние на духовную жизнь нации. Весь материал, касающийся этой проблемы, из
историко-культурного рассмотрения обычно исключается. Однако, если бы дело
сводилось к необходимости механически прибавить к светским текстам историю
церковных памятников XVIII—XIX вв., то решение проблемы не представляло бы
значительной трудности. Вопрос в ином: необходимо найти для этих памятников
место в историко-культурной жизни эпохи. А это влечет за собой потребность
изменения перспективы, в которой традиционно рассматривалась сама светская
литература XVIII — нач. XIX вв.
756
Исследование В. М. Живова дает в этом смысле исключительно много. Рассмотрев
обширный поэтический материал, исследователь обнаружил мощный пласт цитат,
реминисценций и отсылок, связывающий светскую литературу тех лет с сакральными
текстами. Эти последние не были забыты или вычеркнуты из культурной памяти эпохи.
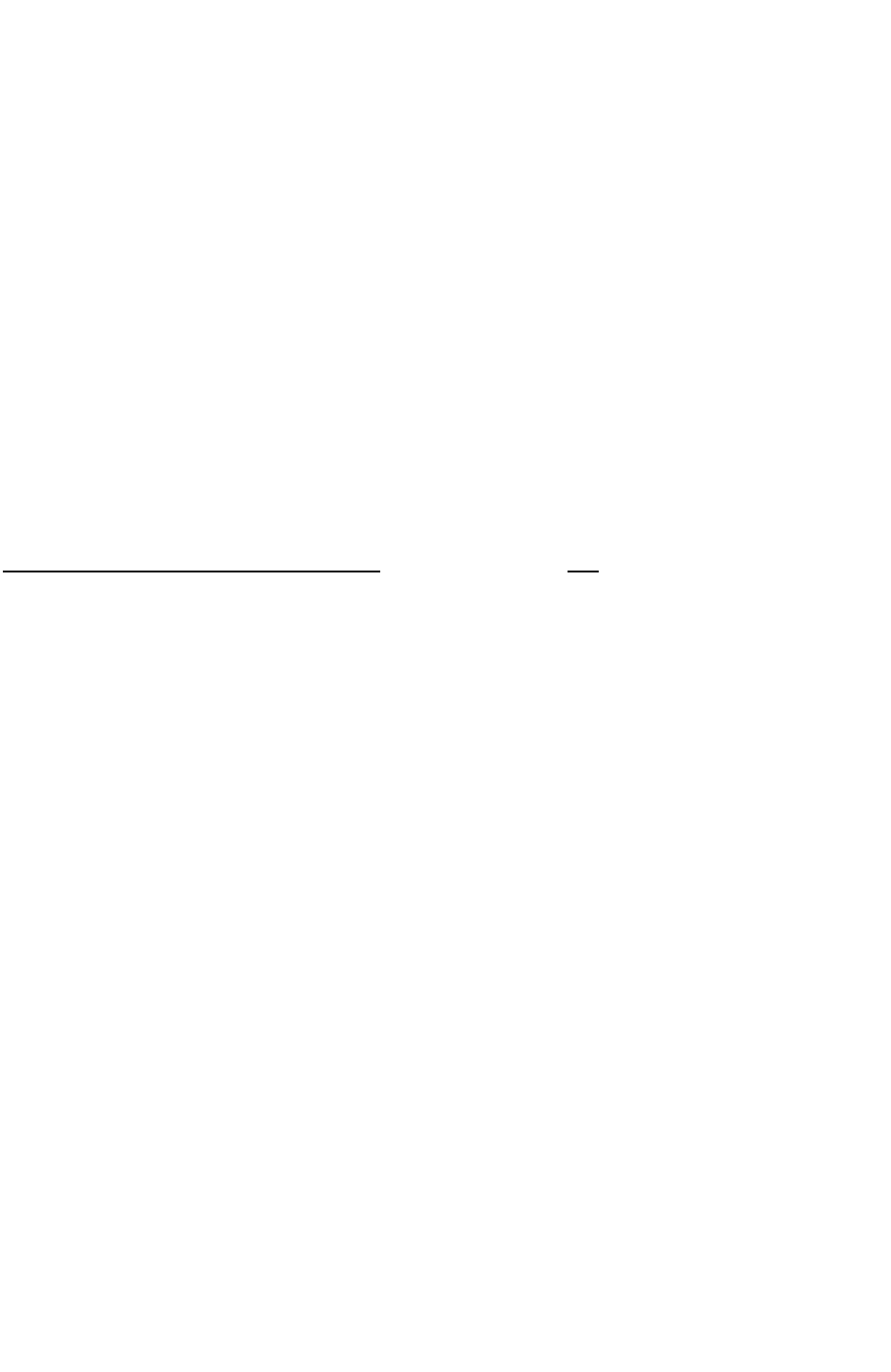
Они оставались ее живым и активным участником, с которым светская литература ведет
постоянный диалог.
Рассматривая характер этого диалога, В. М. Живов обнаруживает два функционально
противоположных типа отношений. В высоких светских жанрах, имеющих торжественно-
официальный характер (в первую очередь, в оде), автор устанавливает тенденцию
уподобления традиции церковных текстов, которую он называет сакрализацией.
Социологический корень этого явления он видит в сакрализации, которой подвергается
новая — светская — петровская государственность в ходе ее идеологического
самоутверждения.
С этим процессом В. М. Живов связывает «сакрализацию» образа поэта, который
наделяется в культурном сознании эпохи чертами пророка. Приводимые в связи с этим
факты своеобразной «конкуренции» и ревности, которую испытывает клир в отношении к
поэтам, исключительно интересны сами по себе и тонко интерпретированы автором.
В нижних этажах здания литературы В. М. Живов обнаруживает противоположную
тенденцию — исключительно мощный пласт кощунственной поэзии. Причину этого
своеобразного и изучавшегося лишь спорадически и весьма односторонне явления он
видит в следующем: автор справедливо отмечает, что русская православная церковь и
отдаленно не располагала в XVIII в. той политической властью и административным
весом, какие имела, например, католическая церковь во Франции того же столетия.
Действительно, если в 1757 г. в связи с полемикой между Ломоносовым и Синодом
неизвестный сторонник автора «Гимна бороде» писал:
Несколько слов о статье В. М. Живова...__________________767
Пронесся слух: хотят кого-то будто сжечь; Но время то прошло, чтоб наше мясо печь
1
(Поэты XVIII века 1972; II, 400),
то во Франции в 1762 г. был колесован Жан Калас, а тело его сожжено. Синод назвал
Ломоносова «продерзателем к бесстрашному кощунству», но не смог причинить ему
вреда, а в Абвиле (Франция) в 1766 г. суд признал шестнадцатилетнего дворянина Ла
Барра виновным в кощунстве и оскорблении религии, и виновный был подвергнут
мучительной казни: ему отрубили правую руку, голову, а тело сожгли. Ни о чем подобном
в России XVIII в., конечно, не могло быть и речи. Из этого В. М. Живов делает вывод, что
во Франции кощунственная поэзия могла иметь полемический противоцерковный смысл,
в России же для такой борьбы не было оснований, и, в тех случаях, когда те или иные
тексты не были данью западноевропейским штампам, они имели совершенно иной, специ-
фический русский смысл: ода сакрализировалась, — следовательно, борьба с ней,
пародирование ее в низких жанрах «внелитературной литературы» неизбежно принимали
кощунственный характер.
Концепция В. М. Живова отличается широтой и оригинальностью: она не только
привлекает наше внимание к фактам, прежде остававшимся вне рассмотрения, но и
объясняет их весьма примечательным образом. Однако хотелось бы указать на некоторые
опасности, связанные с ее излишне прямолинейным приложением к многослойному
историческому материалу.
Исключительно интересны параллели между светской одой и церковной проповедью,
убедительно подтвержденные обильным материалом фразеологизмов и цитат,
синтаксических и композиционных соответствий. Однако, когда автор утверждает
содержательную близость этих жанров, говоря: «Надо думать, что для русских поэтов
XVIII в. этот Высший Разум не противополагался
1
Автором, видимо, был И. Барков. См.: Берков 1936, 235, 312.
758
Богу, почитаемому церковью: для них — субъективно — это было лишь более
«просвещенное «понятие о том же божестве», — то мысль его вызывает возражения. С
распространением ньютоновской физики, главным пропагандистом которой на
континенте был Вольтер, вольтерьянского деизма и руссоистской религии Природы,
между культом божественного Разума и церковным Богом пролегло глубокое различие,

сводившееся к принципиальному разногласию в отношении к откровению, с одной сто-
роны, догматике, церковному преданию, традиции и обряду, — с другой. Обе стороны
сознавали взаимную враждебность, и сакрализация государственных ценностей свиде-
тельствовала об их противоположности, а не единстве.
«Сакрализованные» торжественные жанры светской поэзии не тождественны церковным
жанрам, которым они функционально соответствуют в некотором широком культурно-
историческом контексте. Идея сакрализации государственности и ее носителя —
абсолютного монарха была, конечно, ближе к языческой эпифании, чем к христианской
догматике. Однако полемика далеко не всегда связана с перечеркиванием отрицаемой
традиции — часто она диктует ее усвоение. Убедительно показанное В. М. Живовым
уподобление новой светской поэзии определенным формам церковной традиции может
быть сопоставлено с тем, как христианство на ранних 'этапах во имя вящего торжества
над язычеством воспринимало некоторые формы язычества. Однако на втором этапе,
когда враг, как кажется, уже побежден и полемичность не только теряет актуальность, но
и забывается, усвоенные некогда формы вдруг обнаруживают тенденцию «порождать»,
казалось бы, давно забытое архаическое содержание, которое из «старого» вдруг делается
«новейшим», заполняясь новой жизнью. Так, совершенно безобидные, с точки зрения
христианства, и, напротив, способствовавшие миссионерской деятельности, допущенные
церковью обломки языческих обрядов и античной культуры вдруг дают импуль-
759
сы культуре Ренессанса, народному ярмарочному кощунству и др. аналогичным
явлениям
2
.
Думаем, что на протяжении XVIII — начала XIX вв. функция сакральных элементов в
светской поэзии была
2
Секуляризированная послепетровская государственность была и отрицанием, и продолжением
средневековой традиции русской власти. Подчеркивание того или другого аспекта, в значительной
мере, — вопрос описания. Необходимо учитывать, что и та и другая историческая реальность
была многослойна и поддавалась весьма различным интерпретациям. Нуждается в уточнении и
термин «сакрализация», который достаточно широк, чтобы включить в себя и веру в
божественную природу царской власти, и представление о личности царя как эпифании божества,
и жанровый ритуал — «барочную» риторику. Без достаточного определения, что имеется в виду,
трудно выяснить, действительно ли описываемое явление — плод послепетровской культуры.
Достаточно отметить, что при всей несовместимости веры в то, что царь представляет собой
реальное воплощение божества, с православной ортодоксией, представления этого рода
встречались именно в допетровской Руси, например, в писаниях Ивана Грозного. Культура XVIII
в. вносит в этот вопрос характерную жанрово-стилистическую обусловленность: в одической
поэзии государя можно представить в образе Бога (чаще всего — языческого; ср. торжественный
портрет эпохи барокко), в политических трактатах он выступает как монарх, чьи права на власть
определены мудростью, пользой подданных или договором (следуют ссылки на Гуго Греция,
Монтескье, мнение «политических народов» и пр.). Но в век, когда монархов и монархинь
«творили» заговоры, которые плелись в гвардейских казармах и кабаках, когда дверь в спальню
императрицы сделалась более чем доступной, трудно было воспринимать идею божественности
монарха иначе, чем как жанровую риторику. Способность воспринимать одно и то же лицо —
императрицу — в разных кодовых регистрах ясно иллюстрируется словами кн. М. М. Щербатова,
который называет Елизавету в мужском роде, когда говорит о ней как о правителе (недостойном),
и в женском, характеризуя как доброго человека: «Да можно ли было сему инако быть <расточи-
тельству подданных. — Ю. Л.>, когда сам Государь прилагал все свои тщании ко украшению
своея особы, когда он за правило себе имел каждой день новое платье надевать <...> При
сластолюбивом и роскошном Государе не удивительно, что роскош имел такие успехи, но
достойно удивления, что при набожной Государыне, касательно до нравов, во многом
божественному закону противуборст-вии были учинены» (Щербатов II, 219—220). На это
наслаивалось в последней трети века просветительское представление о высшем достоинстве
Человека, что позволило Державину ввести в оду именно десакрализованный, человеческий образ
Екатерины.
760

неоднородной: в период ее становления прилагались усилия к превращению сакральных
элементов в факт стилистики и жанра, в позднейшем они неожиданно приобрели
религиозно-содержательный характер. Церковнославянский язык для Ломоносова
принадлежит стилю и жанру, для Шишкова — вере и нравственности. Попутно хочется
заметить, что противопоставление Шишкова и Беседы церковным иерархам 1820-х гг. и
их культурной позиции представляется сильно преувеличенным. Приводимое В. М. Жи-
вовым высказывание Игнатия Брянчининова исключительно красочно и эффективно
иллюстрирует мысль автора статьи. Однако, даже если оставить в стороне его более
поздний характер и очевидный максимализм, нельзя забывать о таких фактах, как участие
в Российской Академии Шишкова, организационно и идеологически нераздельной с
Беседой, «особ из высшего духовенства, как то: преосвященных Иринея псковского,
Анастасия белорусского, Мефодия тверского, Феоктиста курского и Михаила
черниговского» (Жихарев 1955, 428), или то, что именно разгром голицынского
мистицизма и Библейского Общества в результате усилий митрополитов Серафима и
Фотия привел Шишкова, лично не любимого Александром I, в кресло министра
просвещения. В равной мере неосторожно распространять при оценке функции кощунства
ситуацию XVIII в. на эпоху Священного Союза и 1820-х гг. «Мистики придворное
кривлянье» (Пушкин) эпохи Голицына, разгром Казанского и Петербургского
университетов и «дело профессоров», инспирированные Магницким и Ру-ничем, отнюдь
не делали кощунство беспредметным во вне-литературной сфере. Характер возникшего в
1828 г. «дела о Гавриилиаде» также говорит против односторонности в трактовке ее
полемической направленности.
Исключительно любопытны соображения В. М. Живова о путях сакрализации образа
Поэта в литературе XVIII — начала XIX вв. Однако кажется, что здесь кон-цепционная
«жесткость» сняла некоторые существенные
761
оттенки проблемы. Распространение религии Природы в предромантической,
руссоистской и штюрмерской литературе привело к изменению представления о
природе поэтического творчества. Поэт предстал как одержимый пророческим
вдохновением. В этом понимании пророк далеко не всегда влек непосредственно
библейские ассоциации: библейские образы пророков, оссиановские барды,
скандинавские скальды, пророческое безумие дельфийских жриц — все это
представало как разные облики божественного вдохновения. О том, в какой мере это
могло быть отделено от церковной ортодоксии, свидетельствует, что «глас Натуры»
может вещать не только устами поэта — сама Природа уподобляется пророку:
Древний бор в благоговеньи Движет старческой главой, И в священном исступленьи Говорит с
самим собой...
(Мерзляков 1958, 207).
Ни славянизмы языка, ни библеизмы фразеологии в таких случаях не выходят за
пределы стилистики.
Ситуация изменилась во вторую половину 1810-х — 1820 гг., когда в псалмах Ф.
Глинки, «Давиде» Грибоедова, «Давиде» Кюхельбекера стилистическая проблема пе-
рерастает в сакральную по содержанию. Именно в этот момент оказывается
возможным появление демонических «черных» текстов. Если в эпоху предромантизма
языческий поэт, шаман, колдун могли быть помещены в один ряд с христианским
пророком, поскольку ряд этот имел литературную природу и отражал деистическое
равнодушие к вопросам догматики или даже шире — к религиозным спорам, то
теперь, в эпоху романтизма, действительно, приходилось выбирать между молитвой и
кощунством, причем последнее облекалось в формы уже не словесной игры или
легкомысленной шутки, а «черной молитвы», обращенной к демоническим силам:
762
И часто звуком грешных песен Я, боже, не тебе молюсь

(Лермонтов I, 73).
«Грешные песни» — любовная поэзия, исконно рассматривавшаяся в
послепетровскую эпоху как вполне узаконенная, нейтральная сфера словесности,
оказывается дьявольской молитвой. Восстанавливается допетровский дуализм
божественного — дьявольского, причем, как в средневеково-аскетической системе,
«человеческое» отождествляется со вторым, но как в реиессансно-просве-тительской
традиции, оно совмещено с авторской позицией и наделено страстной
привлекательностью. Показательно, что это «демоническое» кощунство романтика
уже не нуждается в библейских цитатах и реминисценциях, количество которых у
Лермонтова, например, резко падает по сравнению с Пушкиным или Державиным.
Статья В. М. Живова ставит исследователей русской поэзии перед новой проблемой и
в определенном смысле намечает пути ее решения, прибегая, что естественно в такой
ситуации, к полемически заостренным формулировкам. Обсуждение поставленных в
статье проблем приблизит нас к их решению.
Литература
Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени (1750—1766). Л., 1936.
Жихарев С. П. Записки современника. М.; Л., 1955. Лермонтов М. Ю. Сочинения: В шести
томах. М.; Л., 1964. Мерзляков А. Ф. Стихотворения. Л., 1968.
Щербатов. Сочинения князя М. М. Щербатова: В двух томах. СПб, 1898.
С. С. Аверинцев
ПОЭЗИЯ ДЕРЖАВИНА
В одной'оде Державин требует от живописца представить ему картину утра — и
тотчас, состязаясь с живописью в наглядности, спешит дать эту картину сам.
Изобрази мне мир сей новый В лице младого летня дня: Как рощи, холмы, башни, кровы, От
горнего златясь огня, Из мрака восстают, блистают И смотрятся в зерцало вод; Все новы чувства
получают, И движется всех смертных род.
Эти строки могли бы служить эпиграфом ко всей державинской поэзии. В ней царит
настроение утра. Человек, освеженный здоровым сном, с «новыми чувствами»
смотрит на мир, словно никогда его не видел, и мир на его глазах творится заново.
Рассветные сумерки рассеялись, туманы куда-то исчезли, на небе ни облачка. Ничем
не смягченный свет резко бьет прямо в глаза. Горизонты неправдоподобно,
ошеломляюще прозрачны, видно очень далеко. Каждая краска — яркая, полутонов
нет.
И будто вся играет тварь; Природа блещет, восклицает.
Природа «восклицает», как пристало природе, не соразмеряя громкости, не стесняясь
своей стихийной силы, шумно и безудержно, и поэзия «восклицает» ей в лад.
Природа «блещет», и поэзия не нарадуется на картины световых эффектов, на
отражение и преломление световых лучей в золоте и «кристалях». Век Державина был
без ума от фейерверков. Легко увидеть, что и блиста-
764
ние небесных светил представлено в державинской поэзии как веселый и грозный
фейерверк, устроенный божеством, а потому превосходящий все земные фейерверки
своим великолепием, но тут же превзойденный блеском явления самого вечного
Пиротехника:
Светил возжженных миллионы
В неизмеримости текут;
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампады,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,

Иль вкупе все светящи миры —
Перед Тобой, как нощь пред днем.
Уж если тут является луна, в ней нет ни грана сладкой романтической меланхолии; ее
дело — устраивать праздничную иллюминацию, подходящую к нарядным покоям с
лакированными полами, как это описано в зачине оды «Видение мурзы»:
Златые стекла рисовала На лаковом полу моем.
Наконец, солнце и подавно светит во всю мочь, почти невыносимо для взора. От полноты
света перехватывает дыхание. Ни у одного поэта больше нет такого неба: мы словно до
отказа запрокинули головы, чтобы увидеть его все, и нам вдруг раскрывается его высота и
ширь.
Лазурны тучи, краезлаты, Блистающи рубином сквозь, Как испещренный флот богатый,
Стремятся по эфиру вкось.
Разрядка поэтической энергии, накопленной в роскошных свето-цветовых эпитетах,
живописующих тучи, в
766
сравнении их с парусными судами, воскрешающем в уме все великолепие старинного
флота и заодно все победы, одержанные русскими на море в эпоху Чесмы, приходит
наконец в последней строке, размашисто, одним ударом кисти, но поразительно
наглядно представляющей картину небосклона в движении.
Головокружительная глубина опять и опять выявляется через движение, и прежде
всего через движение лучей, ибо пространство у Державина до предела насыщено
светом, или, лучше сказать, пространство и есть свет, свет и есть пространство.
Как с синей крутизны эфира Лучам случится ниспадать...
Блистание неба внизу отражено и удвоено блистанием поверхности вод и вообще
всего, что способно блистать. Если только что у нас был повод вспомнить страсть
современников поэта к фейерверкам и праздничным иллюминациям, здесь
вспоминается их же увлечение зеркалами, люстрами, в которых каждый луч по многу
раз отражается или дробится.
«ч'
Сребром сверкают воды, Рубином облака, Багряным златом кровы; Как огненна река, Свет ясный,
пурпуровый Объял все воды вкруг.
Кристальная прозрачность воздуха, бодрящая ясность света — для державинского
ландшафта норма. Иного почти не бывает. Правда, порой свет оттенен своей
живописной противоположностью — непроглядным, ужасающим мраком ночи или
непогоды.
Представь: по светлости лазури, По наклонению небес, Взошла черно-багрова буря
766
И грозно возлегла на лес, Как страшна нощь; надулась чревом, Дохнула с свистом, воем, ревом,
Помчала воздух, прах и лист.
Уж если буря, так «черно-багрова»; мрак все еще пронизан огнем, но только кровавым,
адским. Понятно, что долго такие страхи не продлятся, — буря минет, и заблещет солнце.
Чего в поэзии Державина нет вовсе, так это безразличного, нейтрального состояния
природы. Или полнота света — или темень. В своем программном «Рассуждении о
лирической поэзии, или Об оде» сам поэт требовал, чтобы поэтические картины были
«кратки, огненною кистью, или одною чертою, величественно, ужасно или приятно
начертаны». Темень «ужасна», заливающий все сущее свет «приятен», то и другое
«величественно»; впрочем, не только в ужасе, внушаемом отсутствием света, есть своя
приятность, своя сладость, но и удовольствие, доставляемое светом, неразрывно связано с
трепетом и замиранием перед слепящей яркостью утренних или полуденных лучей, перед
их чрезмерностью. Чрезмерно все — и «ужасное», и «приятное», и то и другое в своей
чрезмерности «величественно». Невеличественного вообще нет. Даже в пародии
осмеиваемый предмет через осмеяние тоже приобщен к величию.
Единство державинского мира в его возвышенных и низменных аспектах поэтически

воплощено под знаком той же световой образности. Лучи солнца льются на все земные
предметы без разбора, заставляя их светиться и блестеть. При державинском состоянии
природы не остается вещи, которая могла бы не блестеть; но блеск — атрибут
драгоценного металла или камня. Поэтому ландшафт, окидываемый одним взглядом
откуда-то сверху, как на гравированной карте-панораме, приобретает вид ювелирного
изделия. Метафорика золота и серебра, давно затасканная и стершаяся от частого
употребления, возвращает свою свежесть и зрительную конкретность.
767
По пословице, не все то золото, что блестит. Но мудрость этой недоверчивой
пословицы — не для музы Державина. У нее все, что блестит, — золото, или серебро,
или драгоценные камни, или жемчуга, или хотя бы стекло, приближающееся к
самоцветам по признаку свето-носности, а иногда стекло и золото сразу!
Сткляныя реки лучом полудневным, Жидкому злату подобно, текут...
Алхимия поэзии превращает в драгоценности все, чего ни коснется. Масло и мед,
грибы, ягоды и свежая рыба — вещи аппетитные, но едва ли они навели бы другого
поэта на мысль о драгоценных металлах и роскошных тканях.
Где с скотен, пчельников и с птичников, прудов, То в масле, то в сотах зрю злато под ветвями, То
пурпур в ягодах, то бархат-пух грибов, Сребро, трепещуще лещами.
Образность последней строки усилена крайне выразительным звучанием; а натюрморт
в целом хотелось бы назвать фламандским, если бы он не был до такой степени
русским.
Застолье, к слову сказать, — один из важнейших символов, переходящих из одного
стихотворения Державина в другое. Он приглашает нас на пир своей поэзии, как
хлебосольный, тороватый хозяин, — и сам, как гость, с изумлением, с нерастраченным
детским восторгом, ни к чему не привыкая и не остывая, ни от чего не утомляясь,
благодарно смотрит на щедроты бытия.
Я озреваю стол, — и вижу разных блюд Цветник, поставленный узором:
Багряна ветчина, зелены щи с желтком, Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, Что смоль,
янтарь-икра, и с голубым пером Там щука пестрая — прекрасны!
768
Весь Державин — в той наивной простоте, с которой зарифмованы, но также и сопряжены
по смыслу «раки красны» и «прекрасны». Младший современник Державина, литератор
И. И. Дмитриев, оставил забавный рассказ о том, как поэт во время застолья ловил
эстетические впечатления как раз для этой строфы:
«В другой раз заметил я, что он за обедом своим смотрит на разварную щуку и что-то
шепчет; спрашиваю тому причину. „Я думаю, — сказал он, — что если бы случилось мне
приглашать в стихах кого-нибудь к обеду, то при исчислении блюд, какими хозяин
намерен потчевать, можно бы сказать, что будет и щука с голубым пером"».
Эта поэзия довольства, поэзия сытости, пожалуй, отталкивала бы нас, не будь она
абсолютно чистой от налета пресыщенности. Пресыщенности нет и в помине; вот почему
то, что вкусно, что чувственно приятно для самого невинного, но и самого прозаичного из
человеческих вожделений, переживается с полной искренностью как «прекрасное». В
уютном, тяжеловесном, насыщенном запахами домашнем обиходе поэт ощущает не
какую-нибудь иную, а ту самую красоту, которую он же видел льющейся в блеске
солнечных лучей «с синей крутизны эфира». Но увидеть ее могут только глаза, которые
приучены глядеть на каждый предмет — повторим еще раз это слово — благодарно,
которым не надоедает благодарность и только поэтому не становится постылой радость. А
для этого недостаточно элементарного упоения жизнью, какое можно назвать стихийным,
а можно назвать животным, и это будет одно и то же. Нет, здесь нужно отнюдь не
природное, а нравственное свойство души — ее дисциплина, ее бодрая осанка, ее славная
воинская выправка. Это свойство Державин умудряется неизменно сохранять вопреки
своей эмоциональной безудержности, среди чувственного разгула и напора внешних

впечатлений. В самом деле, какой бы сверхчеловеческий запас здоровья духа и тела ни
был ему отпущен, — да был ли? — нет сомнения, что и к нему приходили черные, нет,
хуже того,
769
серые минуты, приступы усталости, когда все становится постыло. Но в его стихи —
не в слова, выбор которых мог быть продиктован жанровой необходимостью
одического восторга, но в музыку стиха, в его интонацию, которую нельзя подделать,
— ни разу не просочилось ни единой капли брюзгливого разочарования.
Мы только что сравнили Державина с радушным хозяином; да ведь одна из лучших
его од и называется «Приглашение к обеду». Но у гостеприимства — строгие законы;
блюдущий их хозяин, какие бы кошки ни скребли у него на сердце, не станет нагонять
на своих гостей тоску, ни воротить сам нос от угощений, которые предлагает им.
Праздника ни за что нельзя портить. Державин понимал это очень хорошо. Разве что
один раз, когда умерла его нежно любимая первая жена, воспетая им под именем
Плениры, отчаянная боль .исторгла из него надгробный вопль — одно из самых
пронзительных стихотворений во всей русской поэзии, озаглавленное «На смерть
Катерины Яковлевны...» Там нарушены все правила словесности, даже
стихосложения, и мы слышим скрежещущий язык неподдельной, обнаженной муки.
Но прежде всего стихотворение это не предназначалось автором к печати, иначе
говоря, хозяин потерял власть над собою и разрыдался отнюдь не в присутствии
гостей, а наедине со своим горем. И потом, вопль ужаса — не зевок безразличия:
первое возможно у Державина, второе — нет, по тем же причинам, по которым у него,
как мы знаем, возможна «черно-багрова буря», но не серый денек.
В общем же он всегда дарит нас своим светом, своей бодрой утренней радостью и
торжественной, истовой благодарностью жизни. Это сближает его творчество с музы-
кой старинных мастеров — Баха и Генделя, Моцарта и Гайдна и других, безвестных.
Там с арфы звучныя порывный в души гром, Здесь тихогрома с струн смягченны, плавны тоны
Бегут, — и в естестве согласия во всем Дают нам чувствовать законы.
770
Музыка для него — практическое доказательство согласия в естестве, гармонии
природы. Такое же практическое доказательство — его лучшие стихи.
* * *
Какая человеческая судьба, какое время стоит за этой поэзией?
Гаврила Романович Державин родился в 1743 году в обедневшей дворянской семье, на
Волге. Его происхождение предопределило его взгляд на вещи по меньшей мере
трояко.
Во-первых, он был дворянином и помещиком в самую классическую пору русского
крепостничества. Это время указа о вольности дворянства и восстания Емелья-на
Пугачева (в подавлении которого поэт принимал непосредственное участие). Все
контрасты эпохи ярки и резки до грубости. Россия выходит к новым возможностям,
многое, что обещано было размахом петровских замыслов, только теперь облекается в
плоть и кровь. Ряд блистательных военных побед поражает воображение совре-
менников. «О громкий век военных споров, свидетель славы россиян!» — скажет о
екатерининской поре юный Пушкин. Людям крупным, сильным и решительным есть
где развернуться, но путь к большим делам часто ведет через авантюру и случайность,
через выигрыш в азартных играх придворной фортуны. Замечательная русская
женщина княгиня Дашкова, собеседница лучших умов Европы и первый президент
Российской Академии, обязана своей судьбою участию в перевороте 1762 года, при-
ведшем к власти Екатерину II; повернись все немного иначе, и она не получила бы
своего шанса. Центральная фигура целого царствования — «светлейший» князь По-
темкин, временщик и удачник, хищно и нагло торопившийся насладиться

свалившимся ему под ноги всевластием, и одновременно сильный и умный
государственный
771
человек, между всеми своими пиршествами, выходками, интригами и впрямь немало
сделавший для России.
И в составе поэзии Державина есть немало такого, что мы, при самой горячей любви к
ней, должны признать специфически барским, непоправимо барским, насквозь пропи-
танным бытом екатерининских десятилетий.
Но с этим в Державине уживалась подлинная любовь к облику русского крестьянина,
к народным обычаям, песням, к веселью деревенского праздника, им неоднократно
воспетому, к народному чувству красоты и народному юмору. Это было ему близко
непосредственно, без рефлексии, без романтизма, без этнографической стилизации.
Невозможно сомневаться в искренности этой любви, в ее глубине, и не стоит
требовать от нее, чтобы она была похожа на нечто совсем иное — например, на наро-
долюбие Радищева. На что она, пожалуй, несколько похожа, так это на чувство,
соединявшее Суворова с его солдатами. Недаром Державин искренне любил Суворова,
воспевал его и тогда, когда великий полководец был отнюдь не в фаворе, и почтил его
кончину удивительным стихотворением, так верно схватывающим своеобычность
всего облика героя:
Кто перед ратью будет, пылая, Ездить на кляче, есть сухари; В стуже и в зное меч закаляя, Спать
на соломе, бдеть до зари; Тысячи воинств, стен и затворов, С горстью Россиян все побеждать?
Чтобы оценить, насколько подлинным вышел у Державина Суворов, вспомним на
минуту памятник Суворову на Марсовом поле в Ленинграде, выполненный скульпто-
ром Козловским, — отличную статую во вкусе эпохи, не имеющую, однако, ровно
никакого сходства с полководцем, каким его знали современники...
И скажем сразу обо всех «батальных» стихотворениях Державина или, по крайней
мере, о лучших среди
25*
772
них: поэт просто не ощущал никакой дистанции между эпическим, песенным народным
идеалом молодечества в бою, между всем кругом традиционных понятий о долге воина
«положить душу свою за други своя» и теми представлениями, которые были чем-то само
собою разумеющимся для его собственной «натуры».
С этим связано другое: именно зрелище обиды, чинимой заслугам престарелого воина,
открывает глаза поэту, в котором, казалось бы, жило столько простодушного восторга
перед парадной стороной жизни, на страдания обойденных и униженных, на чьих плечах
воздвигался весь этот блеск. И здесь неважно, идет ли речь о том же Суворове, который
«скиптры давая, звался рабом», или о безымянном, «на костылях согбенном» воине.
Здесь стоит вспомнить, что Державин родился не только в дворянской семье, но и в
бедной семье. Он видел, как безуспешно обивают пороги власть имущих; он был с детства
уязвлен равнодушием сановников к правам бедного. Этот опыт сказывается в обостренно
совестливом отношении Державина к своей обязанности как сенатора стоять за правду.
Ради этого он ссорился с сильными мира сего и навлекал на себя раздражение
императрицы; ради этого он, что гораздо больше, готов был пожертвовать занятиями
поэзией. Может быть, во всем этом было немало донкихотства. Может быть, не так уж не
прав был А. В. Храповицкий, по поручению Екатерины II в стихотворном послании
призывавший Державина вернуться к своему подлинному назначению и писать побольше
од. Но для Державина было важнее, что Якобий, бывший иркутский генерал-губернатор,
безвинно обвинен в измене отечеству, что откупщик Логинов безнаказанно ограбил казну
и что императрица не хочет пересмотра ни первого, ни второго дела. И вот он с важной,
строгой наивностью возражает Храповицкому:
...как Якобия оставить, Которого весь мир теснит? Как Логинова дать оправить,
