Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук
Подождите немного. Документ загружается.


судьбы в нашем отношении». Итак, судьба— это
576
своего рода худшкественная целостность и сюжетная завершенность прожитого, все разрозненные
нити сплетаются в один узел..
Но если бы понятие судьбы означало полную пред-решенность и неизбежность всех событий,
ведущих героев навстречу друг другу, то отчего у этой линии сближения такие зигзаги и
отклонения? Почему судьба вообще может допускать промахи, если она представляет собой
абсолютный закон, действующий из себя и для себя? Между тем в размышлениях Федора о судьбе
главное место уделяется именно ее ошибкам, неточностям, недоделкам, неудачам:
«Первая попытка свести нас: аляповатая, громоздкая!»
«Но тут-то судьба и дала маху: посредник был взят неудачный™»
«„Судьба осталась с мебельным фургоном на руках, затраты не окупились-»
«Она сделала свою вторую попытку, уже более дешевую, но обещавшую успех». Но и это не
вышло... опять сорвалось».
«Тогда-то, наконец, после этой неудачи, судьба решила бить наверняка-»
«..Второпях— или поскупившись— судьба не потратилась на твое присутствие во время моего
первого посещения..»
«_И тогда, из крайних средств, как последний отчаянный маневр, судьба, не могшая немедленно
мне показать тебя, показала мне твое бальное голубоватое платье на стуле_»
, «...Маневр удался, представляю себе, как судьба вздохнула».
577
Вопрос в том: почему это нагромождение событий нужно именовать судьбой, если им явно
недостает последовательности, если судьба все время сбивается с толку, чего-то недоучитывает,
действует методом проб и ошибок, а если в чем-то и преуспевает, то тоже почти наугад? Может ли
судьба «дать маху»? Уместен ли такой антропоморфизм? Если действия судьбы зависят от везения
и удачи, то нет ли над судьбой Федора и Зины еще какой-то другой судьбы, а над ней — еще
одной «судьбы судьбы судьбы», и так далее до бесконечности?
Можно, конечно, рассуждать и так, что порядок судеб бесконечен, над одной судьбой
возвышается другая и восходит к последней непреложной Судьбе всех судеб. Но на том участке
взаимоотношений человека и судьбы, который нам дано наблюдать вместе с Набоковым, видно,
что события, происходящие с героями, столь же судьбоносны, сколь и сама судьба человечна, не
застрахована от ошибок. В той мере, в какой Федор предоставляет судьбе право вторгаться в свою
жизнь, судьба предоставляет Федору право отклоняться от своих предначертаний. Между ними —
отношение двух щедростей, двух жестов уступки.
Судьбе свойственна не только ирония, но и самоирония. Судьба иронизирует над героем, который,
предполагая сделать одно, делает совсем другое. Но судьба и сама не знает, что выйдет из ее
заготовок, и многие поступки подопечных оказываются для нее сюрпризом. Это ничуть не
исключает дальнейших новых мотивировок и перекодировок, по которым видимая промашка
судьбы оборачивается ее тайным умыслом. Так, Федор и Зина только потому не съехали раньше с
578
шеголевской квартиры и не поселились вдвоем, что «эта внешняя помеха была только предлогом,
только показным приемом судьбы, наспех поставившей первую попавшуюся под руку загородку,
чтобы тем временем заняться важным, сложным делом, внутренней необходимостью которого
была как раз задержка развития, зависевшая будто бы от житейской преграды»-
Далее, не только промахи судьбы могут быть переписаны в ее пользу, но и сетования на эти
промахи могут повлечь ее ответные действия. «Смотри, — сказала Зина,— на эту критику она
может теперь обидеться — и отомстить». Иными словами, в отношениях человека и судьбы
каждый новый жест может поменять значение всех предыдущих. Герои сетуют на промахи
судьбы— и вместе с тем предоставляют ей возможность пересмотреть исход игры в ее пользу, как
и судьба предоставляет им возможность иных ходов, отклоняющихся от первоначального плана
игры. Эта нестыковка — воистину игра — между человеком и его судьбой не есть просто
недоделка набоковского романа: без нее не было бы свободной воли, а значит, и самой судьбы.
Из приведенных примеров следует, что судьба, как она представлена у Тютчева и Набокова, есть
проти-вопонятие свободы. Именно свобода человека превращает все происходящее с ним в
судьбу, в поле какого-то неясного смысла. Но судьба никогда не являет целиком своего смысла.
Судьба, которая не задает вопроса о смысле происходящего,— это всего лишь случай. Судьба,

которая полностью отвечает на этот вопрос,— причинность. Судьба помещается именно между
необъяснимым случаем и всеобъяснякипей
579
причиной, как поле тревожного, вопрошающего смысла Человек не знает себя и вопрошает о
самом себе —: именно поэтому он и имеет судьбу, некое задание или назначение, не совпадающее
с его данностью и невме-стимое в его сознание
8. РЕЧЬ и ОБРЕЧЕННОСТЬ
У растения и животного есть природа и среда, есть субстанция, форма, идентичность, внутренняя
и внешняя данность, но позволительно ли говорить о судьбе растения или животного? Чтобы
иметь судьбу, им не хватает главного— сопротивления судьбе, точнее, сопротивления тем
данностям, которое превращает их в судьбу. Смысл того или иного понятия часто задается именно
способами его перечеркивания. Пытаясь определить понятие судьбы, мы вступаем в смысловое
поле другого понятия—«сам», «самость», «самоопределение». Где нет поступка, «субъектно»
разрывающего цепь обстоятельств, там нет и происшествия, «объектно» взламывающего ход
индивидуальной жизни.
Вначале мы говорили о свершении как о сопряжении поступка и происшествия. Но исходным
условием такой судьбоносной взаимосвязи должно быть принципиальное различие субъектного и
объектного, поступка-вызова и; происшествия-отзыва Со-бытийность быг тия предполагает эту
раз-двоенность человеческого, поскольку без «раз-» не бывает и «со-». Судьба возможна лишь
потому, что есть «я», которое бросает вызов, всем данностям— и этим вызовом превращает их в
судьбу. Судьба— это раздвоенная суть человека как
580
судящего и судимого. Корень понятия судьба— «суд». Иов подлежит Божьему суду— и сам
вызывает Бога на суд. «Вот, я завел судебное дело; знаю, что буду прав. Кто в состоянии оспорить
меня? ..Зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а Ты отвечай мне» (Иов, 13:18, 19, 22).
Судьба— имя той силы, которая судит человека, потому что он сам судья мира Человек-судья и
бытие-судьба возникают вместе и наперекор друг другу, как достойные соперники. Встречные
иски человека и бытия и образуют судьбу.
Традиционно считалось, что судьба предзадана человеку и ограничивает его свободу, но
правильнее было бы сказать, что свобода и судьба предпосланы друг другу. Судьбы нет там, где
есть совпадение вещи с порядком вещей, где растение растет, а животное живет. Человек—
судьбообразуюгцее существо именно потому, что он вырывается из порядка вещей, изрекает свое
слово— и поэтому слышит предреченное ему. «Рок»— недаром того же корня, что и «речь». Чело-
век есть существо рекущее— и потому рекомое, подлежащее року, т. е. слову и приговору свыше.
Субъект-ность в нем неотделима от объектности даже в чисто грамматическом смысле Как
субъект речи, он обречен быть и ее объектом, не в том поверхностном смысле, что говорят о нем, а
в том, что говорят «им»: он сам «изречен», «сказан», и этот Логос укоренен в его бытии вместе с
возможностью его собственного Голоса. Такова этимология и латинского «fatum»— это причастие
среднего рода прошедшего времени от «fan» — сказать, т.е. буквально «нечто сказанное,
изреченное» (богами). Именно эту изреченность самого себя человек нарекает роком. Эта «чело-
весть», посланная неизвест-
581
но кем и неизвестно кому, лишь отчасти прочитывается самим человеком, а то, что не удается
прочитать и понять, и составляет «тайнопись судьбы».
Философская посылка теории судьбы состоит в том, что судьба, вопреки традиционному
пониманию, вовсе не есть данность или предзаданность человеческого бытия. Представление о
том, что человек должен осилить свою судьбу, встать выше ее, взять в свои руки и т.д., находится
еще внутри античной традиции. К ней же принадлежит и известное бахтинское изречение:
«Человек или больше своей судьбы, или меньше своей человечности»
1
, где судьба понимается
именно как предзаданность и обреченность, чему противостоит человеческая воля к
самоопределению. Судьба — цепь, которую человек должен разорвать; одежда, из которой он
должен вырасти; среда, из которой он должен вырваться; закон, который ему предстоит
опрокинуть. Судьба — то, что происходит между мною и мною, когда я не узнаю себя или не хочу
себя знать, противлюсь сам себе: тогда мой характер, склонности, влечения, с которыми я не могу
совладать, приобретают форму судьбы.

Но судьба— это не внешняя человеку сила, а раздвоенность его собственной сущности. Судьба
есть следствие человеческой способности судить — а зна-
1
Бахтин ММ. Эпос и роман // Литературно-критические статьи. М: Худож. лит, 1986. С 424. Из контекста рассуждения Бахтина об
образе человека в жанре романа видно, что он понимает под судьбой «данное», «ставшее», историко-биографическую плоть или
одежду, облекающую человека в противовес его свободному самоопределению. «Человек до конца невоплотим в существующую
социально-историческую плоть. <..> Все существующие одежды тесны (и, следовательно, комичны) на человеке» (Там же).
582
чит, и быть судимым; изрекать — и быть изреченным. Способность иметь судьбу, бросать вызов и
получать отзыв, упруго взаимодействовать с Иным — это и есть самое человечное в человеке. В
этом смысле более прав Георг Зиммель, для которого «быть ниже или выше судьбы для человека
всегда окрашивается тем, что подлинно человеческим, его подлинной определенностью является
судьба»
1
. Становясь ниже судьбы, человек, по Зиммелю, превращается в животное, в факт
существования, лишенный свободной воли и способности к поступку. Становясь выше судьбы, че-
ловек становится Богом, для которого нет вокруг ничего иного, способного стать происшествием,
вторгнуться извне в бытие всеобъемлющего Субъекта. Но, поскольку человек остается человеком,
он имеет судьбу: способен совершать поступки и попадать в происшествия, а в наиболее глубоких
актах самосознания— постигать связь тех и других.
0 судьбе можно говорить лишь потому, что она и побеждает человека, и не может его победить.
Полная победа судьбы, ее превращение в данность упразднила бы как судьбу, так и самого
человека, оставив на их месте человекообразный стебель в почве или двуногого зверя в норе.
Порою человек испытывает судьбу поступком, порою судьба испытывает человека
происшествием Но судьба не есть успокоенная в себе неизбежность, равная себе данность — она
поднимается над всем сущим, она либо испыту-ет, либо испытуется, как обращенная к человеку
во-просительность и ответность бытия.
1
Зиммелъ Георг. Проблема судьбы // Избранное. Т. 2. С 192.
583
9. САМОРЕФЕРЕНЦИЯ
И РЕВЕРСИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СУДЬБЫ
Одно из главных понятий современных междисциплинарных исследований, на стыке математики
и информатики, когнитивистики и лингвистики — «самореференция». Оно играет ключевую роль
в определении тех особенностей человеческого (само)сознания, которые могут— или не могут—
быть воспроизведены в мыслящих машинах. Будущее искусственного интеллекта зависит от того,
окажется ли он способен к самореференции, так сказать, к диалогу и обратной связи с самим
собой. Без этого нет и той «самостности», которая выделяет мыслящие существа из мира природы.
Самореференция в упрощенном виде — это отсылка говорящего к самому себе: высказывание,
субъект которого выступает и в качестве объекта. Именно самореференция лежит в основе
большинства логических парадоксов типа «лжеца». «Критянин говорит, что все критяне — лжецы.
Правду ли он говорит?» Когда некто говорит, что он лжет, это высказывание одновременно
выступает и как правда, и как ложь. Именно наличие таких парадоксов разрушило логическую
систему Фреге; на них построили свою теорию логических типов Рассел и Уайтхед; они
отозвались и в «теоремах неполноты» Геделя, которые показывают, что в достаточно богатых
формальных системах имеются такие истинные высказывания, которые недоказуемы и
неопровержимы в рамках самих этих систем. Отсюда следует принципиальная невозможность
полной формализации научного знания, а также невозможность полного познания субъектом
самого себя как объекта.
584
Между мною как субъектом и мною как объектом лежит непреодолимая логическая пропасть:
парадокс самореференции.
Вот что пишет по этому поводу американский философ и математик Даглас Хофштадтер: «Как
ограничительные Теории метаматематики, так и теория вычислений говорят, что, как только
возможность представлять собственную структуру достигает некоей критической точки, то пиши
пропало — это гарантия того, что вы никогда не сможете представить себя полностью. Теорема
Геделя о неполноте, Теорема Черча о неразрешимости, Теорема остановки Тюринга, Теорема
Тарского об истине — все они чем-то напоминают старинные сказки, предупреждающие читателя
о том, что "поиск самопознания — это путешествие, которое.. обречено быть неполным, не может
быть изображено ни на каких картах, никогда не остановится и не сможет быть описано"»
1
.
Хофштадтер недаром ссылается здесь на волшебную сказку, которая имеет дело не столько с

самопознанием героя, сколько с превратностями его судьбы. Дело в том, что понятие судьбы, если
поместить его на карту современной мысли, также связано с самореференцией и теоремой о
неполноте. Но точнее было бы здесь говорить не о самореференции и даже не о саморефлексии, а
о САМОРЕВЕРСИИ. Самореференция недостаточна для построения мыслящих машин или, точ-
нее, систем искусственной жизни и мысли — нужно дополнительное понятие самореверсии.
1
Хофштадтер Даглас Р. Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда. Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2001. С. 655.
585
Самореференция и саморефлексия — это когда субъект речи или сознания становится его
объектом. Самореверсия — это когда субъект воления и действия постигает себя как объект иного
воления и действия, у которого нет определенного наличного субъекта. Этот субъект не может
быть сведен ни к окружаюшим людям, ни к экономическим или социальным факторам, ни к
языковым или психическим структурам: не только потому, что они не могут объяснить всего, что
субъект воли переживает в качестве объекта, но и потому, что «факторы» и «структуры» не
являются субъектами воли, они могут определять, обусловливать, но не «волить».
Разумеется, эта ВОЛИМОСТЬ человека, т. е. ощущение себя во власти какой-то воли, может быть
адресована трансцендентному субъекту, личности Бога, как и происходит в теистических
религиях. Но субъект такого сверхъестественного воления, если он Бог, или Дух, или Гений,
представляется по образу человека, личности и не вполне удовлетворяет нашему чувству
инаковости, внечеловечности этой воли, которая действует безлично, как «темнеет» или
«смеркается». Понятием «судьба» и обозначается непроясненность, безличность этого волящего
субъекта — такая инаковость воли, которая не только имеет меня своим объектом, но и сама вы-
ходит за рамки какого-либо представления о субъекте. Судьба — это не структура, которая не
имеет воли, и не субъект, который имеет личную, человекоподобную волю, а некая
парадоксальная безличная субъектностъ, источник воления, неведомо откуда и почему обращен-
ного на нас
Этот источник так же не может быть окончательно познан и прояснен, как, согласно Теореме
Непол-
586
ноты, нельзя познать самого себя и не могут быть доказаны истинные аксиомы определенной
теории в рамках и на языке самой этой теории. Судьба— это не описательно-мыслительная, а
побудительно-волевая неполнота нашего самоопределения. Отсюда и неразрешимые парадоксы,
которые возникают в теории судьбы, ибо судьба — это я сам и одновременно то, что мне суждено
и предназначено. Судьба — это оборачиваемость моей воли, предметом которой я сам
становлюсь, причем не как конкретной воли, а как именно способности воли, которая рассеяна во
множестве происходящих со мной событий и соединяет их в одно воля-шее целое.
Этой своей волимости человек и дает название Вышней Воли, или Судьбы, и она так же остается
за пределом его сознания и воли, как он сам остается за пределом своего самопознания. Судьба —
это та неполнота волимости, которую человек находит в себе наряду с неполнотой мыслимости.
Он не может мыслить и волить себя до конца. Парадокс судьбиннос-ти в том, что она неотделима
от самостности, и судьба начинает выступать как вышняя воля только там и тогда, когда человек
проявляет свою волю как противодействие обычному ходу и распорядку вещей. Самореверсией
мы называем обратимость вол.ения-во-лимости, как саморефлексией и самореференцией —
обратимость мышления-мыслимости и говорения и говоримости, т.е. субъекта и объекта
соответствующих действий.
Есть некое со-стояние между свободой и судьбой, которое можно назвать «суперпозицией». В
квантовой
587
физике этот термин, предложенный Эрвином Шре-дингером, означает позицию частицы-волны до
момента ее измерения, т.е. до ее локализации в качестве частицы или волны. Суперпозиция воли —
это еще не свобода и еще не судьба, а то, что предшествует их различению. Эта суперпозиция
есть не что иное, как волевая выделенность человека из мира объектов, его способность быть
субъектом и полагать в качестве объекта самого себя, а значит, проецировать и вовне себя ту
субъективность, которую он находит в себе по отношению ко всему, что не есть он. Распадаясь на
два «когерентных» состояния, эта суперпозиция человека в отношении мира становится свободой
и судьбой.
Особенность судьбинности — ее алгебраичностк это всегда X, которому можно задавать разные

значения, но ни одно из них не исчерпывает его многозначности и не исключает его
неизвестности. Судьба столь же неопределима, как и свобода, ибо она и есть инобытие
человеческой свободы, инобытие субъективности, которая рождается вместе с человеком и в
форме судьбинности сопутствует ему во всем. Если определить эту субъектность как волю иного
личностного субъекта: человека или Бога — или как совокупность объективных обстоятельств, —
она утратит ту всеобщность, абстрактность, алгебраичность, которая ей присуща как
субъективности вообще, объектом которой полагает себя человек.
В религиозных системах мировоззрения судьбин-ность осмысляется как личное воление Бога, как
Его Промысел. В научно-детерминистических системах эта судьбинность осмысляется как
причинность, т.е. воз-
588
действие на человека совокупности неодушевленных объектов, которые им еще не познаны или
вообще непознаваемы.
Но это разделение на Промысел и Причинность вторично по отношению к тому, что в
нерасчлененном виде выступает как Судьбинность, для которой нет адекватных форм
представления (хотя аллегорически она может изображаться в виде персоны или предмета—
например, парки, ткущие нить судьбы). И религиозно-теистические, и научно-детерминистические
концепции судьбы фактически устраняют судьбу, поскольку с личностью Бога можно вступать в
диалог, а объективные условия бытия подлежат познанию и переустройству. Тем самым человек
уходит от этого неловкого, опасного, непредсказуемого предсто-яния Иному, придавая ему черты
Собеседника или УСЛОВИЯ и выходя из опасного положения объекта при неизвестном субъекте.
Труднее всего— жить и действовать на уровне той неотзывчивой и беспричинной судьбы,
неопределимой в рамках личности или закона, которая встречно равновелика объему нашей
свободы.
Реверсивная концепция судьбы основана на представлении о двух обратимых состояниях воли, ее
активном и пассивном залоге, подобно тому как саморефлексия и самореференция суть субъектно-
объектная обратимость мысли и речи. Воля может находиться в суперпозиции, т. е. одновременно
в двух «когерентных» состояниях: свободы и судьбы, или в двух залогах: действительном и
страдательном. Судьба — это страдательный залог свободы. Свобода—действительный залог
судьбы.
589
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теперь мы можем кратко обозначить три подхода к теории судьбы.
Эстетический: между поступками и происшествиями есть глубинная связь Свершения, выходящая
за предел эмпирической жизни, но раскрываемая искусством
Религиозный: происшествия не имеют определенных причин (или причины эти непознаваемы), но
требуют определенных поступков, призывают к действию. Человек свободно отвечает на вызов
судьбы.
Философский: между поступками и происшествиями нет ни прямой, ни обратной причинно-
следственной связи, но есть сопричастность одному смысловому полю суда-судьбы, речи-рока
Нельзя сказать ни того, что человек находится во власти судьбы и все в его жизни является
судьбоносным, ни того, что человек приобретает господство над судьбой, подчиняет ее себе в акте
свободного выбора. Если в эстетическом варианте судьба больше человека, простирается за
пределы его жизни, то в иудео-христианской концепции человек больше своей судьбы, наделен
свободой веровать, каяться и спасаться. В третьем, философском, варианте судьба соразмерна
человеку и есть его собственное свойство быть не-собой для себя, получать себя — и передавать
дальше— как весть. Человек не во власти судьбы, и судьба не во власти человека, но человек
назначает себе судьбу, чтобы иметь достойного соперника в бытии, чтобы расти через борьбу с
тем, что превышает его.
Судьба — это вторая, волящая и провидящая природа, которая встает над человеком, как только
он всга-
590
ет над первой, вещественной природой. Судьба— такой же дар человека, точнее, дар человеку, как
дар музыки, поэзии, математики, но это высший из даров, поскольку он соразмерен не одной
способности, а всему бытию человека. Люди, обделенные другими дарами, могут иметь дар
судьбы, дар превращения поступков в происшествия, а происшествий — в поступки (вспомним
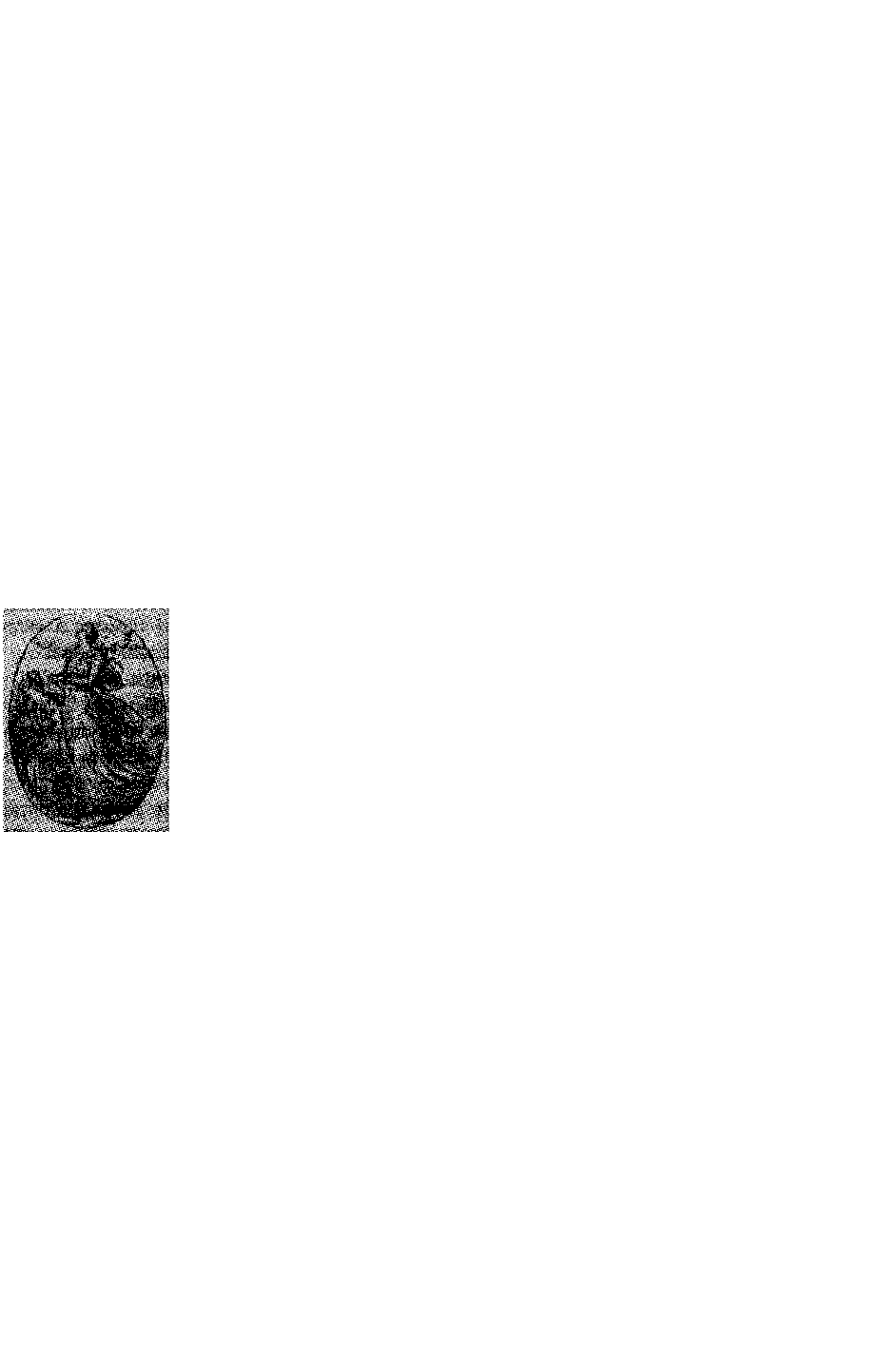
Печорина). Судьба играет с человеком, потому что он сам— игрок, между ними происходит игра
на повышение ставок, включая высшую ставку— жизнь.
К древнему представлению, что человек — говорящее животное, следует добавить, что человек—
роковое животное, способное превращать свою жизнь в судьбу, довлеющую его воле. Как только в
природе появляется субъект, он не может не полагать себя и в качестве объекта, вот почему
субъект речи становится объектом рока. Человек оказывается приговоренным в тот момент, когда
сам выносит приговор бытию.
Человек предзадает себе нечто большее и сильнейшее себя, предзадает себе то, что его одолеет.
Человечность — это и есть способность иметь судьбу, заходить за предел своей свободы,
превращать все данное — в заданное себе и превосходить самого себя на величину своей судьбы.
Он ждет, чтоб высшее начало Его все чаще побеждало, Чтобы расти ему в ответ
1
.
Судьба — то «высшее начало», в ответ которому человек растет, постигая самого себя не как
случайную данность, а как задачу. В понятии судьбы человек од-
1
Рильке P.M. Созерцание (в пер. Б. Пастернака).
591
повременно и умаляет, и перерастает себя, отторгая от себя свою данность и одновременно
превращая ее в свое предназначение, в нечто высшее, чем он сам.
Только человек имеет судьбу, но благодаря ему судьбу приобретает и все мироздание: сам человек
становится промыслом бытия, роком животных и растений» Но это уже новая тема.
SCIENTIAE DESIDERATAE
От научной фантастики — к фантастическим
наукам
Этьен Делон (Delaune). Из серии «Минерва, мудрость и главные науки» (гравюра, XVI век)
Я предвижу также, что очень многое из того, что я решил включить в наш список неразработанных и подлежащих
исследованию областей науки, вызовет разнообразные суждения и возражения-
Ф. Бэкон. О достоинстве и приумножении наук
Латинское название этого раздела — Scientiae Desideratae, т. е. «Желательные науки». Это вы-
ражение Фрэнсиса Бэкона из его трактата «О достоинстве и приумножении наук» (1623). Любая
наука сначала была воображаемой на основе какого-то зачаточного знания, еще не выделившегося
в отдельную дисциплину. Баумгартен вообразил эстетику, а Мендель — генетику. Хотя
номенклатура признанных дисциплин насчитывает рке тысячи именований, процесс их
умножения неостановим и требует новых инвестиций желания и воображения.
В своей знаменитой классификации наук Фрэнсис Бэкон не только обобщал факты об уже
имеющихся
595
отраслях знания, но и под знаком «desiderata» — «желаемая»— выдвигал новые дисциплины,
которые могли и должны были бы развиться в будущем. Так, знаком «desiderata» помечены
«история наук и искусств», «теория машин», «учение о расширении границ державы» и прочие
дисциплины, развившиеся лишь столетия спустя. Причем сам Бэкон не только отмечает отдельные
науки как «недостающие и нуждающиеся в развитии», но и предлагает примеры такого развития
— экспериментальные трактаты по несуществующей области знания. Так, о науке, которую Бэкон
аллегорически называет «консулом в военном плаще» и которая впоследствии стала
«геополитикой», он замечает: «...мы считаем необходимым отнести ее к числу наук, требующих
развития, и, как мы это всегда делаем, приведем здесь образец ее изложения». Далее следует
«Пример общего трактата о расширении границ державы»
1
.

Таким образом, почти полтысячелетия назад Бэкон создал своеобразную «таблицу Менделеева»,
только обобщающую и предсказывающую не химические элементы, а научные дисциплины.
Почти все белые пятна в бэконовской таблице оказались со временем заполненными.
Науки, о которых говорится в этом разделе книги, это, выражаясь бэконовским языком, scientiae
deside-ratae, т. е. всего лишь предполагаемые, желаемые науки. Какова же цель этого проективного
приумножения наук? Суть в том, что сфера воображения все более настоятельно входит в саму
структуру развития современного научного знания, определяет ход научных ре-
1
Бэкон Фрэнсис. Cm: В 2т. 2-е изд. М: Мысль, 1977. Т. 1. С 473.
596
волюций. В наше время противопоставлять «науку» и «утопию», рассудок и воображение —
значит не замечать движущих сил научно-технического прогресса. Научное знание не подавляет
сферу человеческих желаний, а, напротив, в своем поступательном развитии все полнее реализует
их, само движется силой человеческих желаний и потребностей. В этом смысле «желательные
науки» Ф. Бэкона— едва ли не первый сознательный синтез «науки» и «желания» — выражение
таких глубинных и общественно значимых желаний, которые движут развитие самой науки.
Вторая половина XX века проходила под знаком научной фантастики. Научные открытия и
изобретения питали художественное воображение, которое забегало далеко вперед того, что
дозволялось строгой науке. Но на рубеже XXI века вдруг обнаружилось, что мы уже и взаправду
живем в полуфантастическом мире, который раньше только дерзала воображать научная
фантастика Сама наука оказывается наиболее грандиозной, убедительной и действенной из
человеческих фантазий. Движение науки, особенно по линии электронно-информационных и
биогенетических технологий, сравнялось с воображением фантастов и отчасти опередило его:
Сеть-на-весь-свет, моментально передающая любое сообщение от каждого к каждому» Рост
искусственного интеллекта и компьютерной памяти до такой степени, что на горизонте уже
появляется могучее племя киборгов, «всечеловеков», соединяющих интеллект с несокрушимым
здоровьем, заменяемостью всех органов и практическим бессмертием- Открытие тайн генома,
клонирование, возможность производить существа с заранее заданными биологическими
свойствами- Син-
597
тез биологии и социологии (социобиология), генетики и информатики (меметика)_ Теории
сложности и хаоса, которые обнаруживают странность, парадоксальность, непредсказуемость,
фантастичность в основе самых повседневных явлений- «Теории всего», которые сводят воедино
все виды физических взаимодействий-Открытие параллельных н-мерных миров и возможных
путей перехода между ними..
Все то, о чем грезила фантастика, встало в повестку дня современной науки. Тем самым наука и
фантастика как бы меняются ролями. Если в научной фантастике наука дает пищу фантазии, то
теперь все более очевидно обратное: фантазия дает пищу науке. Сами науки на рубеже XXI века
становятся фантастическими в не меньшей мере, чем фантастика в XX веке была научной. Как
будто грань между действительностью и воображением все более утончается и мы вступаем в мир,
где вымысел становится формой знания о завтрашних вещах. Раньше мы познавали вещи,
существовавшие испокон веков; теперь наука становится знанием о том, чего еще никогда не
было, и ее все труднее отделять от технологии, как открытия трудно отделять от изобретений.
Если научная фантастика определяла наше видение будущего в уходящем веке, то век
наступающий принадлежит фантастическим наукам, которые будут непосредственно переводить
наше воображение в знание будущих вещей, а знание — в их создание
Такова динамика научных революций в XXI веке: не только убыстряются переходы к новым
понятиям и методам в традиционных дисциплинах, но и ускоренно возникают радикально новые
парадигмы, которые не вмещаются ни в одну из существующих дис-
598
циплин. Современная фантазия рке не довольствуется художественной или полухудожественной
разработкой научных сюжетов, но входит в самое существо и сердце науки, взрываясь веером
новых, самых фантастических дисциплин, которые не становятся менее научными от того, что они
созданы воображением (как, впрочем, и физика, и химия, и математика, и все науки, без которых
мы ничего не знали бы о природе).
Роль фантазии в науке отнюдь не ограничена задачей ее популяризации, доходчиво-
увлекательного изложения, но находится в самом центре познавательной деятельности.

Наряду с популяризаторскими сочинениями «занимательного» цикла: «занимательная физика»,
«занимательная лингвистика» и пр. — должны распространиться и работы другого,
экспериментального рода. Их задача— формировать теоретическое воображение, научную
фантазию, т.е. ту человеческую способность, которая, по словам Пушкина, нужна не только поэту,
но в равной степени и математику. Этот цикл возможных, желательных, «воображаемых»
дисциплин: «гума-нология», «культуроника», «реалогия», «микроника», «семиургия»,
«тривиалогия», «технософия» и др. Они не претендуют на то, чтобы немедленно взойти на уни-
верситетские кафедры, получить одобрение и опеку Академии наук. Цель такого
«фантастического науковедения» — демонстрировать саму модель порождения науки, общие
«алгоритмы», действующие при образовании как физики или философии, так и реалогии или
микроники. Наряду с классификацией наук, как самостоятельную, экспериментальную область
современного науковедения следовало бы выделить конструирование наук, методы
наукопорождения, или, по словам
599
Бэкона, «логику изобретения искусств и наук» (logic for the invention of arts and sciences). Это
особенно относится к гуманитарным наукам, для которых как никогда своевременно звучит
бэконовское: «„.до сих пор игнорируется необходимость существования особой науки об
изобретении и создании новых наук»
1
.
Итак, Scientiae Desideratae, науки желательные,— проект конструирования научных дисциплин,
внесенный на рассмотрение науки Нового времени ее философским основоположником Бэконом.
Заметим, что смелость теоретического воображения не мешала приверженности Бэкона
эмпиризму, основоположником которого он также выступил в истории науки. Мы, однако, уже
далеко ушли от бэконовского эмпирического метода. Соответственно знаменитый бэконовский
афоризм «знание — сила» перелагается в иную формулу у А. Эйнштейна — «воображение
важнее знания»:
«Я в достаточной степени художник, чтобы свободно полагаться на мое воображение.
Воображение важнее знания. Знание ограниченно. Воображение объем-лет весь мир»
2
.
1
Бэкон Фрэнсис. Соч. Т. 1. С 280.
г
Смысл жизни для Эйнштейна: Интервью Джорджу Силвестеру Виереку (George Sylvester Viereck) для газеты «The Saturday Evening
Post», 26 октября 1929.
Гуманология
Экология человека
и антропология машины
Те постгуманистические движения западной мысли, которые вдохновлялись ницшевской
философемой сверхчеловека, а затем постструктуралистской эписте-мой «конца человеческого»
(М. Фуко), к началу XXI века получили новое оформление. С одной стороны, возникло
«калифорнийское» движение трансгуманизма, которое пытается соединить прорывы в области
компьютерных и генетических технологий с синкретическими воззрениями в духе New Age.
Трансгуманизм нацелен на возникновение так называемой сингулярности, когда созданные
человеческим интеллектом механизмы и искусственные организмы выйдут на передний край
эволюции разума и поведут за собой (а может быть, и полностью поглотят) все более отстающих
человеков. С другой стороны, в академических кругах интерес к новым технологиям и их
воздействию на традиционный предмет гуманитарных наук рождает новое поле исследований,
которое иногда называют posthuman studies— «постчеловеческие» или «постгуманитарные»
исследования. Хороший пример— книга Кэтрин Хэй-лес «Как мы стали постчеловеками:
Виртуальные тела в кибернетике, литературе и информатике» (1999)
1
.
1
Hayles N. Katherine. How we Became Posthuman; Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago; London: The
University of Chicago Press, 1999.
601
Далее предлагаются пунктирные, в тезисной форме, очертания этого нового дисциплинарного
поля.
Прежде всего, правомерно ли само определение «posthuman» (постчеловеческий), которое не
только по звучанию, но и по сути сближается с «posthumous» (посмертный)? Выдвигая новый,
«постчеловеческий» проект истории, должны ли мы хоронить человека? Термин «трансгуманизм»
более оправдан, поскольку «транс» указывает на движение через и за область человеческого.
Между гуманизмом и трансгуманизмом нет никакого противоречия. Ведь именно человеку свой-

ственно быть больше или меньше себя, заходить за собственный предел. Термины «гуманизм» и
«трансгуманизм» описывают одно и то же отношение человека к самому себе, в котором он
выступает и как субъект, и как объект. «Трансгуманное» существо, или, привычнее выражаясь,
сверхчеловек, — это субъект того отношения, объектом которого выступает человек.
Когда Ф. Ницше устами Заратустры провозглашает переходность человека, он именно
подчеркивает, что создание сверхчеловека— это дело человека, что сам человек — это только
мост, протянутый между обезьяной и сверхчеловеком.
«И Заратустра говорил так к народу. Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно
превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его? Все существа до сих пор создавали что-нибудь
выше себя; а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя,
чем превзойти человека? Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или
602
мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или
мучительным позором»
1
.
В одном Заратустра ошибается: разве все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя?
Какие же это существа — рыбы, змеи, олени? Это именно свойство человека, создающего то, что
красивее и долговечнее его самого. И сверхчеловек, если он когда-либо будет создан, это тоже
создание человека, это способность человека не только думать и делать «сверхчеловечески», но и
быть больше себя. Именно и только человеку, создающему искусство, технику, цивилизацию,
наконец, новые формы жизни и разума, свойственно перешагивать через себя, быть мостом к
высшей цели. В ницшевской проповеди сверхчеловека нет, по сути, ничего, что не содержалось бы
в знаменитой ренессан-сной речи Джованни Пико делла Мирандола о достоинстве человека:
«-Принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре мира,
сказал: "Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой
обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно
твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами
законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению,
во власть которого я тебя предоставляю... Ты можешь переродиться в низшие, неразумные
существа,
1
Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Cot В 2 т. М: Мысль, 199U
т. г с 8.
603
но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные"»
1
.
Если вычесть из Пико делла Мирандола религиозную составляющую гуманизма, то как раз и
получится ницшевский человек, пролагающий себе путь к сверхчеловеку. «...Можешь
переродиться по велению своей души и в высшие».» (Пико). «Все существа до сих пор создавали
что-нибудь выше себя..» (Ницше). Ницше исходит из той же самой гуманистической темы, только
трактует ее менее точно, поскольку ссылается на неведомые «все существа», тогда как у Пико
делла Мирандола именно и только человек может перерождаться в нечто высшее.
Но и религиозная составляющая «достоинства человека», по сути, не снимается у Ницше,
напротив, приобретает еще большую напряженность. У Пико делла Мирандола человек поставлен
Богом в центр мира, как сверхсущество, у Ницше сам человек пытается стать таким
сверхсуществом, превзойти себя, обрести атрибуты Бога. Это выворачивание той же самой
трансцендентной складки, которая Ренессансом заложена в существо человека, а теперь
разворачивается из него как «сверхчеловеческое» — то, что Жиль Делёз в своей книге о Мишеле
Фуко (в главе «Человек и Над-человек») называет «сверхскладкой».
Делёз так излагает «постгуманистическую» концепцию Фуко, с нею солидаризируясь. В
«классической» формации XVII—XVIII веков, у Спинозы, Лейбница, Паскаля, человек — это
складка, морщинка на лике Бесконечного, которая должна быть разглажена, чтобы
1
Речь о достоинстве человека // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. М: Изд-во Академии
художеств СССР, 1962. Т. 1. С 507—508.
604
обнаружилась вечная, божественная природа человека. В «исторической» формации XIX века, у
Кювье, Дарвина, Адама Смита, Маркса, человек складывается, обретает радикальную
историческую конечность, вписывается в контекст языка, эволюции, производства, задается
обстоятельствами места и времени. Наконец, в той «формации будущего», провозвестником

которой, по Делёзу, стал Ницше, сама складка начинает множиться, человек становится
сверхчеловеком, не утрачивая своей конечности, но как бы многократно ее воспроизводя в
процессе «вечного возвращения». «Сверхскладчатость» можно обнаружить в бесконечной
саморефлексивности современной литературы и искусства, в множащихся спиралях генетического
кода, в самоорганизации хаоса и других сложных, случайно-стных процессов, в бесконечно
делимых и самоповторяющихся узорах фракталий. Это уже не трансцен-дентно бесконечное,
сморщившееся в человека, но все еще поддающееся разглаживанию. Это уже не исторически
конечное, которое глухо и бесповоротно замкнулось в себе. Это бесконечно множимая
конечность, историчность, которая сама трансцендирует себя. По Делёзу, эта новая
«постчеловеческая» формация по своему творческому потенциалу ничем не уступает двум
предыдущим
1
.
Очевидно, что при этом никак не приходится говорить о конце человека— скорее, о начале его
самоумножения в виде «сверхскладки», «сверхчеловечества». Быть человеком— это и значит
становиться сверхчеловеком. Человеческое возводится в высшую степень
1
The Deleuze Reader / Ed. and with an introduction by Constantin V. Boundas. NY: Columbia UP, 1993. P. 95—102.
605
интенсивности, расширяет свой диапазон в бытии, создавая вторую, в перспективе
самодействующую и са-момысляшую природу. Гуманология (humanology) — это и есть наука о
человеке, переступающем свои видовые границы, наука о трансформациях человеческого в
процессе создания искусственных форм жизни и разума, потенциально превосходящих
биологический вид homo sapiens.
* * *
До недавнего времени в распоряжении ученых была только одна, естественная форма жизни и
одна, человеческая форма разума, исследование которых не позволяло прийти к обобщениям о
природе человека и разума именно потому, что они были доступны для наблюдения только в
единственном числе, тогда как обобщение требует сравнения разных форм одного явления.
Гуманология рассматривает человека в ряду не только внеразумных форм жизни, но и внебиоло-
гических форм разума, — как элемент некоей более общей парадигмы, как «одного из»: в ряду
животных, гуманоидов, киборгов (киберорганизмов), роботов.
Постепенно в этих расширенных рамках дискурса человеческое приобретает ту специфику,
которой раньше обладали его подвиды — нации в составе человечества. Глобализация, т. е.
объединение наций в техно-экономически-культурную целостность человеческого рода,
происходит одновременно со спецификацией и даже пацификацией самого человечества как
одного из видов (species) разумных существ. Такая «постановка в ряд» сужает значение данного
элемента и одновременно маркирует его, выделяет как особо значимый. У феномена человека
появляется как бы грамматичес-
606
кая форма, «падеж» со своим определенным значением, тогда как раньше он был внесистемным
феноменом, единственным субъектом и объектом гуманитарных наук. Теперь мы начинаем
рассматривать человека как одну из фигур ноосферы, и он получает дополнительные
дифференциальные признаки. Гуманология обогащает тот язык, которым мы говорим о человеке,
вносит в гуманитарные науки новую парадигму: человек в отличие от других форм разума Тем
самым гуманология выделяется из круга традиционных гуманитарных наук, конституирует себя
как новую науку о человеке.
По мере того как машины, техника, компьютеры овладевают традиционными областями
человеческого мышления и действия, человеческое все более воспринимается как нечто редкое,
диковинное, удивительное, не просто «поглощается», но дегустируется, у него появится особый,
благородный вкус и запах, как у старинного вина. Нужна высокоразвитая техническая
цивилизация, чтобы запечатлеть образ человека на таком экологическом уровне («тело,
прикосновение, разговор по душам, взгляд, любви старинные туманы»). Возникает примерно
такое же отстраненное и ост-раняющее отношение к человеку, как к природе в рамках экологии,—
отношение издалека, как к исчезающему виду. Уже в XVIII—XX веках наряду с природой
объектом такого экологического внимания и ностальгического влечения становятся первобытные
народы, архаические и традиционные культуры, т. е. человек как предмет этнографии или
культурной антропологии. Постепенно и современный человек будет передвигаться в область
экологического внимания и заботы, поскольку «современность» будет осознаваться
