Алаев Л.Б., Ашрафян К.З., Иванов Н.И. (отв. ред.) История Востока. В 6 т. Том 3. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI-XVIII вв
Подождите немного. Документ загружается.


получила лишь после революции Мэйдзи.
Хотя по Корее нет столь же детальных исследований, как по Японии, в ней примерно в то же
время отмечаются сходные явления: государство обеднело, не может выплачивать жалованья
чиновникам и делать традиционные благотворительные выплаты, а вместе с тем наблюдается бур-
ное развитие частной торговли, которое свидетельствует об экономическом оживлении. Очевидно,
что и в Корее шло вызревание частной собственности.
В Китае подушный налог был слит с поземельным и ставки консолидированного налога были
зафиксированы. Дополнительные налоги, введенные в конце XVI — начале XVII в., отставали от
роста цен и падения стоимости серебра. По-видимому, и относительно Китая можно говорить о
продолжении медленного процесса становления частной собственности.
Бюджетный дефицит Османской империи и растущая привлекательность земли как товара
указывают на то, что и там шел подобный процесс. В казну Османской империи поступало в 1520-
е годы 50% всех доходов, в 1660-е — 25, в первой половине XVIII в. — 20, а в начале XIX в. — не
более 12,5%. На протяжении тех же веков росло число чифтликов — мелких поместий «как бы
крестьян» (чифт — это упряжка быков и участок, который можно обработать при помощи пары
быков или волов), которые начинают скупать не только просто богатые люди, но и представители
воинского сословия (сипахи) — правящего слоя империи.
Однако другие страны Востока шли, насколько можно судить, в обратном направлении. Так, в
Могольской империи доля валового урожая, отбиравшаяся в счет налога, по-видимому, возросла.
Если при Акбаре (1556—1605) налог чаще всего исчислялся как треть урожая, то при Ау-рангзебе
(1658—1707) официально брали половину. Это не значит, что реально собираемый в казну либо в
пользу джагирдара продукт либо его стоимость составляли треть, а потом половину всего, что
произведено. До раздела урожая на налог и продукт, оставляемый в деревне, из него
производились вычеты (на посев, на содержание слуг и деревенской ад-
18
министрации). Но все же рост доли, изымаемой из деревни, видимо, произошел.
В XVIII в. Могольская империя ослабла, ее налоговый гнет также, возможно, стал легче, но под ее
формальной эгидой создались новые государства, хищные, особенно в отношении сопредельных
территорий. В Маратхской конфедерации, например, проводились как бы две разные линии
налоговой политики. В собственно Махараштре налоги оставались низкими и права
землевладельцев (мирасдаров, ватандаров) не ущемлялись. Но на территориях, захваченных в
ходе завоевательных войн, — в Гуджарате, Центральной Индии, Танджуре маратхские вожди
пытались увеличивать налог сверх всякой разумной меры. Первоначально, действуя еще под
эгидой Могольской державы, они претендовали на '/4
всех
налогов (чаутх). Уже одно то, что налоги
собирали в могольскую и ма-ратхскую казну две разные группы чиновников, приводило к
фактическому повышению поборов. Потом, когда маратхские княжества стали более
самостоятельными, они создали административно-налоговый аппарат, гораздо более громоздкий и
разветвленный, чем когда-либо при Моголах. Они пытались взять под контроль даже всю
хозяйственную жизнь деревни. Именно при маратхах в деревни стали посылать предписания —
когда сеять и когда убирать. Ставки налогов были установлены на таком уровне, чтобы их нельзя
было уплатить в обычный по урожайности год. Из года в год накапливались, таким образом,
недоимки, которые позволяли в самый урожайный год тоже забрать из деревни все излишки.
Землевладелец-налогоплательщик не мог в таких условиях получать ренту сверх прожиточного
минимума. Выгодность низовой собственности никогда не была в Индии велика. В сравнительно
благоприятный период второй половины XVI — первой половины XVII в. права замин-дари
продавались за сумму, равную 2—3 годовым налогам с данного участка. Во второй же половине
XVIII в. эти права в некоторых районах Индии вообще нельзя было продать, потому что владеть
землей стало невыгодно. В маратхских государствах отмечаются многочисленные случаи, когда
мирасдары бросали свою землю и брали в аренду другие участки в соседних деревнях, чтобы
спастись от полного разорения.
Подобная ситуация складывалась в Верхнем Доабе, т.е. области вокруг могольских столиц Дели и
Агра, и в новом государстве Майсур. Землевладельцы перестали экономически отличаться от
арендаторов. И тех и других одинаково пригибали к земле непомерные налоговые требования
государства.
Это означало серьезное изменение традиционной структуры прав на землю — уничтожение (как
потом оказалось — временное) низового, податного землевладения. Это вызвало в некоторых
областях даже появление никогда прежде не наблюдавшихся в Индии перераспределений земли

между домохозяйствами, а именно передачу участков, которые хозяин не мог обработать, другому
лицу, даже чужаку. Перераспределения происходили на деревенском уровне и осуществлялись
общинными старостами (правда, довольно часто в сотрудничестве с чиновниками),
19
поэтому получали форму общинного земельного передела по тягловым возможностям семей.
Общины с переделом подобного типа получили наименования бхедж-баррар (в Бунделкханде,
области к югу от р. Джамны), или висапади (в Раяласиме, территории к югу от среднего течения р.
Кришны). В Майсуре при Типу Султане (1782—1799) права на землю тоже потеряли значение и
участки передавались любому, кто мог заплатить налог.
В начале XIX в., после того как государственные налоги снизились до приемлемых размеров,
частное землевладение в этих районах восстановилось и «общинные переделы» исчезли. Но в
XVII—XVIII вв. Индия двигалась по вектору, противоположному процессу складывания или
вызревания частной собственности.
Как регресс с точки зрения частной собственности на землю можно рассматривать также систему
сактина в Сиаме (Аютии), введенную законом 1451 г. Это была разновидность надельной
системы, от которой уже давно отказались страны Дальнего Востока. Но эта попытка остановить
вызревание новых отношений в землевладении в изучаемый период практически была преодолена.
Таким образом, нельзя сказать однозначно, что XVII—XVIII века ознаменовались приближением
стран Востока к той модели феодализма, которая была более благоприятна для вызревания
буржуазных отношений. И даже там, где частная собственность постепенно утверждалась, она
была «нежеланной гостьей». Экономическая мысль всех восточных государств воспринимала ее
как нарушение должного порядка, продолжала считать идеалом аграрного устроения схему
«крестьянин—государь», где государь подобен отцу: он назначает хороших, честных чиновников,
а крестьяне трудолюбивы и не претендуют ни на что, кроме доли собственного продукта.
ГОРОД. СОЗРЕВАЛО ЛИ «ТРЕТЬЕ СОСЛОВИЕ»?
Аграрная ориентация общества, опора экономики на сельское хозяйство, столь характерные для
феодализма, были выражены на Востоке в некоторых отношениях сильнее, чем в Европе.
Аграрная политика, забота о том, чтобы вся земля государства была обработана, организация
налогообложения именно сельского населения — все эти вопросы находились в центре внимания
любого восточного правительства. Особенно уважительно относится к земледелию китайская
традиция, по которой земледелие — ствол, все же остальные занятия — ветви. И ради того, чтобы
укреплять ствол, можно даже «обрубать ветви». Эта социальная концепция распространилась
также на Корею, Японию, Вьетнам. Она играла свою роль в борьбе с частной инициативой,
которую восточное государство давно осознало как угрозу себе. Но и там, где такой концепции не
было, — в Южной Азии и на Ближнем Востоке, где занятие торговлей
20
считалось вполне достойным, стремление подчинить государству торговца, не говоря уже о
ремесленнике, проявлялось ничуть не меньше.
Городское население в развитых странах Востока в XVII—XVIII вв. было огромным — 10—20%
по сравнению с 1—7% в странах Западной Европы примерно в это же время. В Китае были
миллионные города, в то время как в Англии, Франции, Нидерландах численность населения
города обычно не превышала нескольких десятков тысяч. Однако эти данные не означают, что в
соответствующей пропорции были развиты промышленное производство и прочие городские
виды труда.
В политическом отношении город доминировал над деревней. В городе базировались двор
правителя, практически весь состав правящего слоя и армия. Соответственно в городе же
концентрировались обслуживавшие двор и армию лица — производители оружия, одежды,
амуниции, украшений и т.п. Здесь же были и торговцы, которые через свои связи могли достать
любую вещь, не производимую в этом городе. Городское ремесло, в значительной своей части
ориентированное на элитарный спрос со стороны верхней прослойки господствующего класса,
развивалось в направлении совершенствования качества продукции, не учитывая проблемы
количества и цен. По выражению А.П.Колонтаева, ремесло азиатских городов к концу средних
веков попало в «тупик виртуозности»
2
.
Конечно, городские ремесленники производили также какое-то количество товаров для рядового
потребителя. Но эта часть производства не была и не стала ведущей в жизни города. Товарные
связи городов с сельской периферией оставались слабыми и односторонними. Сельская про-
дукция, продовольствие поступали, конечно, на рынки города, но городские ремесленные изделия
почти не попадали в деревню.

То, что товарные связи города и деревни развивались недостаточно динамично, не давало
возможности торгово-ремесленным слоям города получить экономическую и бороться за
политическую независимость от правящего слоя. Город в большинстве стран Востока остался
объектом прямого администрирования со стороны центральной власти.
Нельзя сказать, что в понимании современников город ничем не отличался от деревни. Напротив,
слой «горожан» (шахри — в Иране и Индии, тёнин — в Японии и т.п.) осознавался как особый,
имеющий собственные проблемы. К нему относили только ремесленников и торговцев, «людей
базара», так что «горожане», например, в г. Эдо в XVII в. составляли лишь половину населения
этого города. Общее впечатление таково, что подобная пропорция была типичной и для других
городов восточных государств в тот период. Так что функционально (профессионально)
«горожане» Востока соответствовали «бюргерам» (тоже «горожане») средневековой Западной
Европы. Но социально и политически это был совсем иной слой. У него не было
самостоятельности в решении собственных проблем.
Самоуправление в городах существовало в виде так называемых «цехов» (аснафы — на Ближнем
Востоке, дза — в Японии, ханы — в Китае, ке — в Корее), гильдий купцов (сичжон — в Корее),
кастовых старост (в Индии). Но, во-первых, за редчайшими исключениями, они не
21
составляли единой организации в городе, были разобщены, а во-вторых, находились под
контролем властей — городских, а в конечном счете — центральных. Руководители цехов,
гильдий и каст назначались либо прямо сверху, либо по согласованию с властями. Руководители
объединений ремесленников и прочих корпораций получали инструкции от властей и должны
были перед ними отчитываться.
Не видно, чтобы в этом отношении намечался прогресс. Более того, в целом возникает
впечатление о росте зависимости города от центральной власти, о постепенном подавлении
ростков корпоративности и самоуправления. Наглядно это было в Индии, где в раннее
средневековье, особенно в южной части полуострова, процветали торговые корпорации (шрени),
городские советы (нагараттар), которые явно самостоятельно распоряжались большими
средствами и землей, а в рассматриваемый период исчезли почти без следа. В странах
мусульманского Востока как будто бы не отмечено ослабления роли аснафов, но не заметно и
какого-либо прогресса в эволюции самоуправления в городах. Даже в Японии, где по многим
показателям шло развитие новых отношений, тёнины в изучаемый период не добились никаких
успехов в самоуправлении. Более того, именно в XVI в. единственный «свободный» город Японии
— Сакаи теряет свою независимость и начинает управляться государственными чиновниками, как
и остальные города.
ВОПРОС О «ЗАЧАТКАХ КАПИТАЛИЗМА» В ПРОИЗВОДСТВЕ
В 50—60-е годы идея о том, что в странах Востока по крайней мере в XVII—XVIII вв., если не
раньше, вызревали буржуазные отношения, получила широкое распространение и почти полное
признание в среде отечественных востоковедов. Признаки возникновения капиталистического
уклада видели в отношениях найма в ремесле, в подчинении ремесленников торговцам-скупщикам
(что характеризовали как рассеянную мануфактуру), в появившихся отдельных довольно крупных
производствах — в судостроении, металлургии, выпаривании соли, сахароварении и т.п.
Существенной для решения вопроса о том, можно ли считать все это зародышами капитализма,
была динамика процесса: когда возникли эти явления, умножались ли со временем? Оказалось
прежде всего, что ряд «капиталистических» явлений (наемный труд, скупка ремесленных изделий)
наблюдались в экономике многих стран Востока чуть ли не с древности, другие (крупные
производства) также достаточно стары. И нет никаких оснований считать, что их роль в экономике
возрастала и они консолидировались в некий новый, враждебный феодализму социально-
экономический уклад.
Более того, иногда становилось ясно, что расцвет «подчинения труда капиталу» или «мануфактур»
уже прошел в период до XVII—XVIII вв., а в эти века сменился упадком. Так, в Китае частное
железоделательное
22
производство в провинциях Хунань и Хубэй достигло расцвета в XI в., а затем правительство
стало его ограничивать, вводя государственные монополии на продажу ряда железных изделий, а
также залавливая налогами. Окончательно производство железа в этом районе прекратилось в
1736 г. Судостроение было прекращено и запрещено еще в XVI в. Политика ограничения
производства проводилась и в других странах. Так, во Вьетнаме в 1731 г. были закрыты горные
предприятия в Тханьхоа на том основании, что на родине правителя страны «нельзя рыть горы и

раскапывать холмы, дабы не причинять ущерб жилам земли».
В последние годы проведено несколько количественных исследований, позволивших представить
динамику стран Азии и Европы на протяжении веков в абсолютных числах. В нашей стране такую
работу провел В.А.Мельянцев
3
. Выяснилось, что XVII—XVIII века — это период упадка валового
внутреннего продукта на душу населения в таких крупнейших цивилизациях Востока, как Китай
(на 6%) и Индия (на 11%). В Японии за это же время подушевой доход вырос примерно на 26%, в
странах Западной Европы — на 20%. Таким образом, макроэкономический анализ достаточно
недвусмысленно говорит о том, что накануне колониального подчинения Восток в целом, за
исключением Японии, испытывал застой, попал в тупик в своем экономическом развитии.
На каком же этапе формационного развития застыли ведущие страны Азии? Феодализм, как и
любое иное протяженное явление в истории, можно грубо разделить на ранний, развитой и
поздний. В медиевистике, ориентированной на историю Западной Европы, принято считать ран-
ним феодализмом V—X вв. (до появления самоуправляющихся городов), развитым — XI—XIV
вв. (до появления капиталистических зачатков), поздним — XV—XVII вв., период, когда в
обществе наряду с феодальными отношениями существует и развивается капиталистический
уклад. Поскольку сравнение обществ Азии и Европы по уровню развития вполне разумно, мы
можем взять указанную выше шкалу как условный эталон и посмотреть, как она соотносится с
тем, что мы знаем о Востоке.
Начнем с того, что даже в тот период, когда поиски зачатков капитализма на доколониальном
Востоке были в самом разгаре, никто из исследователей не утверждал, что в Индии или Китае (две
страны, которые подвергались наиболее внимательному изучению с этой точки зрения)
самостоятельно сложился капиталистический уклад и что они, таким образом, достигли уровня,
называемого в Европе «поздним феодализмом». Сошлись на том, что эти страны находились на
этапе «развитого феодализма», т.е. отстали от современной им Европы на 200—300 лет.
Однако смущало то, что многих институтов, характерных для европейского средневековья, на
Востоке не наблюдалось. Это относится
23
прежде всего к частной собственности на землю, которая в Европе к XI—XII вв. достигла
значительной зрелости, самоуправляющимся городам и сословной монархии. В 1979 г.
В.И.Павлов выступил с идеей, что передовые страны Азии не достигли ни того уровня
производительных сил, ни того уровня социально-политического развития, которые мы называем
типично средневековыми (феодальными) в Западной Европе, и, следовательно, находились на
этапе раннефеодальном, что означало, что они отставали от Западной Европы на 800 или более
лет
4
.
Специалисты по истории средневекового Востока практически единодушно отрицательно
отнеслись к этой идее. Несмотря на то что при строго линейном подходе к истории аргументам
В.И.Павлова нечего было противопоставить, а цивилизационный, или типологический, подход в
то время не был еще развит, все же специалисты чувствовали, что логические построения на
основе идеи однолинейности заводят в тупик. Определенное отставание в продвижении к
капитализму (коль скоро закономерность такого движения никем не ставилась под сомнение) бы-
ло налицо, но уровень социальной организации, государственности, культуры был, безусловно,
сопоставим именно со средневековой Европой и несопоставим с раннесредневековой.
Решение вопроса о степени разрыва в уровнях развития Западной Европы и Азии, как и ряда
аналогичных проблем истории, упирается в неразработанность понятия «прогресс». Наряду с
прогрессом—преодолением существующей системы отношений есть, очевидно, и прогресс-
совершенствование системы, и вторая форма прогресса редко переходит в первую, напротив,
часто заканчивается тупиком. Чтобы не превращать данную главу в историософский трактат,
воздержимся от разбора иных исторических ситуаций, которые можно было бы назвать
тупиковыми, но вернемся к странам Востока XVII—XVIII вв. Их история показывает, что
восточное общество имело свои пределы поступательного развития, которые можно определить
как достижение
— развитой, отлаженной государственности;
— эффективного в определенных климатических условиях, экологически обоснованного
сельского хозяйства;
— значительной дифференциации занятий, выражающейся в большом городском населении,
высококачественном профессиональном ремесле, полностью соответствующей нуждам общества
торговли.

Но чем совершеннее работал природно-социально-экономический механизм, тем труднее в его
недрах было появиться и вызреть новым, несистемным отношениям.
Однако вопрос об отставании Востока от Запада с точки зрения перехода к капитализму остается
— и даже приобретает особую остроту. От того, каковы причины непоявления автохтонного
капитализма на Востоке, зависит и решение проблем, вставших перед неевропейскими странами в
новое и новейшее время, когда им все же пришлось идти к капитализму.
24
Вопрос о причинах отставания стоит с того времени, когда Европа осознала себя «передовой». Его
пытались разрешить разными способами, вплоть до того, что заменяли противоположным
вопросом: «В чем причина ненормально быстрого развития Европы в XVI—XVIII вв.?»
Причины какого-либо явления всегда многослойны, а их поиски подобны археологическим
раскопкам. Еще со времен Ф.Бернье, если не раньше, основную причину упадка Востока видели в
государственной собственности на землю, вернее, в отсутствии частной. Как показывают
исследования, тезис об отсутствии частной собственности на землю на Востоке неточен. Частная
собственность была, но придавленная государственной, или верховной. Однако дело не в
уточнении тезиса, а в том, что вновь встает вопрос «почему?» Почему частные собственники, не-
редко богатые и влиятельные, не смогли практически повсюду на Востоке до нового времени
ограничить аппетиты государства?
Л.С.Васильев в своих работах
5
обосновывает мысль о том, что государственная собственность на
землю, как и вообще «государственный способ производства», существовавший, по его мнению,
на Востоке, — это закономерный результат вызревания государства и разрушения первобытного
строя, когда общинная административная верхушка становится распорядителем всего имущества
коллектива, а затем закрепляет его за собой в собственность. В его терминологии: реципрокность
переходит в редистрибуцию. «Запад» же возник в лице древнегреческой цивилизации в результате
«социальной мутации». И далее уже частная собственность, ставшая основой общественных
отношений в Древней Греции, повела Западную Европу по дороге демократии, права, приоритета
личности и технического прогресса.
Мутация в биологии, откуда взято это слово, — явление случайное. Перенос термина из одной
науки в другую имеет смысл, только если не меняется его значение. Следовательно, называя
возникновение античной культуры «социальной мутацией», мы недвусмысленно заявляем, что не
можем этого объяснить. Таким образом, «социальная мутация» — это замена одного неизвестного
на другое, это мнимый ответ на вопрос.
Кроме того, стройность концепции Л.С.Васильева нарушается тем обстоятельством, что между
«реципрокностыо», характерной, с его точки зрения, для первобытного строя, и
«редистрибуцией», т.е. системой, основанной на сборе налогов с самостоятельных производителей
и перераспределении собранных сумм между членами господствующего слоя, лежит исторически
длительный период крупных хозяйств (государственных в масштабах страны — в Египте, царско-
храмовых — в Месопотамии, царских — в Микенах). Чтобы возникли такие хозяйства, тоже
нужна социальная революция, или, если хотите, мутация — превращение свободных в
работников-рабов, создание надзирающего аппарата, письменности и документации. Да, эта
мутация оказалась неудачной, и от нее древневосточные страны пошли к системе
государственного обложения и сравнительной свободы крестьянства, а античные — к частной
собственности. И все тот же вопрос «почему?» остается без ответа.
25
Как археологи, снимая слой за слоем, доходят до «материка» и на этом прекращают работу, так и
здесь, докапываясь до наиболее глубокой причины, неизбежно приходишь к географическим
условиям, глубже которых все равно ничего нет.
К.Маркс и Ф.Энгельс, пытаясь понять причины «азиатского способа производства», дошли
именно до этого «материка». Они обратили внимание на пустыни и сухие степи, диктующие будто
бы искусственное орошение, которое может организовать только государство, в связи с чем и
получает огромную роль в экономике, а следовательно, и во всех остальных сферах жизни
6
. Но
такой простой ход от природных условий к социальной структуре не проходит. Искусственное
орошение, особенно при помощи крупных сооружений и систем, не было характерно для
большинства стран Востока в древности и средние века. И мотивы государственного
вмешательства в экономику в Иране, Индии, Китае, других странах должны были быть иными.
Интересно, насколько живучи стереотипы! Несмотря на многолетние усилия практически всех
востоковедов, занимающихся разнообразными странами, доказать, что орошаемое земледелие не

было основой хозяйства практически нигде, кроме Египта и Месопотамии, в обыденном сознании
Восток до сих пор предстает как область искусственного орошения.
Ю.Г.Александров и Б.И.Славный выдвинули идею о том, что разные исторические судьбы
Востока и Европы объясняются разными способами развития производительных сил: на Западе
развивалась трудосберегающая технология (повышение производительности труда), а на Востоке
стремились к повышению продуктивности земли безотносительно к количеству затрачиваемого
при этом труда
7
. Эта идея вырастала, безусловно, из реальных фактов, приемов ведения сельского
хозяйства, отвечала некоторым интуитивно понимаемым реалиям восточных стран. Но вопрос
«почему?» оставался. И, подобно К.Марксу и Ф.Энгельсу, авторы этой идеи «списали» причину
такого различия на орошаемое земледелие, что не может быть принято по указанным выше
причинам.
Недавно С.В.Онищук
8
выступил с совершенно новой идеей, которая связывает социально-
политический строй, аграрный строй, темпы развития, системы земледелия и природные условия в
разных климатических поясах в единый узел. Кратко говоря, он берет за основу степень или тип
интеграции животноводства в земледельческое производство. Он считает, что в западном и
центральном районах умеренного пояса Европы природные условия позволяли содержать
большое количество скота, что предопределило переход к трехполью и постоянное повышение
урожайности полей. В субтропическом поясе Европы и Азии — от Испании до Китая — высокая
естественная продуктивность земли приводила к быстрому возрастанию плотности населения и
хозяйство попадало в замкнутый круг: чтобы поддержать растущее население, надо было уве-
личивать запашку и сокращать пастбища, сокращать поголовье крупного рогатого скота, отчего
страдала урожайность и требовалось еще больше увеличивать запашку. Страны этого пояса так и
не перешли к трехпо-
26
лью, поскольку такой переход требовал увеличения площади, используемой одним хозяйством,
что было физически и социально невозможно.
Содержание большого количества скота без больших трудовых затрат возможно только там, где
можно пасти скот круглый год. В восточной части умеренного пояса Европы морозная зима
позволяет содержать лишь такое количество скота, которое можно прокормить запасенными
летом кормами. В субтропиках же круглогодичному выпасу скота мешает выгорание травы летом.
На стадии переложного земледелия разница в обеспеченности хозяйств скотом не чувствуется. На
стадии ротационных систем начинается дифференциация: одни повышают производительность
труда, другие — продуктивность земли. Наконец, на стадии паровых систем два типа
хозяйствования окончательно расходятся: в субтропиках — к двухполью и системе, которая не
может преодолеть некий потолок производительности и обречена на циклическое движение; в
умеренном поясе Западной Европы — к трехполью и постоянному повышению производитель-
ности. В тропической зоне совсем не было интеграции животноводства и земледелия, и там
развитие остановилось на стадии ротационных систем земледелия.
В муссонной Азии развитие пошло в направлении от почти полного уничтожения пара и пастбищ,
к росту трудоемкости сельскохозяйственного производства. По мысли С.В.Онищука, природные
условия задают типологический ряд, по которому пойдет сельское хозяйство при росте населения,
и начиная с определенного этапа переход из одного типологического ряда в другой становится
невозможным.
Тип сельскохозяйственной эволюции определяет очень многое. Прежде всего, темп выталкивания
рабочей силы из сельского хозяйства, т.е. рост городского населения, развитие ремесла и
торговли. Европейский тип эволюции обеспечивает постоянный рост несельскохозяйственного
населения. Азиатский тип этого не обеспечивает. Наоборот, постоянно создается ситуация
нехватки земледельческого населения, необходимости, «укрепляя ствол, обрубать ветки». Чтобы
развивать города, нужно увеличивать налоги с земледельцев, ограничивать цены на зерно,
истреблять земельную аристократию и разорять крупных торговцев. Отсюда развитие
деспотических форм правления.
Эта гипотеза, возможно, не объясняет всего, на что претендует. В частности, неясно, как
совместить большую трудоемкость земледелия на Востоке, постоянно ощущаемый дефицит
земледельцев — обстоятельство, подмеченное С.В.Онищуком, — и значительную долю несель-
скохозяйственного населения в этих странах, как в городах, так и в селах (что гипотезе
С.В.Онищука противоречит). Отсюда вытекает общий вывод, подсказываемый и всей историей
изучения причин отставания Востока, — нельзя все сводить к одному фактору. Помимо
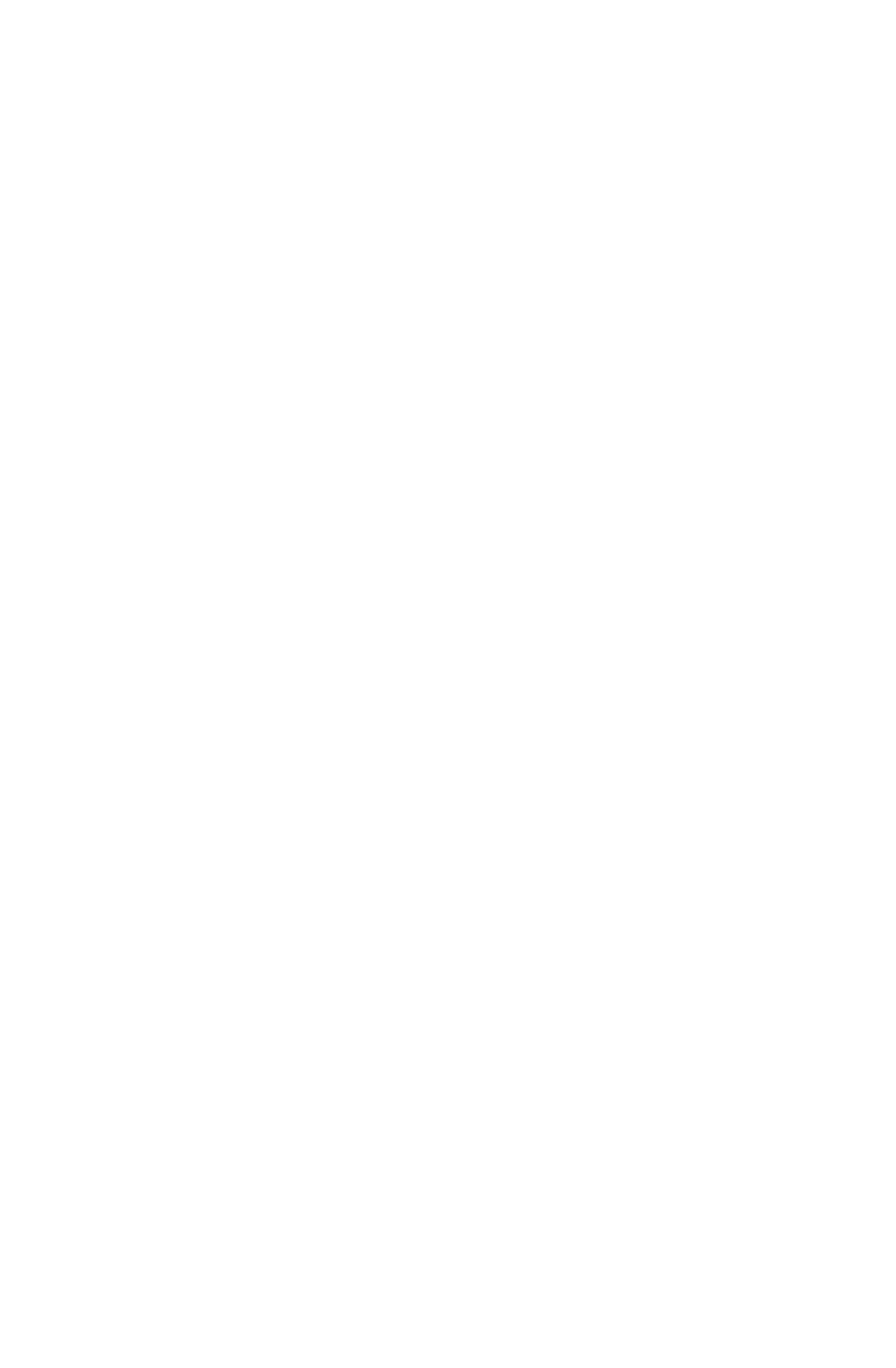
выталкивания из сельского хозяйства по экономическим и хозяйственным причинам действовали
еще и другие закономерности, которые не требовали обязательного превращения
«несельскохозяйственного» населения в производящее.
27
Все указывает на то, что страны Востока в XVII—XVIII вв. попали в исторический тупик, который
можно назвать «тупиком феодальное™». Общество основных стран Востока в этот период никак
нельзя назвать «отсталым», «недоразвитым» или «ранним», если изучать его изнутри, как
структуру. Все социальные слои и группы, явления, институты и подсистемы идеально
«прилажены» друг к другу и не могут быть разрушены по частям. Но именно поэтому этот строй
оказался непреодолимым в исторически реальные сроки. С точки зрения движения к капитализму
Индия и Китай, наиболее крупные представители Востока, возможно, действительно не достигли
того уровня, который в Западной Европе именуется «развитым феодализмом». Хотя во многих
других отношениях Китай продолжал обгонять Западную Европу — например, в степени зрелости
государственной структуры. Но это уже не имело значения.
Исторические тупики не бывают абсолютными. Возможно, что Османская империя и особенно
Япония уже преодолевали «феодальный тупик» и выходили на путь динамического развития. Но
история не отпустила им времени на самостоятельные поиски выхода из застоя. Страны Востока
были обречены на страдания, связанные с насильственной ломкой «традиционного» строя и
искусственной модернизацией.
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Attman A. The Bullion Flow: Between Europe and the East, 1000—1750. GOteborg, 1981; Ffynn Dennis O. and Giralder
Arturo. Born with a «Silver Spoon»: The Origin of World Trade in 1571. - Journal of World History. Honolulu, 1995, vol. 6, №
2, c. 201-221.
2
Колонтаев А.П. Низшие формы производств в странах Южной и Юго-Восточной Азии: Особенности эволюции. М.,
1975.
3
Мелъянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М., 1996.
4
Павлов В.И. К стадиально-формационной характеристике восточных обществ в новое время. — Жуков Е.М., Барг М.А.,
Черняк Е.Б., Павлов В.И. Теоретические проблемы всемирно-исторического процесса. М., 1979, с. 173—329.
5
См., например, Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М., 1994.
6
Маркс К. Британское владычество в Индии. — Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 4-е изд. Т. 9, с. 132 и др.
7
АлександровЮ.Г., Славный Б.И. Капитал и трудовые ресурсы Востока (опыт теоретического анализа). — Исторические
факторы общественного воспроизводства в странах Востока. М., 1986, с. 269-289.
8
Онищук С.В. Исторические типы общественного воспроизводства: Политэкономия мирового исторического процесса.
М., 1995.
Глава 2
ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА И ЗАПАДА НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
На рубеже Нового времени Восток был наиболее богатой и населенной частью мира. В 1500 г.
в странах Востока (Азия и Северная Африка) проживало около 288 млн. человек
1
, или 68%
всего населения Земли. Вплоть до промышленной революции в Европе на него приходилось
примерно 77% мирового промышленного (мануфактурно-ремесленного) производства. Здесь
были наиболее плодородные почвы, дававшие сравнительно высокие урожаи. В могольской
Индии, например, при Акбаре (1556—1605) средняя урожайность пшеницы составляла 12,6 ц
с гектара, ячменя — 13,1 ц, тогда как в странах Западной Европы — 7—8 ц с гектара. В 1500 г.
из 31 наиболее крупного города мира, с населением свыше 100 тыс. каждый, 25 находились на
Востоке и только 4 — в Европе (2 — в Африке). Вплоть до XVII в. европейцев, побывавших
на Востоке, поражало обилие и высокое качество товаров, особенно тканей, большие
густонаселенные города, мастерство ремесленников, богатство и могущество правителей. До
промышленной революции, практически до начала XIX в., страны Востока экспортировали в
Европу в основном потребительские товары и другую готовую продукцию. Они были
поставщиками медикаментов, пряностей, затем кофе, сахара, чая, а также тонких хлоп-
чатобумажных тканей, кашемиров, шелков и других предметов роскоши.
По сравнению с Западом Восток был лучше обеспечен продовольствием, особенно хлебом.
Ибрахим-паша, великий везир османского султана Сулеймана Великолепного (1520—1566),
хвастливо заявил посланцу из Вены, что только одна османская провинция (Верхняя
Месопотамия) производила зерна больше и лучшего качества, чем все немецкие земли
императора. В Алжире хлеба было больше, и он стоил в 4—5 раз дешевле, чем в Испании
Филиппа II. В большинстве стран Востока в XVI в. наблюдался мощный экономический

подъем, сопровождавшийся значительным демографическим ростом. Прирост населения в
Азии в XVI в. составил 35%. Положение народных масс было достаточно стабильным. По
утверждению современников, крестьяне балканских провинций Османской империи в XVI в.
жили значительно лучше, в XVII в. — несколько лучше, чем крестьяне сопредельных стран
Запада.
По сравнению с Востоком Европа выглядела более бедной и отсталой частью света. Особенно
низким был уровень материального производства. В 1500 г. в странах Запада (католические
страны Европы) было •68 млн. жителей, или 16% всего населения Земли. На Европу (без Рос-
сии) приходилось приблизительно 18% мирового промышленного производства; в расчете на
душу населения это было несколько меньше, чем
29
на Востоке. Недоедание и бедность были уделом большей части жителей. Прирост населения,
составивший 25% в XVI в., хотя и повысился по сравнению с предыдущим периодом, но был
ниже, чем в Азии.
Лишь страны Южной Европы, и прежде всего Италия и Испания, находились на уровне
Востока. Постепенно, в процессе «итальяниза-ции», к ним подтягивались менее развитые
страны, в первую очередь Фландрия, Франция, Англия и другие земли на северо-западе
Европы. Несмотря на это, а также на относительную слабость и неравномерность развития,
Запад оказывал все возрастающее влияние на ход мировых событий. Его динамизм и в
конечном счете его роль в мировой истории совершенно не соответствовали и не вытекали из
численности его населения, его богатств и других условий материальной жизни. Совершенно
очевидно, что роль Запада определялась факторами иного порядка, прежде всего так
называемым человеческим фактором, «культурой человека», вытекавшей из особенностей
западной цивилизации.
Эта новая цивилизация сложилась на Западе в X—XI вв. на базе античных традиций и учения
западнохристианской (католической) церкви. Ее основу составлял свободный человек,
самостоятельный и независимый индивид, обладавший личными правами и привилегиями. В
отличие от Востока на Западе преобладало личностное начало, примат частных интересов
перед общественными. Чисто христианская идея богоче-ловечности всемерно укрепляла это
начало и требовала от каждого человека бесконечного самосовершенствования,
«соработничества» с богом. В сочетании с вековыми традициями частной собственности это
способствовало созданию социальных и ментальных структур, обладавших огромным
потенциалом саморазвития. Именно на базе этих структур развился совершенно особый тип
личности, обрекавший западного человека на бесконечные поиски нового.
В течение всей жизни человек Запада стремился отличиться, выделиться из массы себе
подобных и занять особое, лишь ему присущее положение. На Западе моды менялись с
постоянством закона природы. Не было ничего неизменного, и неважно, что многие
новшества приходили извне. Известно, что значительная часть технических изобретений,
например огнестрельного оружия, бумаги, водяного колеса, ветряных мельниц,
книгопечатания и многих других, была сделана на Востоке. Но на Западе они быстро
доводились до совершенства и давали импульс для новых открытий. Невозможно перечислить
все то новое, что появилось в Европе на рубеже Нового времени. Менялось все — политика,
понимание любви, философия, финансы, искусство и технология. Все эти перемены отражали
своеобразную духовную атмосферу, царившую на Западе, были проявлениями того духовного
настроя, того духа Фауста, который заставлял западного человека ради собственного
удовольствия проникать в тайны природы и уходить в далекие страны. Европейцы оставили
сотни записок о своих путешествиях за морями. Но мы не знаем ни одного описания Европы,
сделанного китайским или индийским путешественником. Да и мусульмане выезжали на
Запад только в силу крайней необ-
30
ходимости, главным образом по делам, связанным с государственными интересами.
По сравнению с Западом Восток был неподвижен. Моды не менялись здесь в течение нескольких
поколений. Приданое бабушки ветшало, но не старело. На Востоке преобладало общее начало,
конформизм, исходивший из убеждения, что существуют общие закономерности, с которыми
каждый человек должен сообразовывать свою жизнь. Эта идея о вечных и объективных законах, а

также преобладание общего начала над частным, коллектива над личностью предопределяли
инерционность жизни и мысли. Масса подавляла единицу и не давала ей возможности проявить
себя. Верность прошлому, прежде всего заветам великих предков, открывших законы правильной
жизни, доминировала в системе восточных ценностей. Лишь их действительное или мнимое
нарушение заставляло восточных людей искать новые пути и решения, призванные в конечном
счете восстановить привычный порядок вещей.
Динамизм Запада, превосходство его ценностей выявились далеко не сразу, а главное, не во всех
сферах человеческой деятельности. Вплоть до середины XVII в. у Запада не было преимущества в
области военного дела, он по-прежнему отставал от Востока в сфере материального производства
и уровня жизни, т.е. в сопоставимых и легко устанавливаемых областях человеческого
общежития. Лишь в конце XVII в. превосходство Запада стало очевидным. Тогда же стало
отмечаться «отставание» Востока. Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что это «отставание»,
как и «опережающее развитие» Европы, было не более как внешним проявлением, видимым
следствием их предшествующей истории. На рубеже Нового времени в Западной Европе не
произошло и не происходило ничего сверхъестественного. «Европейское чудо» XVI—XVII вв.
было простым и естественным накоплением результатов, которые неожиданно для других
приобрели новое качество. «Отставание» Востока — это также результат его собственного
развития. Вплоть до XIX в. его никто не прерывал и не останавливал. Но в отличие от Европы оно
происходило другими путями, на базе иных социальных и религиозных ценностей.
При общей противоположности Западу Восток был далеко не един. Его отдельные части
различались между собой почти так же, как каждая из них отличалась от Запада. К тому же вплоть
до Великих географических открытий эти отдельные части человечества развивались довольно
изолированно, не будучи связаны между собой постоянными и взаимообусловленными
процессами. Универсальность мира и человека существовала скорее в сознании людей, чем в
реальном жизненном опыте. В лучшем случае существовали контакты между сопредельными
ойкуменами, каковыми являлись эти отдельные части. В каждой из них доминировала своя
цивилизация со своим видением мира, со своими мирохозяйственными связями и культурно-
историческими ценностями. На рубеже Нового времени все эти цивилизации выступали как
своего рода центр силы, в поле притяжения которых развертывался всемирно-исторический
процесс.
31
Обычно цивилизацию (культурно-исторический тип) определяют как способ, или стиль, жизни,
свойственный крупной человеческой популяции, которая руководствуется своим комплексом
знаний и признает авторитет определенной системы ценностей. В соответствии с ним и страны, и
народы, входящие в цивилизацию, стремятся строить свою жизнь, свои социальные и
политические институты. При этом каждая цивилизация опиралась на собственную мифологию и
культурно-историческую традицию. Каждой из них был присущ особый тип культуры с собствен-
ной концепцией жизни и человека, со своей этикой и моралью.
Каждая цивилизация выступала как целостная система. Как таковая она являлась детерминантом
своих частей, подчиняла или преобразовывала их в соответствии со своей собственной природой.
Экономика не является исключением. Поэтому каждой цивилизации был присущ свой
собственный способ производства, вытекающий из характера ее экономических структур, т.е.
совокупности социальных условий, в которых осуществлялась хозяйственная деятельность
человека. Поэтому с экономической точки зрения цивилизации, находившиеся на одинаковой ста-
дии развития, отличались не характером орудий и средств производства, а формами организации
труда. Они были органически присущи цивилизации и вследствие этого отличались необычайной
прочностью. Не случайно К.Маркс в «Капитале» отмечал, что внутренняя устойчивость и
структура докапиталистических национальных способов производства в Китае и в Индии являлись
непреодолимым препятствием для разлагающего влияния торговли и не поддавались разрушению
без помощи политической власти
2
.
Роль и значение отдельных цивилизаций были далеко не одинаковы. Они не зависели ни от
численности населения, ни от величины ресурсов или территории, находившихся в их
распоряжении. Определяющим моментом были уровень развития, динамизм и жизненная сила
отдельных цивилизаций. Однако сравнительный анализ уровней развития, тем более динамизма
встречает немалые трудности. Нет объективных критериев, нет базы для сравнения. В
марксистской историографии, исходившей из гегельянских представлений об однолинейности
всемирно-исторического процесса, в течение длительного времени господствовал формаци-онный

подход, и соответственно уровень развития определялся ступенью формационной лестницы,
достигнутой каждым данным обществом. При всей простоте и кажущейся объективности здесь
нет главного — самой возможности сопоставлять то, что на самом деле несопоставимо. В ре-
зультате уровень развития отдельных стран и регионов, прежде всего Европы, как правило, не
совпадал с оценкой их формационной зрелости, к тому же выставлявшейся довольно произвольно,
нередко со значительной долей национально-политического пристрастия.
Вследствие этого сравнительный анализ цивилизаций неизбежно несет в себе элементы
субъективизма. Как представляется, наибольшие шансы имеет прямое сопоставление взаимных
оценок и самооценок, которые делались представителями различных цивилизаций. В принципе их
можно корректировать на основе сравнения военно-политической
32
мощи, выявлявшейся путем пробы сил, а также на основе технологии и общественной
производительности труда, точнее, эффективности господствующей системы производства
материальных благ.
Опираясь на эти показатели, можно утверждать, что на рубеже Нового времени все ведущие
цивилизации Старого Света — китайско-конфуцианская, индусская, мусульманская,
западнохристианская и примыкавшие к ним русско-православная, японская и ламаистская —
находились на примерно одинаковой стадии развития. Некоторые различия в технико-
экономических показателях, например отставание Западной Европы или Ближнего Востока в
области производительности сельского хозяйства, не имели принципиального значения и
компенсировались в других сферах материальной жизни.
От этих культурно-исторических сообществ значительно отставал ряд других цивилизаций,
остановившихся в своем развитии. Будучи реликтовыми, по определению АТойнби, такие
цивилизации, как, например, полинезийская, эскимосская и аналогичные им популяции Сибири,
находились в состоянии глубокого упадка. Задолго до Нового времени они остановились на
уровне неолитических культур, не имели ни развитых религий, ни социальных институтов.
Уровень развития их хозяйства и корпус знаний зачастую были даже ниже, чем в
предшествующие времена. К началу XVI в. они полностью исчерпали свой потенциал развития и,
по сути дела, являлись пассивными объектами мировой истории. При исключительно малой
численности населения (в Сибири, например, в 1500 г. оно оценивалось в 200 тыс. человек) их
территории представали как пустые, незанятые пространства, где, по мнению других народов, не
было никакой цивилизованной жизни.
К началу XVI в. наиболее населенной и богатой частью мира были Китай и другие страны
китайско-конфуцианской цивилизации (Корея, Вьетнам). В 1500 г. в ее ареале проживало около
106 млн. человек, т.е. 22,3% всего населения земного шара. В своих основных чертах эта новая
дальневосточная цивилизация сложилась в середине I тысячелетия христианской эры на базе
социокультурного наследия Древнего Китая и учения Конфуция (551—479 гг. до х.э.).
Холодный материализм и бездуховность этой дальневосточной цивилизации сформировали
особый тип личности. Она была прочно встроена в незыблемый и вечный порядок — основу основ
конфуцианского образа жизни. Он целиком покоился на убеждении, что в мире существуют объ-
ективные закономерности, не зависящие от воли отдельных людей. Конфуцианское Пятикнижие
давало картину вечной и неизменной жизни, которая движется по твердо установленным законам
и в которой нет и не может быть ничего нового. В конфуцианстве нет бога, нет личности творца,
не говоря уже об идее богочеловечности. От человека требовалось не развитие свободного
творческого начала, а соблюдение раз и навсегда установленных правил, вытекающих из четко
осознанной необходимости.
Высшей социальной ценностью конфуцианства было государство. Оно одно, руководствуясь
единственно правильным учением, было при-
33
звано устраивать жизнь общества и человека. Государство пронизывало все, подчиняло себе все
стороны человеческой деятельности. Конфуцианское государство объединяло функции правителя,
судьи и духовного наставника народа и в этом смысле представляло, по словам Б.Н.Чичерина,
наиболее «полное осуществление теократии, основанной на господстве религиозно-нравственного
закона и его блюстителей»
3
. В служении государству, отождествлявшемуся с общественным
благом, чиновники видели высший смысл своей жизни. Нигде в мире, даже в России, не было
такого культа государственной власти. Нигде в мире чиновники не кастрировали себя ради
служения государству, без которого китайцы не мыслили справедливости и порядка.
