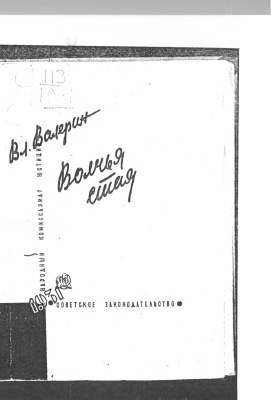М.: Советское законодательство, 1931. — 111 с.
Эта книжка вскрывает ряд болезненных явлений и извращений в жизни и
работе коллегии защитников. Тон этой книжки резко отрицательный.
Это почти памфлет. Кое-кто, вероятно, скажет: это — клевета. Но,
увы. Самое большее, о чем здесь можно говорить, это, быть может, о
некотором сгущении красок. Основное же то, что и нынешняя коллегия
защитников до сих пор еще не сумела перестроиться и вклиниться в
общий строй советских отношений, то что она и до сих пор
представляет собой самую настоящую кашу воззрений, традиций,
взглядов, политических симпатий и антипатий, беспринципности, а
иной раз просто безобразной этической неразборчивости, — в этом нет
сомнений.
Взгляд на защитника в суде, как на «борца за истину и справедливость», давно отошел в область преданий, и этому в значительной степени способствовали сами члены этого сословия не только после революции, но и в дореволюционное время. Именно, тогда и выработался тон адвоката-хищника, адвоката без принципов, адвоката, ставившего себе задачей не установить то, что было на самом деле, а создать на суде видимость того, что соответствует интересам его клиента. Этические нормы этой среды не блистали чистотой даже по отношению друг к другу.
Взгляд на защитника в суде, как на «борца за истину и справедливость», давно отошел в область преданий, и этому в значительной степени способствовали сами члены этого сословия не только после революции, но и в дореволюционное время. Именно, тогда и выработался тон адвоката-хищника, адвоката без принципов, адвоката, ставившего себе задачей не установить то, что было на самом деле, а создать на суде видимость того, что соответствует интересам его клиента. Этические нормы этой среды не блистали чистотой даже по отношению друг к другу.