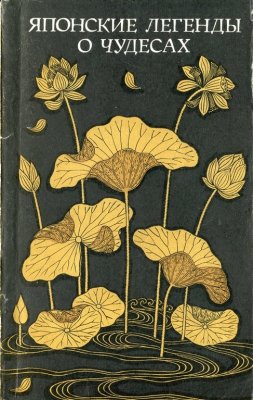Перевод Мещерякова А.Н. — М.: Наука, 1984. — 183 с.
Читатель уже привык все связанное с Японией соотносить с чем-то
необычайным и даже экзотическим. Это особенно касается
средневековой литературы Японии, известной у нас прежде всего по
произведениям аристократов эпохи Хэйан (794—1184). Спору нет,
проза, принадлежащая кисти Сэй-сёнагон или же Мурасаки,
действительно достаточно уникальна для своего времени по точности
передачи тончайших душевных переживаний, разомкнутости и свободе
композиции. «Крупный план» этой прозы позволяет говорить о ее
«кинематографичности». Однако аудитория произведений аристократов,
а точнее аристократок (ибо основные произведения хэйанской
литературы Японии написаны женщинами), была чрезвычайно узкой и
ограничивалась высшей знатью столичного Хэйана (современный Киото).
Мужчины же занимались делами государственными и описание
окружающего их мира и быта почитали несерьезным. Возможно, именно в
откровенной «непубличности» произведений аристократок и заключается
секрет популярности их творчества среди значительной части западной
интеллигенции, пресытившейся тоталитарными формами мышления XX в.
Однако наряду с этим существовала и совершенно другая, «духовная»,
по преимуществу буддийская, литература, монолитно связанная с
фольклорным творчеством и коллективными формами мышления. Каждый,
кто [4] знаком с народными формами культуры европейского раннего
средневековья, тонко и своевременно проанализированными в недавно
вышедшей в свет книге А. Я. Гуревича «Проблемы средневековой
народной культуры» (М., 1981), несомненно, будет поражен сходством,
иногда почти текстуальными совпадениями с аналогичными памятниками
народного христианства европейского раннего средневековья. Сходство
распространяется и на достаточно парадоксальный, с точки зрения
современного человека, способ записи: и в Европе, и в Японии
народные легенды при фиксации переводились на другой язык
(латинский и китайский). Таким образом, будучи записанным, фольклор
«легализуется» и попадает в разряд «серьезной литературы». Это
делало его доступным для потенциально неограниченной аудитории.
Разумеется, слово «литература» применимо к средневековым легендам,
преданиям и житиям лишь с очень существенными оговорками прежде
всего потому, что для средневековых их читателей и слушателей они
не имели никакого отношения к fiction (выдумке). Понятие авторства
было также достаточно своеобразно. «Авторство» тех, кто записывал
народные легенды (а это были мужчины —монахи и чиновники, причем
нередко весьма знатного происхождения), заключалось прежде всего в
выборе из множества циркулировавших в устной (а впоследствии и
письменной) форме сюжетов именно тех, которые подлежали фиксации
именно в данном произведении, а также в некоторой, по-видимому, не
слишком значительной «литературной» обработке оригинальных сюжетов.
Японские легенды о чудесах
- формат fb2
- размер 172,11 КБ
- добавлен 11 сентября 2015 г.