Заика В.И. Очерки по теории художественной речи
Подождите немного. Документ загружается.


Очерки по теории художественной речи_
362
(например, эпизод). И здесь эстетически существенен «эффект при-
сутствия» воспринимающего в пределах этой ситуации.
Комментарий представляет собой пестрое речевое образование.
Как уже отмечалось, он устроен таким образом, что, подобно стихо-
творной художественной модели, представляет собой относительно
автономные и разрозненные фрагменты (только не предметы и при-
знаки, а эпизоды, поступки, пейзажи
, обладающие ситуативной и
пространственно-временной организованностью). Поэтому вы-
страивание референтного пространства комментария во многом по-
добно выстраиванию референтного пространства стихотворения.
Таким образом, в «Разрыве пространства» совмещение поэти-
ческого и прозаического начал в пределах одного текста привело к
биспациальности (двупространственности) (термин Ю. И. Левина):
формированию двух типов референтных пространств одного произ-
ведения. Биспациальность обеспечивает стереоскопичность пред-
ставленного художественного мира: совмещением ракурса лириче-
ского, создаваемого несвязываемыми в единое пространственно-
временное и причинно-следственное целое фрагментами, представ-
ленными стихотворными текстами, и ракурса эпического, созда-
ваемого нарочито отрывочными и неоднородными, но имеющими
четкие пространственно-временные рамки фрагментами, представ-
ленными прозаическими частями (комментариями).
6.1.4. Понятие нетранзитивности
Текст образует в своем стремлении к смыс-
лу единственно предъявленное.
Х.-Г. Гадамер
Завершая параграф об особенностях построения референтного
пространства, остановимся на понятии нетранзитивности, как бы-
ло отмечено выше, – невозможности сведения поэтического выска-
зывания к иным элементам. Характеризуя становление этого поня-
тия, Ц. Тодоров отметил, что с нетранзитивностью была несовмес-
тима доминировавшая в характеристике специфики искусства кате-
гория мимесиса, поскольку последняя предполагала непременный
объект подражания. Только в XVIII в. – «подражанию, то есть от-
ношению подчинения внешнему миру стали предпочитать красоту,

Глава 6 Художественная модель и референтное пространство _
363
мыслимую отныне как гармоничное сочетание составных частей
предмета, как завершенность в себе» [Тодоров 1999: 75].
Соотносимое понятие транзитивности первоначально относи-
лось к предметам, Бл. Августин использовал его для противопос-
тавления двух типов действий – использования и наслаждения:
«Наслаждаться – значит привязываться к предмету из-за любви к
нему самому. Напротив, использовать предмет – значит свести
его к
другому предмету, который любят, если только он достоин любви»
(I. IV.4) (Цит. по: [Тодоров 1999: 32]). Если предмет – предел на-
правленности, то он нетранзитивен, если этот предмет отсылает к
другому, то этот предмет есть знак, он не пределен, он транзитивен.
Собственно нетранзитивным у Бл. Августина был только Бог.
Ц. Тодоров отметил, что
выработанное Р. Якобсоном представ-
ление о поэтической функции как направленности на сообщение
как таковое восходит к идеям немецких романтиков (Новалиса,
Тика), которые продолжили понимание эстетического, идущее от
И. Канта. Понятие нетранзитивности в применении к словесности
вообще характеризовало такое ее качество, как неутилитарность,
ненаправленность сообщения на внешний по отношению к ней
предмет. Приводимые в Гл. 1 определения специфики художест-
венной референции не просто учитывают нетранзитивность, а пара-
доксально определяют ее как «переходность» на самоё себя. Как
было отмечено выше, именно так определенная направленность –
это радикальная реакция на транзитивные поползновения при опи-
сании поэтической речи, к которым относятся не только упоминае-
мые в этом
параграфе поиски субстрата реалий, «авторских объяс-
нений» повествователя, но и рассмотренные в п. 5.1 опыты пере-
формулирования.
Нетранзитивность художественного предмета предполагали те
исследователи, которые так или иначе обосновывали приемлемость
имманентного анализа: представители «Новой критики» в Англии,
участники ОПОЯЗа, Л. В. Щерба, Б. А. Ларин, Г. О. Винокур,
А. М. Пешковский, представители
Пражского лингвистического
кружка (например, термин Я. Мукаржовского непереносные
смыслы – именно об этом признаке). М. М. Бахтин писал: «Произ-
ведение искусства является замкнутым в себе целым, каждый мо-
мент которого получает свое значение не в соотнесении с чем-либо
вне произведения находящимся (с природой, действительностью,

Очерки по теории художественной речи_
364
идеей), а лишь в самозначимой структуре самого целого. Это зна-
чит, что каждый элемент художественного произведения имеет
прежде всего чисто конструктивное значение в произведении как в
замкнутой самодовлеющей конструкции. Если же он что-либо вос-
производит, отражает, выражает или чему-нибудь подражает, то эти
его «трансгредиентные» функции подчинены его основному
конст-
руктивному заданию – заданию построить цельное и замкнутое в
себе произведение» [Бахтин 1998: 154–155]. Поэтому задачу иссле-
дователя М. М. Бахтин видел в том, чтобы установить конструктив-
ные функции элементов, создающих это конструктивное единство.
В обычном наборе текстовых категорий, работающих в ЛАХ-
Тах, явно не хватает такой категории, которая бы обобщала
принципиальные различия
утилитарного и художественного тек-
стов. Категория нетранзитивности, нам представляется, позволяет
упорядочить направленность анализа на художественный текст как
таковой.
В Гл. 1 мы отмечали, что Ж. Женетт выделил два типа литера-
туры: литературу вымысла и литературу слога, общей чертой кото-
рых является их нетранзитивный характер. Именно через понятие
нетранзитивности (не только поэзии,
в которой немыслим пересказ,
но и прозы, где «люди и предметы, к которым относятся эти выска-
зывания, не существуют вне их и отсылают нас к ним же бесконеч-
ным круговоротом») Ж. Женеттом объясняется эстетическое:
«…нетранзитивность делает текст самодостаточным, а его отноше-
ния с читателем – эстетическими, когда смысл воспринимается
только в
единстве с его формой» [Женетт 1998, II: 365]. Здесь необ-
ходимо сделать существенное уточнение: не нетранзитивность, а
замысел и само устройство текста делают этот текст самодостаточ-
ным. Нетранзитивность же коррелирует с этой самодостаточностью,
с тем качеством художественного мира, которое в Гл. 1 названо са-
моценностью (автореферентностью). Если самоценность – это ха-
рактеристика самодостаточного объекта в онтологическом
плане, то
нетранзитивность характеризует художественный мир в плане эпи-
стемологии. Нетранзитивность – это название этой самоценности
для учебных и учебно-аналитических практик
73
.
73
У обсуждаемого в п. 1.1 понятия автореферентность есть познавательная установка:
«Автореферентность художественного текста позволяет по-иному взглянуть на ту дейст-
вительность, которая представлена в тексте» [Чернейко 1999: 442].

Глава 6 Художественная модель и референтное пространство _
365
6.2. Художественная модель
Давно стало очевидным, что в лингвистическом исследовании
по причине ненаблюдаемости объекта не обойтись без модели – уп-
рощенного представления изучаемого объекта. Собственно, термин
художественная модель встречается в различных исследованиях
художественной речи. Применительно к эстетическому объекту он
обозначает модель действительности, модель мира: «Надо полагать,
что общая авторская модель мира, воплощаемая в тексте, не
суще-
ствует в полностью готовом виде до текста – она сама достраивает-
ся и уточняется в процессе построения частной модели (текста)
[Долинин 1985: 84]. Как видим, текст является частным случаем
общей авторской модели мира.
Термин тартусско-московской семиотической школы вторич-
ные моделирующие системы также подразумевал модель действи-
тельности
74
. Впрочем, говоря о необходимости таких понятий, ко-
торые дали бы основания свести к общему знаменателю вырази-
тельные средства разного калибра, А. К. Жолковский и
Ю. К. Щеглов понятие модели применяли к устройству художест-
венной вещи, то есть текста: «целью структурного описания при-
знается действующая модель вещи» [Жолков-
ский, Щеглов 1976: 77].
По-
иному использует термин художественная модель
Л. О. Чернейко, которая, будучи противником идеи «копирования»
действительности, считает, что если текст и отражает действитель-
ность, то действительность не бытия, а сознания художника [Чер-
нейко 1999: 444]. Мы совершенно согласны с исследователем в том,
что пониманию художественного текста как модели действительно-
сти препятствуют автореферентность и большая сложность
в срав-
нении с отражаемым объектом [Чернейко 1999: 443]. Только мы бы
назвали это не большей, а иной сложностью. Не приемля параллель
«художественный текст – модель действительности»,
74
М. Б. Храпченко, критиковавший теорию моделирования и структуралистов, их художе-
ственную модель понял тенденциозно и плоско, но при этом заметил верно: личность пи-
сателя (и вместе с ней все транзитивные действия, вроде объяснений произведения поли-
тическими пристрастиями автора) устранена из вторичной моделирующей структуры
[Храпченко 1974].

Очерки по теории художественной речи_
366
Л. О. Чернейко понятие «модель» применительно к художествен-
ному тексту допускает только как продукт метаязыковой деятель-
ности исследователя: «Задача исследователя художественного тек-
ста состоит в том, чтобы смоделировать и картину мира того или
иного художника, и систему его ценностей, и ту иллюзорную «вне-
языковую» действительность, которая вырастает из самого текста»
[Чернейко 1999: 445]. Итак, целью текстовых разысканий является
ценностно структурированная картина мира художника слова и од-
новременно моделирование иллюзорной действительности как про-
дукта чтения, то есть того, что мы называли выше референтным
пространством.
Сам термин «модель» требует распространения в родительном
падеже (модель чего). Но прежде чем давать прямое определение,
создадим для этого
условия апофатическим представлением, то есть
указанием на то, чем наша художественная модель не является. Ху-
дожественная модель – не художественная модель действительно-
сти, не сокращенное наименование положения «художественный
текст – модель мира», не модель художественного текста, она не
является элементом текста, не вменяется автору и не задается чита-
телю как «а на самом
деле здесь читать следует так…». В такой си-
туации «полного отрицания» мы уточним, что художественная мо-
дель – это модель художественного мира, созданного и пред-
ставленного автором в данном литературном тексте.
Любое научное определение должно содержать или как-то вы-
ражать и исследовательскую задачу, для которой или в связи с ко-
торой это определение дается. Поэтому далее мы постараемся пре-
жде чем эксплицировать, эту задачу обосновать. Наше понятие «ху-
дожественная модель» отличается от приведенных выше тем, что
она не демонстрирует устройство произведения, а упорядочива-
ет действия исследователя. Художественная модель – не то, что
следует выстраивать в процессе рассмотрения художественного
текста, а то, как
следует действовать, когда выстраивается рефе-
рентное пространство. То есть это понятие вводится, чтобы органи-
зовать процедуры упорядоченного восприятия текста и продуктив-
ного создания референтного пространства или упрощенно, в обыч-
ных терминах, чтобы из текста получилось произведение.
«Устройство» нашей художественной модели предельно про-
стое. Предваряя схематическое представление нашей художествен-
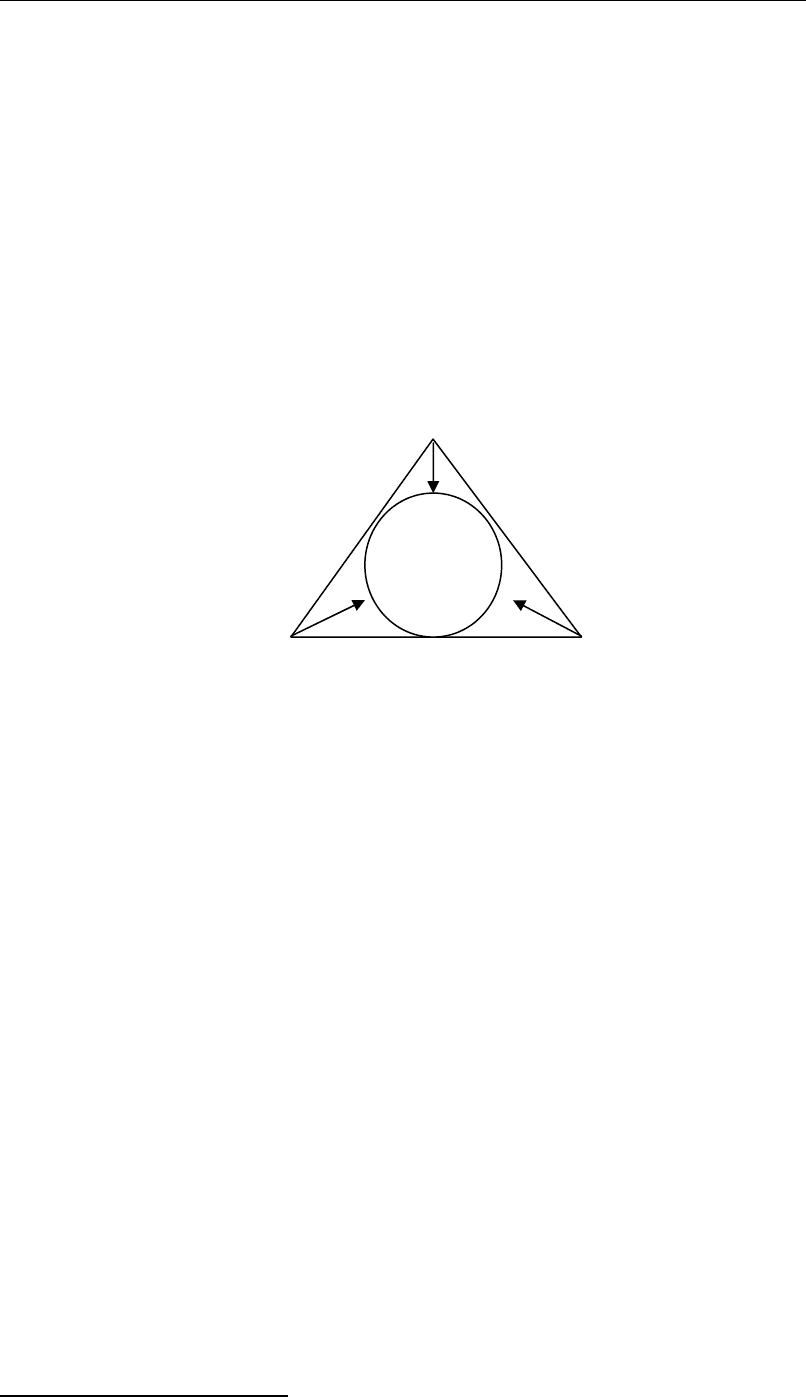
Глава 6 Художественная модель и референтное пространство _
367
ной модели, напомним, что любая модель, будучи инструментом
познания, намного проще, беднее своего объекта. Но здесь бед-
ность не то что не порок, а типологический признак: «…большая,
чем в объекте, степень абстракции может рассматриваться в качест-
ве недостатка применительно к научной теории только по недора-
зумению» [Лотман 1971: 281]. Компонентами этой модели
является
то, что в вышеприведенном тексте неоднократно упоминалось как
изображаемое. Это реалии, повествующий субъект и язык. Схе-
матически состав художественной модели выглядит так:
Схема 12
75
Повествующий субъект
Язык Реалии
Ввиду очевидности того, что в художественном тексте изобра-
жаются реалии, нет необходимости в аргументах в пользу реалий
как компонента художественной модели. Но есть необходимость в
аргументах в пользу повествователя и языка, поскольку не вполне
очевидно, что повествующий субъект и тем более этнический язык
изображаются. Кроме многочисленных указаний в работе по ходу
рассуждений, иллюстрированные аргументы приводились выше, в
п. 5.3 и п. 5.2. Ниже, уточняя понятие художественной модели, ко-
торое является средством утвердить представление об изображае-
мости всякого компонента, мы будем приводить основания без ил-
люстраций.
Повествующее лицо как компонент художественной модели
следует понимать, учитывая, что художественный текст – это не
только изображение реалий, но
и изображение наблюдающего эти
реалии, изображение состояния наблюдателя, придуманного авто-
ром для разглядывания реалий. Конечно, в лирической и эпической
моделях этот элемент имеет принципиальные отличия и в степени
проявления, и в способах воплощения, но само его наличие – типо-
75
Схема почти точно копирует ту, которую Л. А. Новиков в ноябре 2000 г., выслушав
комментарии автора, нарисовал на обороте проспекта представленной здесь работы.
ХТ

Очерки по теории художественной речи_
368
логический признак художественного мира. В лирике это явление
описывается как лирический герой, в прозе – как повествователь.
Повествующее лицо, как и все в художественной модели, обладает
творимостью, фиктивностью.
Повествующий субъект, обеспечивающий определенный более
или менее ощутимый ракурс, определенную пространственную, а
также социальную и культурную дистанцию и соответствующее
искривление изображаемого пространства, этими
самыми искрив-
лениями, специфической дистанцией и обнаруживает себя, изо-
браженного. Более или менее явно изображенным (определенного
типа) повествователем предопределяются многие особенности изо-
бражения реалий и языка: от композиционных элементов до специ-
фики речевой ткани. Например, в случае, если повествующее лицо
обозначено и является участником действия, ограничиваются ком-
позиционное разнообразие, свобода
смещения точки зрения, воз-
можности речевой характеристики персонажей и т. д. Речевые уси-
лия по созданию образа рассказчика подавляют другие художест-
венные структуры.
Кроме принципиальных различий повествующих субъектов по-
эзии и прозы, обнаруживается и специфика этого компонента худо-
жественной модели определенных литературных направлений. Так,
например, повествователь в постмодернистской литературе обычно
погружен
в тексты культуры. Еще один существенный признак по-
вествующего субъекта постмодернистской литературы – теоретиче-
ская активность (этот признак отметил Г. Г. Почепцов также и от-
носительно повествующего субъекта в литературе символизма).
Понимание языка как одного из компонентов художественной
модели, как изображаемого в художественном тексте наряду с реа-
лиями и повествователем отличается
от установки в исследовани-
ях вторичных моделирующих систем, где язык рассматривался как
создаваемый ad hoc и изучался как код, знание которого позволяет
читать текст. (В допущении, что автор как бы создает язык по слу-
чаю написания произведения трудно устранить предшествование
языка речи). Изображаемый язык – это язык, не созданный к слу-
чаю, а создаваемый
в случае. Он не создается до, а изображается
одновременно с иными элементами художественного мира. Соглас-
но положению о типах референтов художественной речи и об их
признаках, язык изображенный – творимый, фиктивный и т. д. В

Глава 6 Художественная модель и референтное пространство _
369
воссоздаваемом в пределах референтного пространства языке как
особом референте благодаря остраннению, посредством многочис-
ленных образов, являются видимыми те стороны этнического язы-
ка, которые обычно читателем узнаваемы и потому незаметны.
Принято считать, что писатель использует этнический язык и на
основе его создает иной, специфический, неповторимый, которым и
представляется его неповторимый художественный
мир. Согласно
функционально-прагматическому пониманию языковой деятельно-
сти индивидуальный язык первичен по отношению к языку соци-
альному, писатель пользуется своим индивидуальным языком для
представления изображения художественного мира, частью которо-
го является этнический язык. Поэтому объектом изображения явля-
ется язык этнический: более или менее «реалистически», или кари-
катурно, или фантастически, как и
весь иной художественный мир,
а авторский язык является средством изображения.
Равноправность языка как изображаемого компонента опреде-
ляется тем, что имя реалии является в художественном мире рав-
ноценным признаком этой реалии и именно этим признаком часто
мотивируется выбор других «участников» вербализуемой ситуации.
Приведенная в п. 3.3.1 формула Р. Якобсона, согласно которой по-
этическая функция «…проецирует принцип эквивалентности с оси
селекции на ось комбинации» [Якобсон 1975: 204] или по-иному:
«…поэзия, налагая сходство на смежность, возводит эквивалент-
ность в принцип построения сочетаний» [Якобсон 1983б: 467] мо-
жет быть прочитана как принцип изображения языка. Положение
Р. Барта (упоминаемое выше в п. 5.3) о том, что автор в
силу ци-
татности каждого слова несамостоятелен в создании текста
[Барт 1989: 389] также можно развить (в духе Барта же) в аспекте
изображаемого языка. Согласно формуле Р. Якобсона синтагмати-
ческое развитие определяется свойствами знака, а не свойствами
представляемой реалии, и если художественная реалия создается по
образу, обеспечиваемому определенной вербальной последователь-
ностью, а каждый
конкретный вербальный знак обычно не имеет
конкретного авторства, то такая реалия не просто плод воображе-
ния автора, а продукт творчества народа-языкотворца.
Отличия прозы и лирики, иногда столь неявные и немногочис-
ленные, могут быть осмыслены с точки зрения проявления выде-
ленных компонентов художественной модели. В лирических тек-

Очерки по теории художественной речи_
370
стах, как было видно из приводимых иллюстраций, «значитель-
ность» языка как компонента в целом выше, чем в прозе, изобра-
женное повествующее лицо в прозе, наоборот, более значительный
компонент, чем в лирике. На это обратил внимание Б. Пастернак в
статье «Несколько положений»:
«…Не отделимые друг от друга поэзия и проза – полюса
.
По врожденному слуху, поэзия подыскивает мелодию природы
среди шума словаря и, подобрав ее, как подбирают мотив, предает-
ся затем импровизации на эту тему.
Чутьем, по своей одухотворенности, проза ищет и находит че-
ловека в категории речи, а если век его лишен, то на память воссоз-
дает его, и подкидывает. И
потом, для блага человечества, делает
вид, что нашла его среди современности. Начала эти не существуют
отдельно…» [Пастернак 1985, II: 279].
В этом фрагменте, лапидарно формулирующем особенности
поэтики самого Б. Пастернака, точно подмечены принципиальные
различия приоритетов изображения: «мелодия природы среди шума
словаря» и «человек в категории речи». В изобразительном отноше-
нии в прозе доминируют повествователь
, а в поэзии – язык .
Нужно заметить, что нашу трехкомпонентную схему художест-
венной модели обусловила типологическая особенность литерату-
ры ХХ в. – рефлексия над языком. Филологичность авторов выра-
зилась в появлении произведений, речевая ткань которых сущест-
венно отличалась от практической речи (включая и различные фор-
мы зауми). Преодоление материала относилось не только
к повест-
вующего субъекту, но и к языку. Результатом преодоления явились
неповторимые индивидуальные языки Велимира Хлебникова,
В. Маяковского, А. Платонова, О. Мандельштама. Рефлексия свой-
ственна в значительной мере и эмигрантской литературе
(А. Ремизов, И. Шмелев, В. Набоков). С. Гандлевский верно заме-
тил, что эмиграция прививает бережность к языку (он под
угрозой
забывания) и оделяет дополнительным зрением: «…взглядом на
родной язык, как на иностранный, на живой, как на мертвый»
[Гандлевский 1996: 198].
Мы усматриваем в литературе ХХ в. в аспекте языка как ком-
понента художественной модели две совершенно противоположные
тенденции. Суть различий состоит в следующем: в одних случаях
объектом изображения является собственно этнический
язык, в

Глава 6 Художественная модель и референтное пространство _
371
других случаях объектом изображения становятся прецеденты реа-
лизации языка, то есть речь, художественные модели с таким ком-
понентом называются интертекстуальными, поэтому в этом случае
рассматриваемый компонент точнее было бы именовать текст. Ра-
зумеется, противоположные тенденции – включение языка / речи в
качестве объекта художественного моделирования – вполне могут
сосуществовать в пределах конкретных текстов.
Но первое (изо-
бражаемый язык) более свойственно литературе, называемой мо-
дернистской, а второе (изображаемая речь) – литературе постмо-
дернистской.
Как видно из предыдущих глав, изображение языка обнаружи-
вают не только различного рода металогии, окказиональные слова и
формы, нарушения сочетаемости, «восстанавливающие» внутрен-
нюю форму слова звуковые метафоры, но и обилие в речевой ткани
разного рода повторов, усиливающих когезию текста. Такого типа
изображение обеспечивается и разного рода экземплификациями.
Можно сказать, что модернистское преодоление материала (языка)
состоит в освобождении слова от узуальности.
В постмодернистской литературе наблюдается совершенно
противоположная тенденция: ослабевает свойственное модернизму
стремление к преодолению материала и, в целом, отчуждению от
речи (в том числе
и практической). В случаях, если компонентом
художественной модели становится речь, текст, принципиально ме-
няется источник приращения семантики слова. Гиперсемантичность
слова модернистского текста обусловлена внутритекстовыми подо-
биями, а в тексте постмодернистском – аллюзиями, внешнетексто-
выми связями. Если повторы усиливают конструкцию текста, то ал-
люзивность, в известной степени, способствует деконструкции тек-
ста.
И те
и другие тексты требует не просто пассивного потребите-
ля, но активного со-автора. Читатель, воспринимающий текст с изо-
бражаемым языком, отыскивает текстовые структуры. Аллюзив-
ность же, тревожащая ментальные пространства читателя, требует
иного рода соучастия; воспроизводимые фрагменты провоцируют
поиск источника цитаты, распознание голоса автора и требуют ус-
тановления функции цитаты, ее
связи с первичной функцией еди-
ницы.
