Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей
Подождите немного. Документ загружается.

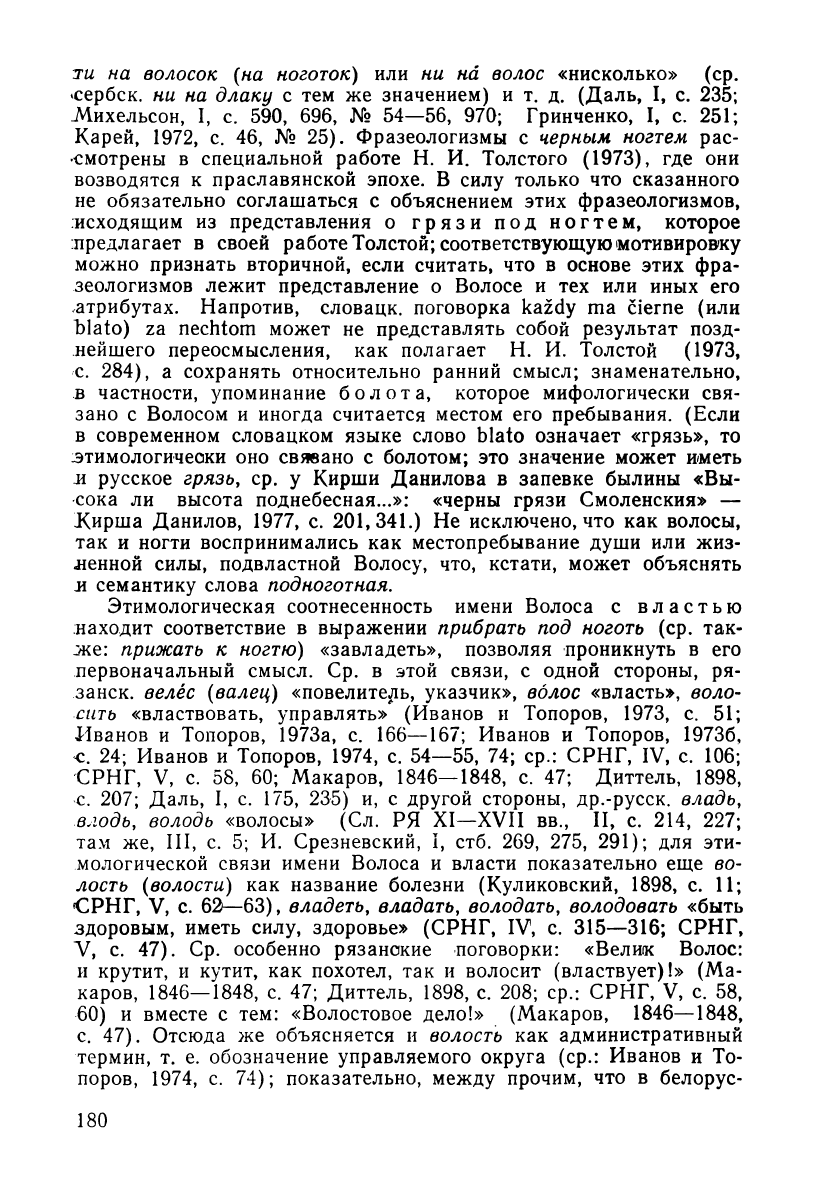
ти на волосок (на ноготок) или ни на волос «нисколько» (ср.
<сербск. ни на длаку с тем же значением) и т. д. (Даль, I, с. 235;
31ихельсон, I, с. 590, 696, № 54—56, 970; Гринченко, I, с. 251;
Карей, 1972, с. 46, № 25). Фразеологизмы с черным ногтем рас-
смотрены в специальной работе Н. И. Толстого (1973), где они
возводятся к праславянской эпохе. В силу только что сказанного
не обязательно соглашаться с объяснением этих фразеологизмов,
исходящим из представления о грязи под ногтем, которое
предлагает в своей работе Толстой; соответствующую мотивировку
можно признать вторичной, если считать, что в основе этих фра-
зеологизмов лежит представление о Волосе и тех или иных его
атрибутах. Напротив, словацк. поговорка kazdy ma cierne (или
blato) za nechtom может не представлять собой результат позд-
нейшего переосмысления, как полагает Н. И. Толстой
(1973,
с. 284), а сохранять относительно ранний смысл; знаменательно,
в частности, упоминание болота, которое мифологически свя-
зано с Волосом и иногда считается местом его пребывания. (Если
в современном словацком языке слово blato означает «грязь», то
этимологически оно свявано с болотом; это значение может иметь
л русское грязь, ср. у Кирши Данилова в запевке былины «Вы-
сока ли высота поднебесная...»: «черны грязи Смоленския» —
Кирша Данилов, 1977, с 201,341.) Не исключено, что как волосы,
так и ногти воспринимались как местопребывание души или жиз-
ненной силы, подвластной Волосу, что, кстати, может объяснять
л семантику слова подноготная.
Этимологическая соотнесенность имени Волоса с властью
находит соответствие в выражении прибрать под ноготь (ср. так-
же: прижать к ногтю) «завладеть», позволяя проникнуть в его
первоначальный смысл. Ср. в этой связи, с одной стороны, ря-
занск. велёс (валец) «повелитель, указчик», волос «власть», воло-
сить «властвовать, управлять» (Иванов и Топоров, 1973, с. 51;
Иванов и Топоров, 1973а, с. 166—167; Иванов и Топоров, 19736,
с. 24; Иванов и Топоров, 1974, с. 54—55, 74; ср.: СРНГ, IV, с. 106;
СРНГ, V, с. 58, 60; Макаров, 1846—1848, с. 47; Диттель, 1898,
с. 207; Даль, I, с. 175, 235) и, с другой стороны, др.-русск. владь,
влодь,
володь «волосы» (Сл. РЯ XI—XVII вв., II, с. 214, 227;
там же, III, с. 5; И. Срезневский, I, стб. 269, 275, 291); для эти-
мологической связи имени Волоса и власти показательно еще во-
лость (волости) как название болезни (Куликовский, 1898, с. 11;
СРНГ, V, с. 62—63), владеть, владать, володать, володовать «быть
здоровым, иметь силу, здоровье» (СРНГ, IV, с. 315—316; СРНГ,
V, с. 47). Ср. особенно рязанские поговорки: «Велик Волос:
и крутит, и кутит, как похотел, так и волосит (властвует)!» (Ма-
каров, 1846—1848, с. 47; Диттель, 1898, с. 208; ср.: СРНГ, V, с. 58,
60) и вместе с тем: «Волостовое дело!» (Макаров, 1846—1848,
с. 47). Отсюда же объясняется и волость как административный
термин, т. е. обозначение управляемого округа (ср.: Иванов и То-
поров, 1974, с. 74); показательно, между прочим, что в белорус-
180
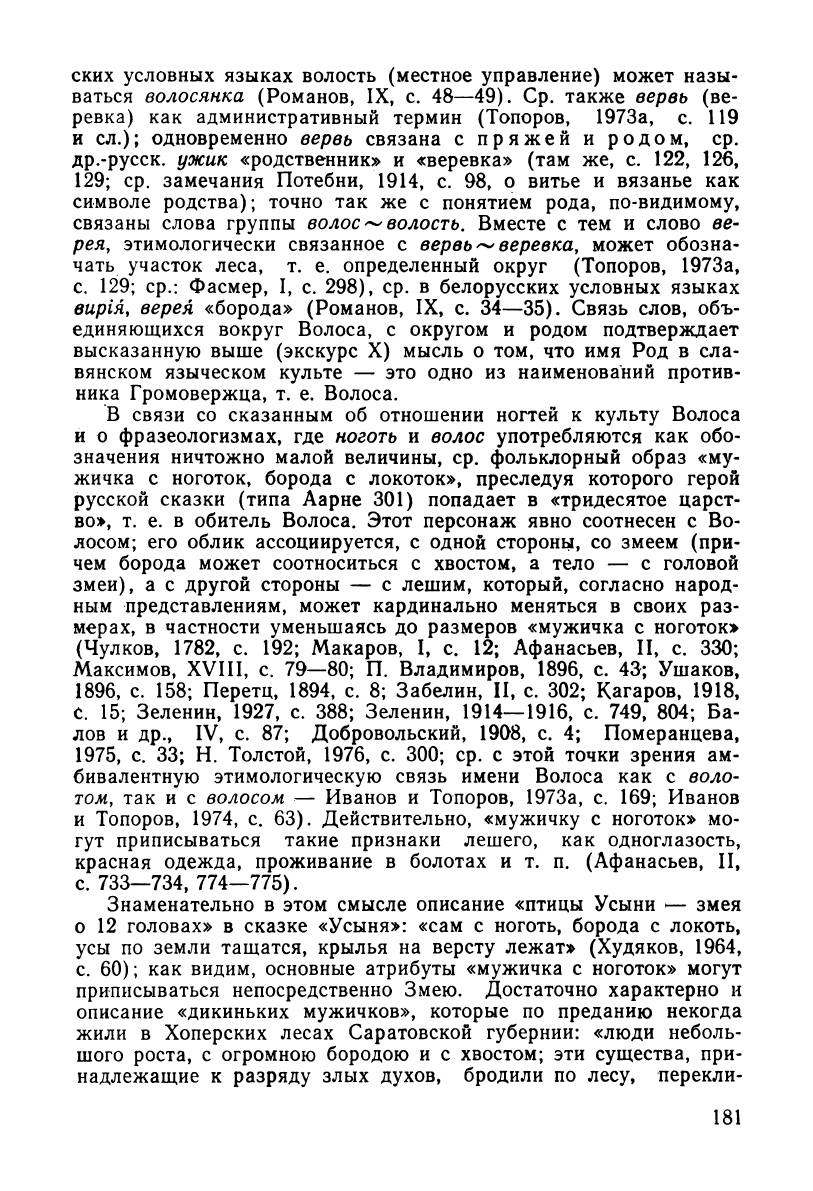
ских условных языках волость (местное управление) может назы-
ваться волосянка (Романов, IX, с. 48—49). Ср. также вервь (ве-
ревка) как административный термин (Топоров, 1973а, с. 119
и сл.); одновременно вервь связана с пряжей и родом, ср.
др.-русск. ужик «родственник» и «веревка» (там же, с. 122, 126,
129;
ср. замечания Потебни, 1914, с. 98, о витье и вязанье как
символе родства); точно так же с понятием рода, по-видимому,
связаны слова группы волос ~ волость. Вместе с тем и слово ее-
рея,
этимологически связанное с вервь ~ веревка, может обозна-
чать участок леса, т. е. определенный округ (Топоров, 1973а,
с. 129; ср.: Фасмер, I, с. 298), ср. в белорусских условных языках
виры,
верея «борода» (Романов, IX, с. 34—35). Связь слов, объ-
единяющихся вокруг Волоса, с округом и родом подтверждает
высказанную выше (экскурс X) мысль о том, что имя Род в сла-
вянском языческом культе — это одно из наименований против-
ника Громовержца, т. е. Волоса.
В связи со сказанным об отношении ногтей к культу Волоса
и о фразеологизмах, где ноготь и волос употребляются как обо-
значения ничтожно малой величины, ср. фольклорный образ «му-
жичка с ноготок, борода с локоток», преследуя которого герой
русской сказки (типа Аарне 301) попадает в «тридесятое царст-
во»,
т. е. в обитель Волоса. Этот персонаж явно соотнесен с Во-
лосом; его облик ассоциируется, с одной стороны, со змеем (при-
чем борода может соотноситься с хвостом, а тело — с головой
змеи),
а с другой стороны — с лешим, который, согласно народ-
ным представлениям, может кардинально меняться в своих раз-
мерах, в частности уменьшаясь до размеров «мужичка с ноготок»
(Чулков, 1782, с. 192; Макаров, I, с. 12; Афанасьев, II, с. 330;
Максимов, XVIII, с. 79—80; П. Владимиров, 1896, с. 43; Ушаков,
1896,
с. 158; Перетц, 1894, с. 8; Забелин, II, с. 302; Кагаров, 1918,
С 15; Зеленин, 1927, с. 388; Зеленин, 1914—1916, с. 749, 804; Ба-
лов и др., IV, с. 87; Добровольский, 1908, с. 4; Померанцева,
1975,
с. 33; Н. Толстой, 1976, с. 300; ср. с этой точки зрения ам-
бивалентную этимологическую связь имени Волоса как с воло-
том,
так и с волосом — Иванов и Топоров, 1973а, с. 169; Иванов
и Топоров, 1974, с. 63). Действительно, «мужичку с ноготок» мо-
гут приписываться такие признаки лешего, как одноглазость,
красная одежда, проживание в болотах и т. п. (Афанасьев, II,
с. 733—734, 774—775).
Знаменательно в этом смысле описание «птицы Усыни •— змея
о 12 головах» в сказке «Усыня»: «сам с ноготь, борода с локоть,
усы по земли тащатся, крылья на версту лежат» (Худяков, 1964,
с. 60); как видим, основные атрибуты «мужичка с ноготок» могут
приписываться непосредственно Змею. Достаточно характерно и
описание «дикиньких мужичков», которые по преданию некогда
жили в Хоперских лесах Саратовской губернии: «люди неболь-
шого роста, с огромною бородою и с хвостом; эти существа, при-
надлежащие к разряду злых духов, бродили по лесу, перекли-
181
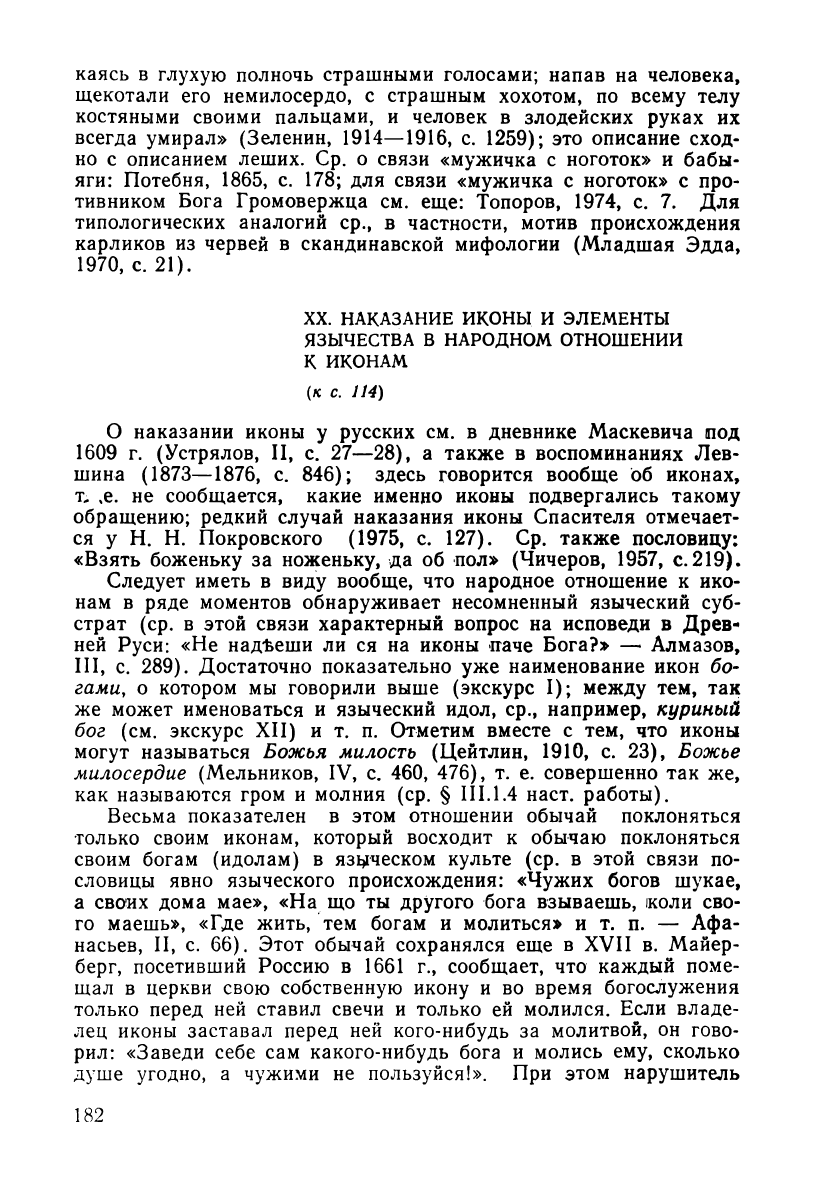
каясь в глухую полночь страшными голосами; напав на человека,
щекотали его немилосердо, с страшным хохотом, по всему телу
костяными своими пальцами, и человек в злодейских руках их
всегда умирал» (Зеленин, 1914—1916, с. 1259); это описание сход-
но с описанием леших. Ср. о связи «мужичка с ноготок» и бабы-
яги:
Потебня, 1865, с. 178; для связи «мужичка с ноготок» с про-
тивником Бога Громовержца см. еще: Топоров, 1974, с. 7. Для
типологических аналогий ср., в частности, мотив происхождения
карликов из червей в скандинавской мифологии (Младшая Эдда,
1970,
с. 21).
XX. НАКАЗАНИЕ ИКОНЫ И ЭЛЕМЕНТЫ
ЯЗЫЧЕСТВА В НАРОДНОМ ОТНОШЕНИИ
К ИКОНАМ
(к с. 114)
О наказании иконы у русских см. в дневнике Маскевича под
1609 г. (Устрялов, II, с. 27—28), а также в воспоминаниях Лев-
шина (1873—1876, с. 846); здесь говорится вообще об иконах,
ъ ,е. не сообщается, какие именно иконы подвергались такому
обращению; редкий случай наказания иконы Спасителя отмечает-
ся у Н. Н. Покровского (1975, с. 127). Ср. также пословицу:
«Взять боженьку за ноженьку, да об пол» (Чичеров, 1957, с.219).
Следует иметь в виду вообще, что народное отношение к ико-
нам в ряде моментов обнаруживает несомненный языческий суб-
страт (ср. в этой связи характерный вопрос на исповеди в Древ-
ней Руси: «Не надЪеши ли ся на иконы паче Бога?» — Алмазов,
III,
с. 289). Достаточно показательно уже наименование икон бо-
гами, о котором мы говорили выше (экскурс I); между тем, так
же может именоваться и языческий идол, ср., например, куриный
бог (см. экскурс XII) и т. п. Отметим вместе с тем, что иконы
могут называться Божья милость (Цейтлин, 1910, с. 23), Божье
милосердие (Мельников, IV, с. 460, 476), т. е. совершенно так же,
как называются гром и молния (ср. § III.1.4 наст, работы).
Весьма показателен в этом отношении обычай поклоняться
только своим иконам, который восходит к обычаю поклоняться
своим богам (идолам) в языческом культе (ср. в этой связи по-
словицы явно языческого происхождения: «Чужих богов шукае,
а своих дома мае», «На що ты другого бога взываешь, коли сво-
го маешь», «Где жить, тем богам и молиться» и т. п. — Афа-
насьев, II, с. 66). Этот обычай сохранялся еще в XVII в. Майер-
берг, посетивший Россию в 1661 г., сообщает, что каждый поме-
щал в церкви свою собственную икону и во время богослужения
только перед ней ставил свечи и только ей молился. Если владе-
лец иконы заставал перед ней кого-нибудь за молитвой, он гово-
рил: «Заведи себе сам какого-нибудь бога и молись ему, сколько
душе угодно, а чужими не пользуйся!». При этом нарушитель
182
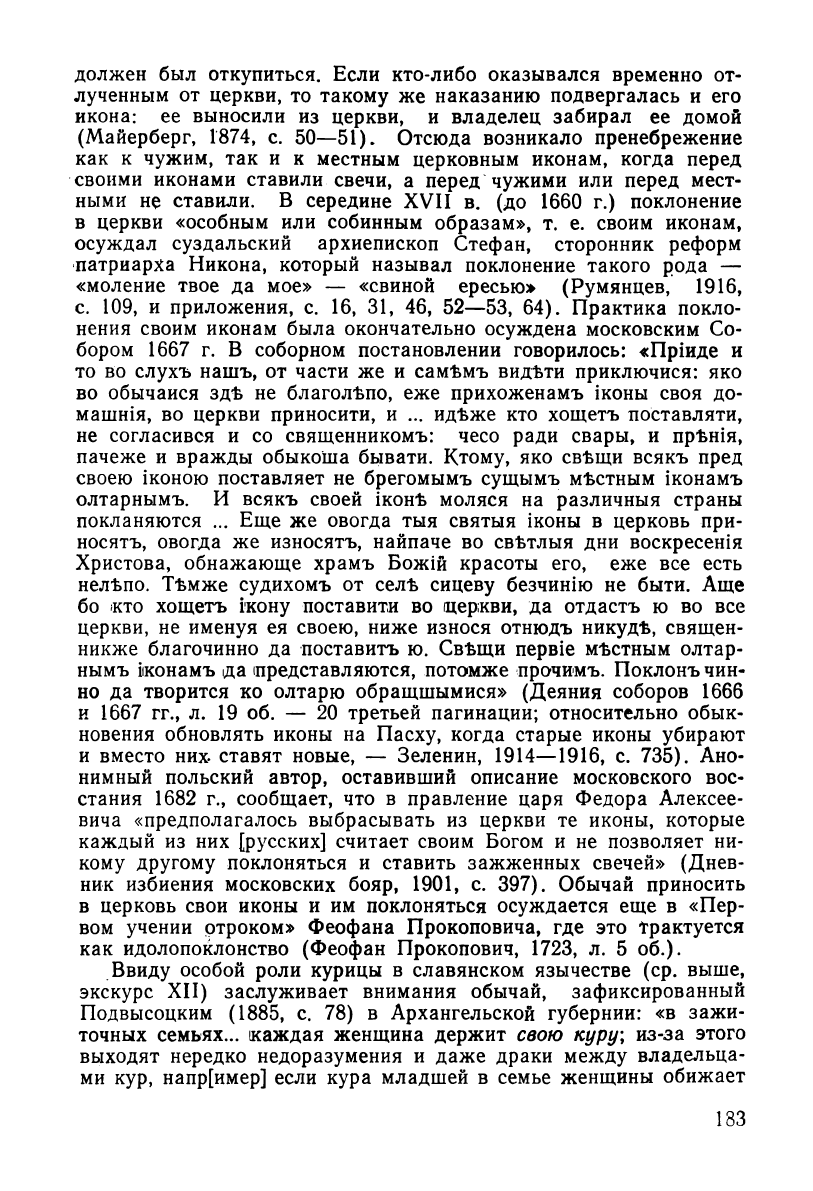
должен был откупиться. Если кто-либо оказывался временно от-
лученным от церкви, то такому же наказанию подвергалась и его
икона: ее выносили из церкви, и владелец забирал ее домой
(Майерберг, 1874, с. 50—51). Отсюда возникало пренебрежение
как к чужим, так и к местным церковным иконам, когда перед
своими иконами ставили свечи, а перед чужими или перед мест-
ными не ставили. В середине XVII в. (до 1660 г.) поклонение
в церкви «особным или собинным образам», т. е. своим иконам,
осуждал суздальский архиепископ Стефан, сторонник реформ
патриарха Никона, который называл поклонение такого рода —
«моление твое да мое» — «свиной ересью» (Румянцев, 1916,
с. 109, и приложения, с. 16, 31, 46,
52—53,
64). Практика покло-
нения своим иконам была окончательно осуждена московским Со-
бором 1667 г. В соборном постановлении говорилось: «Пршде и
то во слухъ нашъ, от части же и самЪмъ видЪти приключися: яко
во обычаися здЪ не благолЪпо, еже прихоженамъ жоны своя до-
машшя, во церкви приносити, и ... идЪже кто хощетъ поставляти,
не согласився и со священникомъ: чесо ради свары, и прЪшя,
пачеже и вражды обыкоша бывати. Ктому, яко свЪщи всякъ пред
своею
JKOHOIO
поставляет не брегомымъ сущымъ местным жонамъ
олтарнымъ. И всякъ своей шонЪ моляся на различныя страны
покланяются ... Еще же овогда тыя святыя тоны в церковь при-
носятъ, овогда же износятъ, наипаче во свЪтлыя дни воскресешя
Христова, обнажающе храмъ Бож1й красоты его, еже все есть
нелЪпо. ТЪмже судихомъ от сел-Ь сицеву безчинш не быти. Аще
бо кто хощетъ гкону поставити во церкви, да отдастъ ю во все
церкви, не именуя ея своею, ниже износя отнюдъ никудЪ, священ-
никже благочинно да поставить ю. СвЪщи nepeie местным олтар-
нымъ жонамъ да (представляются, потомже прочимъ. Поклонъ чин-
но да творится ко олтарю обращшымися» (Деяния соборов 1666
и 1667 гг., л. 19 об. — 20 третьей пагинации; относительно обык-
новения обновлять иконы на Пасху, когда старые иконы убирают
и вместо них- ставят новые, — Зеленин, 1914—1916, с. 735). Ано-
нимный польский автор, оставивший описание московского вос-
стания 1682 г., сообщает, что в правление царя Федора Алексее-
вича «предполагалось выбрасывать из церкви те иконы, которые
каждый из них [русских] считает своим Богом и не позволяет ни-
кому другому поклоняться и ставить зажженных свечей» (Днев-
ник избиения московских бояр, 1901, с. 397). Обычай приносить
в церковь свои иконы и им поклоняться осуждается еще в «Пер-
вом учении отроком» Феофана Прокоповича, где это трактуется
как идолопоклонство (Феофан Прокопович, 1723, л. 5 об.).
Ввиду особой роли курицы в славянском язычестве (ср. выше,
экскурс XII) заслуживает внимания обычай, зафиксированный
Подвысоцким (1885, с. 78) в Архангельской губернии: «в зажи-
точных семьях... каждая женщина держит свою куру; из-за этого
выходят нередко недоразумения и даже драки между владельца-
ми кур, напр[имер] если кура младшей в семье женщины обижает
183
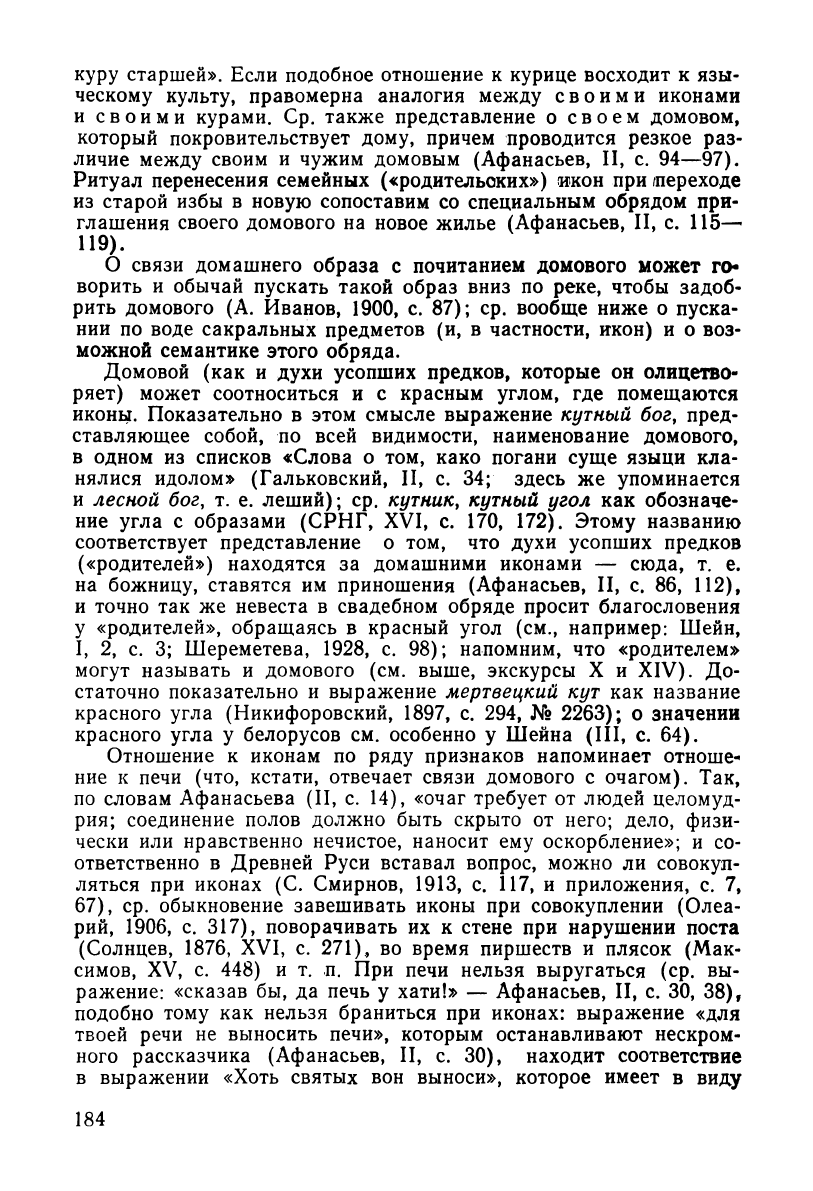
куру старшей». Если подобное отношение к курице восходит к язы-
ческому культу, правомерна аналогия между своими иконами
и своими курами. Ср. также представление о своем домовом,
который покровительствует дому, причем проводится резкое раз-
личие между своим и чужим домовым (Афанасьев, II, с. 94—97).
Ритуал перенесения семейных («родительских») икон при /переходе
из старой избы в новую сопоставим со специальным обрядом при-
глашения своего домового на новое жилье (Афанасьев, II, с. 115—
119).
О связи домашнего образа с почитанием домового может го-
ворить и обычай пускать такой образ вниз по реке, чтобы задоб-
рить домового (А. Иванов, 1900, с. 87); ср. вообще ниже о пуска-
нии по воде сакральных предметов (и, в частности, икон) и о воз-
можной семантике этого обряда.
Домовой (как и духи усопших предков, которые он олицетво-
ряет) может соотноситься и с красным углом, где помещаются
иконы. Показательно в этом смысле выражение кутный бог, пред-
ставляющее собой, по всей видимости, наименование домового,
в одном из списков «Слова о том, како погани суще языци кла-
нялися идолом» (Гальковский, II, с. 34; здесь же упоминается
и лесной бог, т. е. леший); ср. кутник, кутный угол как обозначе-
ние угла с образами (СРНГ, XVI, с. 170, 172). Этому названию
соответствует представление о том, что духи усопших предков
(«родителей») находятся за домашними иконами — сюда, т. е.
на божницу, ставятся им приношения (Афанасьев, II, с 86, 112),
и точно так же невеста в свадебном обряде просит благословения
у «родителей», обращаясь в красный угол (см., например: Шейн,
I, 2, с. 3; Шереметева, 1928, с. 98); напомним, что «родителем»
могут называть и домового (см. выше, экскурсы X и XIV). До-
статочно показательно и выражение мертвецкий кут как название
красного угла (Никифоровский, 1897, с. 294, № 2263); о значении
красного угла у белорусов см. особенно у Шейна (III, с. 64).
Отношение к иконам по ряду признаков напоминает отноше-
ние к печи (что, кстати, отвечает связи домового с очагом). Так,
по словам Афанасьева (II, с. 14), «очаг требует от людей целомуд-
рия; соединение полов должно быть скрыто от него; дело, физи-
чески или нравственно нечистое, наносит ему оскорбление»; и со-
ответственно в Древней Руси вставал вопрос, можно ли совокуп-
ляться при иконах (С. Смирнов, 1913, с. 117, и приложения, с. 7,
67),
ср. обыкновение завешивать иконы при совокуплении (Олеа-
рий, 1906, с. 317), поворачивать их к стене при нарушении поста
(Солнцев, 1876, XVI, с. 271), во время пиршеств и плясок (Мак-
симов, XV, с. 448) и т. л. При печи нельзя выругаться (ср. вы-
ражение: «сказав бы, да печь у хати!» — Афанасьев, II, с. 30, 38)
f
подобно тому как нельзя браниться при иконах: выражение «для
твоей речи не выносить печи», которым останавливают нескром-
ного рассказчика (Афанасьев, II, с. 30), находит соответствие
в выражении «Хоть святых вон выноси», которое имеет в виду
184
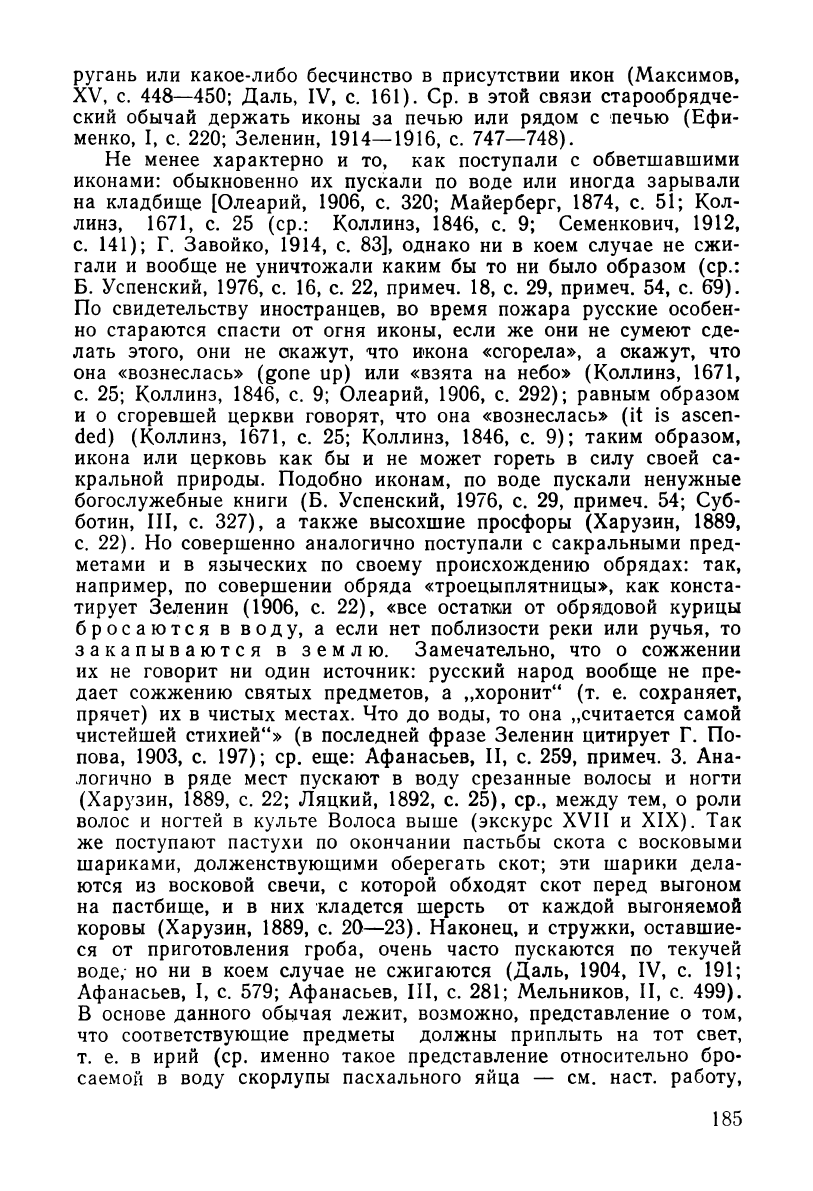
ругань или какое-либо бесчинство в присутствии икон (Максимов,
XV, с. 448—450; Даль, IV, с. 161). Ср. в этой связи старообрядче-
ский обычай держать иконы за печью или рядом с печью (Ефи-
менко, I, с. 220; Зеленин, 1914—1916, с. 747—748).
Не менее характерно и то, как поступали с обветшавшими
иконами: обыкновенно их пускали по воде или иногда зарывали
на кладбище [Олеарий, 1906, с. 320; Майерберг, 1874, с. 51; Кол-
линз,
1671, с. 25 (ср.: Коллинз, 1846, с. 9; Семенкович, 1912,
с. 141); Г. Завойко, 1914, с. 83], однако ни в коем случае не сжи-
гали и вообще не уничтожали каким бы то ни было образом (ср.:
Б.
Успенский, 1976, с. 16, с. 22, примеч. 18, с. 29, примеч. 54, с. 69).
По свидетельству иностранцев, во время пожара русские особен-
но стараются спасти от огня иконы, если же они не сумеют сде-
лать этого, они не окажут, что икона «сгорела», а окажут, что
она «вознеслась» (gone up) или «взята на небо» (Коллинз, 1671,
с. 25; Коллинз, 1846, с. 9; Олеарий, 1906, с. 292); равным образом
и о сгоревшей церкви говорят, что она «вознеслась» (it is ascen-
ded) (Коллинз, 1671, с. 25; Коллинз, 1846, с. 9); таким образом,
икона или церковь как бы и не может гореть в силу своей са-
кральной природы. Подобно иконам, по воде пускали ненужные
богослужебные книги (Б. Успенский, 1976, с. 29, примеч. 54; Суб-
ботин, III, с. 327), а также высохшие просфоры (Харузин, 1889,
с. 22). Но совершенно аналогично поступали с сакральными пред-
метами и в языческих по своему происхождению обрядах: так,
например, по совершении обряда «троецыплятницы», как конста-
тирует Зеленин (1906, с. 22), «все остатки от обрядовой курицы
бросаются в воду, а если нет поблизости реки или ручья, то
закапываются в землю. Замечательно, что о сожжении
их не говорит ни один источник: русский народ вообще не пре-
дает сожжению святых предметов, а „хоронит" (т. е. сохраняет,
прячет) их в чистых местах. Что до воды, то она „считается самой
чистейшей стихией"» (в последней фразе Зеленин цитирует Г. По-
пова, 1903, с. 197); ср. еще: Афанасьев, II, с. 259, примеч. 3. Ана-
логично в ряде мест пускают в воду срезанные волосы и ногти
(Харузин, 1889, с. 22; Ляцкий, 1892, с. 25), ср., между тем, о роли
волос и ногтей в культе Волоса выше (экскурс XVII и XIX). Так
же поступают пастухи по окончании пастьбы скота с восковыми
шариками, долженствующими оберегать скот; эти шарики дела-
ются из восковой свечи, с которой обходят скот перед выгоном
на пастбище, и в них кладется шерсть от каждой выгоняемой
коровы (Харузин, 1889, с. 20—23). Наконец, и стружки, оставшие-
ся от приготовления гроба, очень часто пускаются по текучей
воде,
но ни в коем случае не сжигаются (Даль, 1904, IV, с. 191;
Афанасьев, I, с. 579; Афанасьев, III, с. 281; Мельников, И, с. 499).
В основе данного обычая лежит, возможно, представление о том,
что соответствующие предметы должны приплыть на тот свет,
т. е. в ирий (ср. именно такое представление относительно бро-
саемой в воду скорлупы пасхального яйца — см. наст, работу,
185
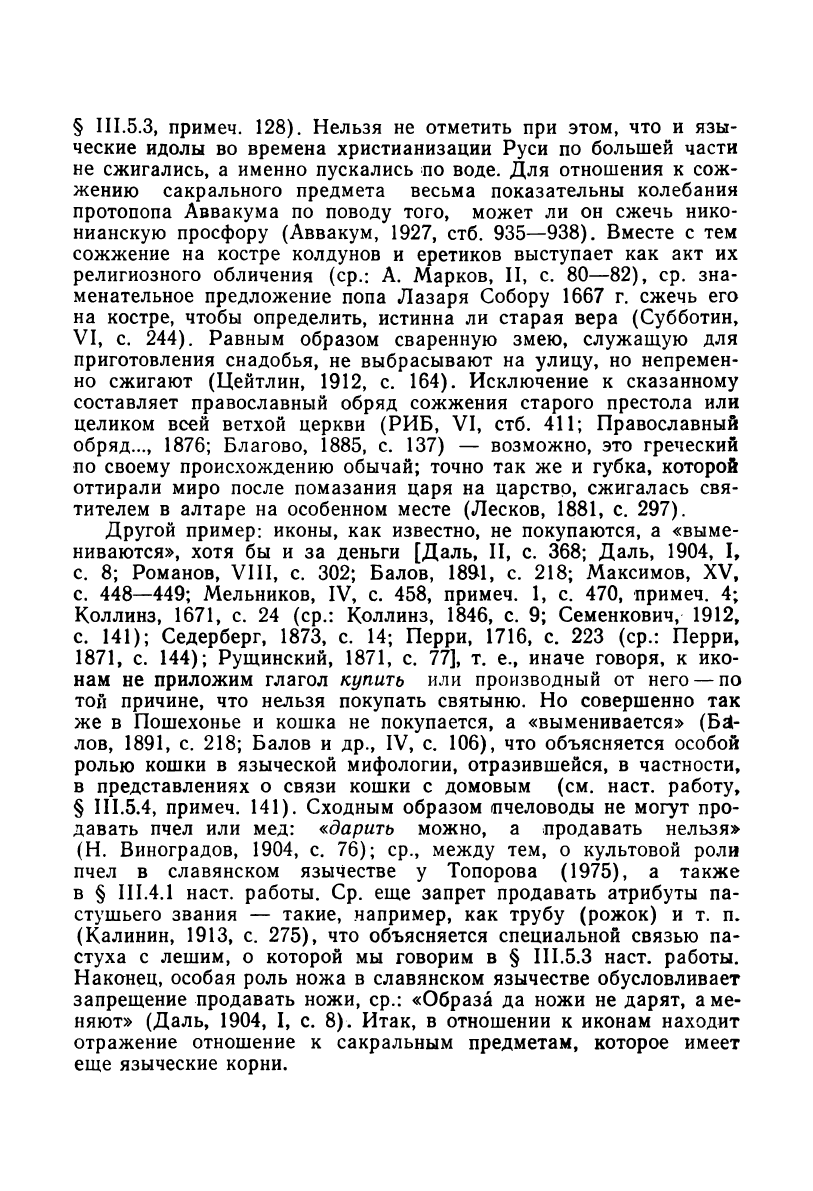
§
III.5.3,
примеч. 128). Нельзя не отметить при этом, что и язы-
ческие идолы во времена христианизации Руси по большей части
не сжигались, а именно пускались по воде. Для отношения к сож-
жению сакрального предмета весьма показательны колебания
протопопа Аввакума по поводу того, может ли он сжечь нико-
нианскую просфору (Аввакум, 1927, стб. 935—938). Вместе с тем
сожжение на костре колдунов и еретиков выступает как акт их
религиозного обличения (ср.: А. Марков, II, с. 80—82), ср. зна-
менательное предложение попа Лазаря Собору 1667 г. сжечь его
на костре, чтобы определить, истинна ли старая вера (Субботин,
VI,
с. 244). Равным образом сваренную змею, служащую для
приготовления снадобья, не выбрасывают на улицу, но непремен-
но сжигают (Цейтлин, 1912, с. 164). Исключение к сказанному
составляет православный обряд сожжения старого престола или
целиком всей ветхой церкви (РИБ, VI, стб. 411; Православный
обряд..., 1876; Благово, 1885, с. 137) — возможно, это греческий
по своему происхождению обычай; точно так же и губка, которой
оттирали миро после помазания царя на царство, сжигалась свя-
тителем в алтаре на особенном месте (Лесков, 1881, с. 297).
Другой пример: иконы, как известно, не покупаются, а «выме-
ниваются», хотя бы и за деньги [Даль, II, с. 368; Даль, 1904, I,
с. 8; Романов, VIII, с. 302; Балов, 1891, с. 218; Максимов, XV,
с. 448—449; Мельников, IV, с. 458, примеч. 1, с. 470, примеч. 4;
Коллинз, 1671, с. 24 (ср.: Коллинз, 1846, с. 9; Семенкович, 1912,
с. 141); Седерберг, 1873, с. 14; Перри, 1716, с. 223 (ср.: Перри,
1871,
с. 144); Рущинский, 1871, с. 77], т. е., иначе говоря, к ико-
нам не приложим глагол купить или производный от него — по
той причине, что нельзя покупать святыню. Но совершенно так
же в Пошехонье и кошка не покупается, а «выменивается» (Ба-
лов,
1891, с. 218; Балов и др., IV, с. 106), что объясняется особой
ролью кошки в языческой мифологии, отразившейся, в частности,
в представлениях о связи кошки с домовым (см. наст, работу,
§ II
1.5.4,
примеч. 141). Сходным образом пчеловоды не могут про-
давать пчел или мед: «дарить можно, а продавать нельзя»
(Н.
Виноградов, 1904, с. 76); ср., между тем, о культовой роли
пчел в славянском язычестве у Топорова (1975), а также
в § 111.4.1 наст, работы. Ср. еще запрет продавать атрибуты па-
стушьего звания — такие, например, как трубу (рожок) и т. п.
(Калинин, 1913, с. 275), что объясняется специальной связью па-
стуха с лешим, о которой мы говорим в § III.5.3 наст, работы.
Наконец, особая роль ножа в славянском язычестве обусловливает
запрещение продавать ножи, ср.: «Образа да ножи не дарят, а ме-
няют» (Даль, 1904, I, с. 8). Итак, в отношении к иконам находит
отражение отношение к сакральным предметам, которое имеет
еще языческие корни.
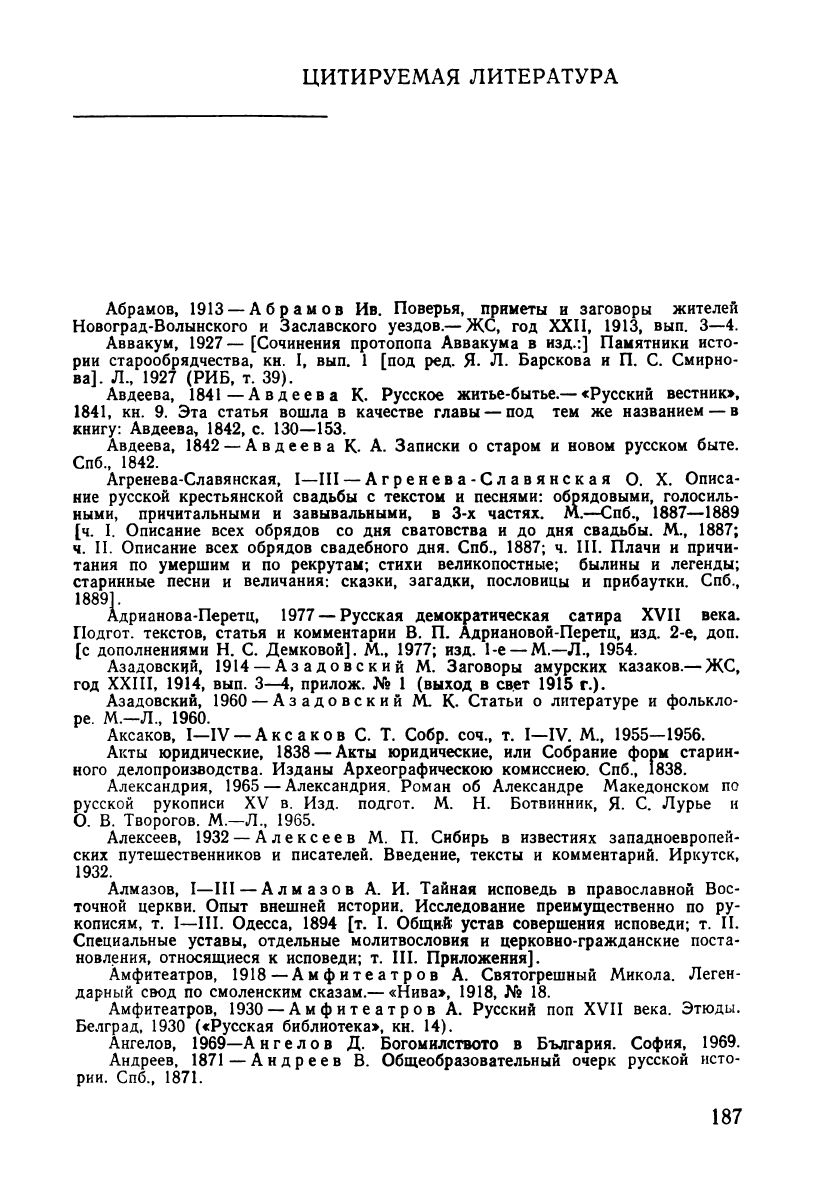
ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Абрамов, 1913 —Абрамов Ив. Поверья, приметы и заговоры жителей
Новоград-Волынского и Заславского уездов.—-ЖС, год XXII, 1913, вып. 3—4.
Аввакум, 1927— [Сочинения протопопа Аввакума в изд.:] Памятники исто-
рии старообрядчества, кн. I, вып. 1 [под ред. Я. Л. Барскова и П. С. Смирно-
ва].
Л., 1927 (РИБ, т. 39).
Авдеева, 1841—Авдеева К. Русское житье-бытье.— «Русский вестник»,
1841,
кн. 9. Эта статья вошла в качестве главы — под тем же названием — в
книгу: Авдеева, 1842, с. 130—153.
Авдеева, 1842 — Авдеева К. А. Записки о старом и новом русском быте.
Спб.,
1842.
Агренева-Славянская, I—III — А г р е н е в а - С л а в я н с к а я О. X. Описа-
ние русской крестьянской свадьбы с текстом и песнями: обрядовыми, голосиль-
ными, причитальными и завывальными, в 3-х частях. М.—Спб., 1887—1889
[ч.
I. Описание всех обрядов со дня сватовства и до дня свадьбы. М, 1887;
ч.
II. Описание всех обрядов свадебного дня. Спб., 1887; ч. III. Плачи и причи-
тания по умершим и по рекрутам; стихи великопостные; былины и легенды;
старинные песни и величания: сказки, загадки, пословицы и прибаутки. Спб.,
1889].
Адрианова-Перетц, 1977 — Русская демократическая сатира XVII века.
Подгот. текстов, статья и комментарии В. П. Адриановой-Перетц, изд. 2-е, доп.
[с дополнениями Н. С. Демковой]. М., 1977; изд. 1-е — М.—Л., 1954.
Азадовский, 1914 — Азадовский М. Заговоры амурских казаков.— ЖС,
год XXIII, 1914, вып. 3—4, прилож. № 1 (выход в свет 1915 г.).
Азадовский, 1960 —Аз а до веки й М. К. Статьи о литературе и фолькло-
ре.
М.—Л., 1960.
Аксаков, I—IV —Аксаков С. Т. Собр. соч., т. I—IV. М., 1955—1956.
Акты юридические, 1838 — Акты юридические, или Собрание форм старин-
ного делопроизводства. Изданы Археографическою комиссиею. Спб., 1838.
Александрия, 1965 — Александрия. Роман об Александре Македонском по
русской рукописи XV в. Изд. подгот. М. Н. Ботвинник, Я. С. Лурье и
О. В. Творогов. М.—Л., 1965.
Алексеев, 1932 — А л е к с е е в М. П. Сибирь в известиях западноевропей-
ских путешественников и писателей. Введение, тексты и комментарий. Иркутск,
1932.
Алмазов, I—III — Алмазов А. И. Тайная исповедь в православной Вос-
точной церкви. Опыт внешней истории. Исследование преимущественно по ру-
кописям, т. I—III. Одесса, 1894 [т. I. Общий устав совершения исповеди; т. II.
Специальные уставы, отдельные молитвословия и церковно-гражданские поста-
новления, относящиеся к исповеди; т. III. Приложения].
Амфитеатров, 1918 — Амфитеатров А. Святогрешный Микола. Леген-
дарный свод по смоленским сказам.— «Нива», 1918, № 18.
Амфитеатров, 1930 — А м ф и т е а т р о в А. Русский поп XVII века. Этюды.
Белград, 1930 («Русская библиотека», кн. 14).
Ангелов, 1969—Ангелов Д. Богомилството в България. София, 1969.
Андреев, 1871—Андреев В. Общеобразовательный очерк русской исто-
рии.
Спб., 1871.
187
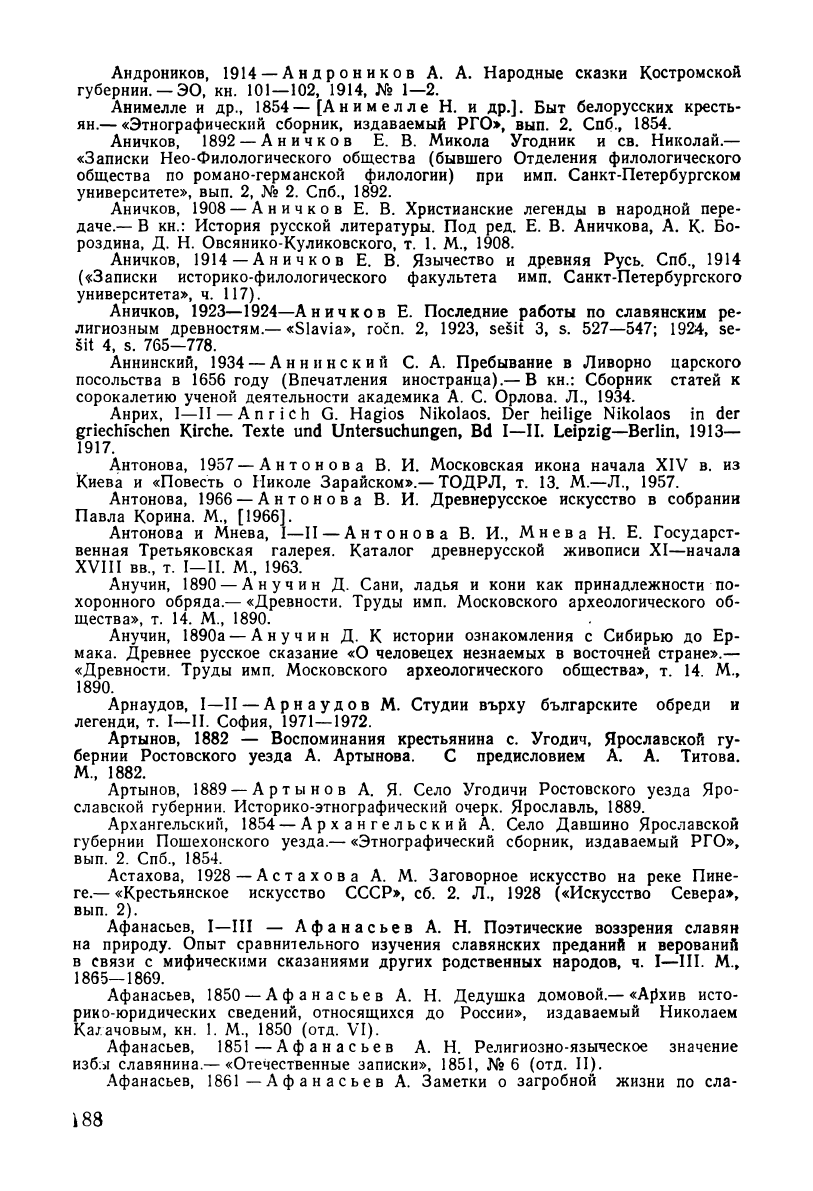
Андроников, 1914 —Андроников А. А. Народные сказки Костромской
губернии. — ЭО, кн. 101—102, 1914, № 1—2.
Анимелле и др., 1854 — [А н и м е л л е Н. и др.]. Быт белорусских кресть-
ян.—
«Этнографический сборник, издаваемый РГО», вып. 2. Спб., 1854.
Аничков, 1892 — Аничков Е. В. Микола Угодник и св. Николай.—
«Записки Нео-Филологического общества (бывшего Отделения филологического
общества по романо-германской филологии) при имп. Санкт-Петербургском
университете», вып. 2, № 2. Спб., 1892.
Аничков, 1908 — Аничков Е. В. Христианские легенды в народной пере-
даче.— В кн.: История русской литературы. Под ред. Е. В. Аничкова, А. К. Бо-
роздина, Д. Н. Овсянико-Куликовского, т. 1. М, 1908.
Аничков, 1914 —Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь. Спб., 1914
(«Записки историко-филологического факультета имп. Санкт-Петербургского
университета», ч. 117).
Аничков, 1923—1924—Аничков Е. Последние работы по славянским ре-
лигиозным древностям.— «Slavia», госп. 2, 1923, sesit 3, s. 527—547; 1924, se-
sit 4, s. 765—778.
Аннинский, 1934 —Аннинский С. А. Пребывание в Ливорно царского
посольства в 1656 году (Впечатления иностранца).— В кн.: Сборник статей к
сорокалетию ученой деятельности академика А. С. Орлова. Л., 1934.
Анрих, I—II —An rich G. Hagios Nikolaos. Der heilige Nikolaos in der
griechfschen Kirche. Texte und Untersuchungen, Bd I—II. Leipzig—Berlin, 1913—
1917.
Антонова, 1957 — Антонова В. И. Московская икона начала XIV в. из
Киева и «Повесть о Николе Зарайском».—ТОДРЛ, т. 13. М—Л., 1957.
Антонова, 1966 — Антонова В. И. Древнерусское искусство в собрании
Павла Корина. М.,
[1966].
Антонова и Мнева, I—II — Антонова В. И., Мнева Н. Е. Государст-
венная Третьяковская галерея. Каталог древнерусской живописи XI—начала
XVIII вв., т. I—II. М., 1963.
Анучин, 1890 — Анучин Д. Сани, ладья и кони как принадлежности по-
хоронного обряда.— «Древности. Труды имп. Московского археологического об-
щества», т. 14. М., 1890.
Анучин, 1890а — Анучин Д. К истории ознакомления с Сибирью до Ер-
мака. Древнее русское сказание «О человецех незнаемых в восточней стране».—
«Древности. Труды имп. Московского археологического общества», т. 14. М.,
1890.
Арнаудов, I—II — Арнаудов М. Студии върху българските обреди и
легенди, т. I—II. София, 1971—1972.
Артынов, 1882 — Воспоминания крестьянина с. Угодич, Ярославской гу-
бернии Ростовского уезда А. Артынова. С предисловием А. А. Титова.
М., 1882.
Артынов, 1889 — Артынов А. Я. Село Угодичи Ростовского уезда Яро-
славской губернии. Историко-этнографический очерк. Ярославль, 1889.
Архангельский, 1854 — Архангельский А. Село Давшино Ярославской
губернии Пошехонского уезда.— «Этнографический сборник, издаваемый РГО»,
вып.
2. Спб., 1854.
Астахова, 1928 — А с т а х о в а А. М. Заговорное искусство на реке Пине-
ге.—«Крестьянское искусство СССР», сб. 2. Л., 1928 («Искусство Севера»,
вып.
2).
Афанасьев, I—III — Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян
на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований
в связи с мифическими сказаниями других родственных народов, ч. I—III. М.,
1865—1869.
Афанасьев, 1850 — Афанасьев А. Н. Дедушка домовой.— «Архив исто-
рико-юридических сведений, относящихся до России», издаваемый Николаем
Калачовым, кн. 1. М., 1850 (отд. VI).
Афанасьев, 1851—Афанасьев А. Н. Религиозно-языческое значение
изб:э1
славянина.— «Отечественные записки», 1851, №6 (отд. II).
Афанасьев, 1861—Афанасьев А. Заметки о загробной жизни по сла-
188
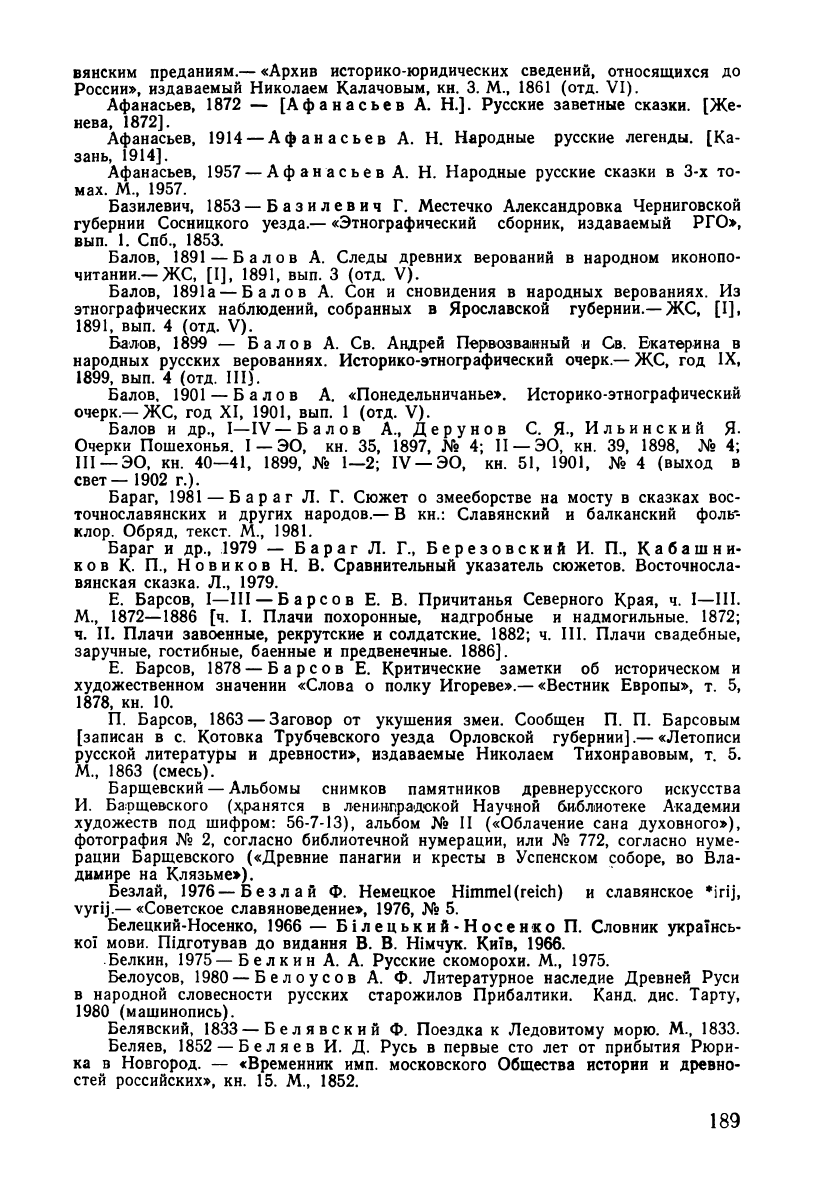
вянским преданиям.— «Архив историко-юридических сведений, относящихся до
России», издаваемый Николаем Калачовым, кн. 3. М., 1861 (отд. VI).
Афанасьев, 1872 — [Афанасьев А. Н.]. Русские заветные сказки. [Же-
нева,
1872].
Афанасьев, 1914 — Афанасьев А. Н. Народные русские легенды. [Ка-
зань,
1914].
Афанасьев, 1957 — А ф а н а с ь е в А. Н. Народные русские сказки в 3-х то-
мах. М., 1957.
Базилевич, 1853 — Б а з и л е в и ч Г. Местечко Александровка Черниговской
губернии Сосницкого уезда.— «Этнографический сборник, издаваемый РГО»,
вып.
1. Спб., 1853.
Балов, 1891 — Балов А. Следы древних верований в народном иконопо-
читании.—ЖС, [I], 1891, вып. 3 (отд. V).
Балов, 1891а — Балов А. Сон и сновидения в народных верованиях. Из
этнографических наблюдений, собранных в Ярославской губернии.—ЖС, [I],
1891,
вып. 4 (отд. V).
Балов, 1899 — Балов А. Св. Андрей Первозванный и Св. Екатерина в
народных русских верованиях. Историко-этнографический очерк.— ЖС, год IX,
1899,
вып. 4 (отд. III).
Балов, 1901 —Балов А. «Понедельничанье». Историко-этнографический
очерк.—ЖС, год XI, 1901, вып. 1 (отд. V).
Балов и др., I—IV—Балов А., Дер у но в С. Я., И л ь и н с к и й Я.
Очерки Пошехонья. I — ЭО, кн. 35, 1897, № 4; II —ЭО, кн. 39, 1898, № 4;
III —ЭО, кн.
40—41,
1899, № 1—2; IV —ЭО, кн. 51, 1901, № 4 (выход в
свет — 1902 г.).
Бараг, 1981 — Бараг Л. Г. Сюжет о змееборстве на мосту в сказках вос-
точнославянских и других народов.— В кн.: Славянский и балканский фоль-
клор.
Обряд, текст. М., 1981.
Бараг и др., 1979 — Бараг Л. Г., Березовский И. П., Кабашни-
к о в К П., Новиков Н. В. Сравнительный указатель сюжетов. Восточносла-
вянская сказка. Л., 1979.
Е.
Барсов, I—III — Барсов Е. В. Причитанья Северного Края, ч. I—III.
М., 1872—1886 [ч. I. Плачи похоронные, надгробные и надмогильные. 1872;
ч.
II. Плачи завоенные, рекрутские и солдатские. 1882; ч. III. Плачи свадебные,
заручные, гостибные, баенные и предвенечные.
1886].
Е.
Барсов, 1878 — Барсов Е. Критические заметки об историческом и
художественном значении «Слова о полку Игореве».— «Вестник Европы», т. 5,
1878,
кн. 10.
П. Барсов, 1863 — Заговор от укушения змеи. Сообщен П. П. Барсовым
[записан в с. Котовка Трубчевского уезда Орловской губернии].—«Летописи
русской литературы и древности», издаваемые Николаем Тихонравовым, т. 5.
М., 1863 (смесь).
Барщевский — Альбомы снимков памятников древнерусского искусства
И. Барщевского (хранятся в ленинградской Научной библиотеке Академия
художеств под шифром: 56-7-13), альбом № II («Облачение сана духовного»),
фотография № 2, согласно библиотечной нумерации, или № 772, согласно нуме-
рации Барщевского («Древние панагии и кресты в Успенском соборе, во Вла-
димире на Клязьме»).
Безлай, 1976—Без лай Ф. Немецкое Himmel(reich) и славянское
*irij,
vyrij —«Советское славяноведение», 1976, № 5.
Белецкий-Носенко, 1966 — Б1лецький-Носенко П. Словник украТнсь-
ко!
мови. Пщготував до видання В. В. №мчук. КиТв, 1966.
Белкин, 1975—Белкин А. А. Русские скоморохи. М., 1975.
Белоусов, 1980 — Бел о усов А. Ф. Литературное наследие Древней Руси
в народной словесности русских старожилов Прибалтики. Канд. дис. Тарту,
1980 (машинопись).
Белявский, 1833 — Бел я век и й Ф. Поездка к Ледовитому морю. М., 1833.
Беляев, 1852 — Беляев И. Д. Русь в первые сто лет от прибытия Рюри-
ка в Новгород. — «Временник имп. московского Общества истории и древно-
стей российских», кн. 15. М., 1852.
189
