Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития в первой половине XXI века
Подождите немного. Документ загружается.


1990-х гг., могут, наконец, создать условия для стремительного экономического и
социального развития названных стран, хотя формы и степень демократизации этих об-
ществ, скорее всего, будут существенно различаться.
Для третьей, завершающей части фазы революции международного рынка характерны
возникновение новых субъектов мировой политики и экономики, а также изменение
общей геополитической ситуации в мире. В первом цикле это был период 1865—1873 гг.,
когда завершилась Гражданская война в США и началась эпоха «реконструкции», когда
произошло объединение Германии и Италии, в результате чего важнейшим субъектом
европейской и мировой политики стала Германская империя, а важнейшим субъектом
мировой экономики — Соединенные Штаты Америки. Во втором цикле это был период
1961—1969 гг., когда был достигнут временный военный паритет между США и СССР, в
результате чего СССР стал важнейшим субъектом мировой политики, а важнейшим
субъектом мировой экономики после бурного экономического роста 1960-х гг. стала
Япония. В третьем цикле в завершаю-
329
щей третьей части фазы революции международного рынка (около 2033—2041 гг.), по-
видимому, произойдет окончательное утверждение в качестве ведущих субъектов
мировой экономики и политики Японии, Китая и Индии, хотя их роль в системе мировых
центров политической и экономической силы [Лапкин, Пантин 2004] будет существенно
различной. Япония вместе с «тиграми» Юго-Восточной Азии будет претендовать на роль
центра-лидера, постепенно вытесняющего с этих позиций США; Китай же займет
положение «противо-центра», осуществляющего альтернативную по отношению к
центру-лидеру модель модернизации и военно-политическую экспансию по всему миру.
Что же касается Индии, то ее роль в мировой экономике и политике, как можно полагать,
будет весьма сложной: Индия, сочетающая в себе черты будущего центра-лидера и
противоцентра, возможно, станет завершающим звеном в системе мировых центров
политической и экономической силы, стабилизирующим эту систему и способствующим
ее переходу к принципиально новой эпохе мирового развития после 2041 г., когда
завершится фаза революции международного рынка третьего цикла, а с ней и огромный
период развития доиндустриального и индустриально-капиталистического общества
[Пантин 1996. С. 72—83, 135—138].
После начала 2040-х гг. длительность «понижательных» фаз (фазы структурного кризиса
и фазы великих потрясений) может уменьшиться почти до нуля, что приведет к
изменению общего характера эволюционных циклов международной экономической и
политической системы и к радикальным изменениям в ее развитии. В связи с этим можно
прогнозировать, что 2040-е — 2050-е гг. станут временем крупного перелома в истории
человечества, перелома, который подготовлен всем предшествующим развитием.
Завершится целая эпоха индустриального общества — эпоха трудного и мучительного
перехода и адаптации человечества к индустриальным технологиям, промышленному
капитализму, массовому обществу и массовому производству. Скорее всего, изменится
(точнее, начнет изменяться) сама форма эволюции международной экономической и
политической системы; глубина и продолжительность
330
кризисных потрясений могут уменьшиться благодаря формированию более тонких и
совершенных механизмов технологического и социального обновления. Возможно,
начнут пробивать себе дорогу и утверждаться принципиально новые «закрывающие»
технологии, о которых писал М. Делягин (глава 3), и это существенно повлияет на формы
мирового экономического развития. Важную роль при этом может сыграть не только
распространение новых, более совершенных информационных технологий, но и
формирование более эффективных политических и экономических институтов,
потребность в которых возникнет уже в фазе великих потрясений 2005— 2017 гг. В
период 2040-х — 2050-х гг., после завершения третьего цикла эволюции международной

экономической и политической системы эпохи индустриального общества и начала
перехода не только отдельных стран, но большинства человечества к новому
«постиндустриальному» обществу, могут произойти не только сдвиг мировой экономики
и политики с Запада на Восток (из США и Европы в Юго-Восточную и Южную Азию), не
только распространение принципиально новых технологий и средств связи, не только
крупные изменения в мировой финансовой и информационной системе. Этот период,
скорее всего, станет переломным и в плане стабилизации общей численности населения
Земли, и в плане распределения населения по различным континентам и регионам, а также
в плане изменения климата и природных условий. В результате этой стабилизации могут
возникнуть условия для подлинной индивидуализации, а не «массовизации» человека,
общества, культуры. Кроме того, по-видимому, утвердятся новые формы социальной и
политической организации — новые социальные общности и структуры, новые
международные организации, новые демократические институты и т.п.
В целом можно утверждать, что период 2040-х — 2050-х гг. станет во многих отношениях
переломным и даже критическим в истории человечества. Не исключено, что в этот
период человек и культура снова будут балансировать на краю пропасти — между
соблазном упрощения («массовизации», унификации и деградации) и императивом
усложнения (индивидуа-
331
лизации, роста разнообразия и дифференциации). Если это время и не станет новым «осевым
временем» в том смысле, какой вкладывал в него Карл Ясперс, то оно всё равно будет
чрезвычайно важным для дальнейшего развития человека и общества. Возможно, именно в
такую переломную, во многом драматическую эпоху возникнут условия для нового подъема
культуры, духовного и интеллектуального творчества; но этими условиями еще надо будет
суметь воспользоваться. Ясно, что относительно этого переломного периода не стоит питать
никаких иллюзий в духе коммунистических, либерально-демократических или сциентистско-
технократических утопий. Никакого «конца истории» нет и не будет, перед человечеством
будет стоять множество сложнейших проблем, но формы и механизмы исторического
развития могут существенно измениться.
Глава 6
РИТМЫ И ЦИКЛЫ АВТОХТОННОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ
6.1. 36-летние циклы социально-политического развития России: общее
описание и особая роль в российской
истории
Данная глава отличается от предшествующих глав более детальным анализом исторического
развития России, которое рассматривается здесь под особым углом зрения. Вместе с тем
тенденции и закономерности российского исторического развития, о которых идет речь в этой
главе, весьма важны для прогнозирования ближайшего будущего России. При этом сразу же
отметим, что рассматриваемые в настоящей главе тенденции внутреннего, «автохтонного»
развития России принципиально отличаются от циклов российских реформ — контрреформ,
рассмотренных в главах 2 и 5. Если циклы реформ — контрреформ синхронизированы с
циклами эволюции международной экономической и политической системы (глава 5, п. 5.1) и
являются непосредственным результатом влияния ритмов и циклов международного развития
на эволюцию российского общества и государства, то 36-летние циклы, которым в основном
посвящена данная глава, — это ритмы преимущественно внутреннего развития России или,
точнее, ее модернизационных «рывков». Разумеется, различные «внешние» и «внутренние»
ритмы своеобразно взаимодействуют друг с другом, что и порождает в итоге сложную
картину развития российского социума. Однако, прежде чем говорить об этом
взаимодействии, необходимо, в частности, выявить те своеобразные 36-летние ритмы,
которые прослеживаются в российской истории, а также попытаться определить их зна-
333

чение для понимания как прошлого, так и будущего развития России.
Сквозь всю многовековую историю России можно проследить драматическую коллизию,
сопровождающую попытки ее политических лидеров и возглавляемой ими
государственной машины найти решение извечного вопроса российской геополитики,
связанного с настойчивой потребностью преодолеть пространственное отчуждение Руси
— Московии — России от ведущих мировых экономических центров, с потребностью
сформировать устойчивые каналы взаимодействия с ними и восприятия идущих от них
цивилизующих импульсов. Вся российская история пронизана этими идущими из разных
источников импульсами, будь то воспринятые от варягов первоосновы государственности
или воспринятые от византийской церкви религия и письменность, будь то — столетиями
позже — наново усвоенные от Орды навыки государственного управления и военной
организации, будь то опыты Голландии и Пруссии, вдохновлявшие российских
императоров XVIII в. на подвиги заимствования или ученичества (а порой и на откро-
венное малопродуктивное подражание), будь то, наконец, опыты российского
«самобытного» прочтения марксизма и неолиберализма, составившие идеологическую
основу российских революций начала и конца XX столетия.
Но основная проблема состоит в том, что продолжительность этих импульсов всякий раз
оказывалась недостаточной для органического усвоения их фундаментального
цивилизующего содержания. Более того, очень скоро в воспринимающей их «ав-
тохтонной» среде начиналась реакция отторжения. В итоге периоды преодоления
пространственных ограничений развития пресекались и сменялись длительными
периодами культурной изоляции и хозяйственной автаркии; тем самым формировались
«рваные», в чем-то надрывные ритмы российской истории, ритмы ее «раскрытия миру» и
нового «окукливания».
Иными словами, особенности российской геополитики (если под геополитикой понимать
в первую очередь политическое обустройство вмещающего ландшафта, т.е. освоенного
человеком хозяйствующим пространства, сочленяющее заложен-
334
ные в географии возможности с принципами и структурами наличествующей
политической организации) сформировали принципиально неустойчивый, по сути —
чреватый катастрофами механизм циклического развития российского государства и
общества, характеризующийся чередованием полярных ориентации (то ориентации на
ученичество и культурное заимствование у чужеземцев, а то — на самобытное и
самодостаточное существование, убаюкиваемое мифами о собственной ис-
ключительности, вариации которых простираются от «Третьего Рима» до «Третьего
Интернационала»).
Отметим, что «эффект» цивилизующего внешнего воздействия всякий раз сильно
варьировался, будучи зависимым от реального культурного потенциала той цивилизации,
которая в данном случае выступала в качестве эталона, «образца» для подражания и
заимствования. Характерно, что об устойчивой ориентации России на
западноевропейскую традицию мирового лидерства можно говорить лишь начиная с
реформ Петра I, т.е. с конца XVII в. До этого в качестве образцов политического и
культурного развития Руси — Московии фигурировали и Османская империя (XVI в.), и
Орда (XIII-XIV вв.), и Византия (X— XII вв., а также отчасти XV в.), и Хазарский каганат
(IX—X вв.). При этом лишь в случае Византии X—XII вв. можно говорить (и то с
известными оговорками) о том, что выбор Руси оказался сориентирован на реального
мирового лидера той исторической эпохи. По-видимому, именно это обстоятельство и
определило столь поразительное соответствие Киевской Руси, особенно в период ее
расцвета, современным ей образцам римско-ев-ропейской государственности. В
остальных случаях вторичность воспринятых Русью — Россией институциональных форм
и культурных стереотипов обусловила неорганичный характер российского развития,
сориентированного наложные и неадекватные своему времени цели. Поэтому нередко
очередной рывок к цивилизации устремлял Россию в направлении, противоположном

«магистральному», общемировому вектору развития. Особо отметим, что этот
парадоксальный эффект российского развития — движение в ложном направлении —
сохранился и после того, как Россия необратимо интегрировалась в европей-
335
скую политику (т.е. и после XVII в.). Пожалуй, лишь Петру Великому гениальным
образом удалось «разобраться» в хитросплетениях европейской политики и
сориентироваться на опыт наиболее перспективных ее центров — Англии и Голландии. В
последующие исторические периоды России «не везло»: ее лидеры предпочитали «уроки
французского», «прусского», «германского», эти своего рода уроки любви-ненависти, с
опаской и недоверием относясь к возможностям прагматического сближения с реальными
мировыми лидерами (с Великобританией XVIII—XIX вв., США конца XIX—XX вв.,
Японией второй половины XX - начала XXI в.), по сути пренебрегая их уникальным
опытом хозяйственного и социально-политического обустройства.
Историческая обреченность России на решение фундаментальной проблемы освоения
«внутренних пространств» варварской, не приобщенной к цивилизации Евразии, причем
освоения в условиях острого дефицита наличествующих у государства политических,
хозяйственных и демографических ресурсов, определила особую имперскую форму ее
исторического развития. Эту форму точнее всего было бы назвать «вторичной империей»,
поскольку ее цивилизующая (по отношению к окружающему варварскому пространству)
миссия, распространяемые ею вовне властные импульсы (империумы) были принципиаль-
но не самодостаточными, как правило, лишь транслирующими (причем с большими
искажениями и упрощениями) правовые, культурные и бытовые нормы ведущих мировых
центров, таких как Византия раннего средневековья или Запад Нового времени. В
историческом масштабе времени они формировали характерные циклы освоения
внутренних пространств Евразии, циклы закономерного чередования периодов
восприятия и усвоения накопленного передовыми державами политического и
социокультурного опыта и периодов трансляции, распространения этого опыта на
окружающее российскую державу пространство, или, иными словами, чередования фаз
«рывка» в обучении и самодостаточной «релаксации».
Важно обратить внимание на принципиальную особенность двух этих полярных фаз
российского развития, во многом оп-
336
ределяющую особенности взаимодействия Руси — Московии — России с внешним миром
в тот или иной период. Принимая во внимание наличие общемировых циклов
экономического и социально-политического развития, рассмотренных ранее (п. 5.1), — с
точки зрения мировой истории, очевидно, более фундаментальных, —тем не менее,
следует отметить, что в определенные периоды автохтонные ритмы российского развития
оказываются преобладающими над ритмами мировыми. Парадоксально, но это
происходит именно в фазе «рывка». Иными словами, именно тогда, когда Россия
приступает к обновлению собственных социально-политических институтов и принципов
устройства жизни путем заимствований во внешнем, окружающем ее мире, формируется
устойчивый «самобытный цикл» ее развития; подобная ритмика обуславливает
преодоление внешней цикличности, навязываемой ритмикой развития господствующего
мирового лидера. В этот период Россия, образно говоря, идет в ученичество к более
успешным народам, но учиться их премудрости предпочитает исключительно по
собственным методикам и, главное, в своем собственном ритме.
Напротив, в фазе «релаксации», следующей за фазой «рывка», столь же парадоксальным
образом наблюдается своего рода затухание «собственных колебаний» и, соответственно,
проявление ведущих «общемировых ритмов» развития. Усвоив ранее новые формы
политического устройства (прежде всего формы государственного правления и контроля
над обществом) — как это произошло, например, в эпоху петровских и екатерининских
преобразований XVIII в., — Россия затем на длительное время «успокаивается» и

трансформирует то, что прежде было полем отчаянных социально-политических экс-
периментов, в нечто священно-неприкосновенное. Усвоенные прежде формы, такие,
например, как «русифицированный вариант» прусской модели государственной
бюрократии и по-мещичье-крепостнического уклада, становятся теперь (т.е. с конца XVIII
в.) на длительное время доминантой и идеально-типическим ядром новой порождающей
модели российской государственности (своего рода «alter ego» российского само-
державия). При этом происходит медленное разложение эли-
337
ты, как бы теряющей способность выработки новых эволюционных форм политической
организации. Страна обретает неожиданную глухоту к поступающим извне импульсам
политической эволюции. Единственным и всё более одиноким, всё более социально
изолированным субъектом политических изменений в стране становится в этот период
государство («единственный европеец», а в соответствующие периоды прошлого —
«единственный золотоордынец», «единственный царьградец» и т.д.) — единственное
олицетворение того внешнего образца, чья модифицированная копия определяет в данную
эпоху внешний облик политического строя России.
Ограничиваясь в дальнейшем — в силу тематических рамок настоящего исследования —
преимущественным рассмотрением последних полутора столетий российской истории,
отметим вместе с тем чрезвычайно важное для дальнейшего изложения обстоятельство, а
именно, что описанные выше циклы имперского освоения «внутренних пространств»
Евразии являются циклами эволюционными. В ходе этих циклов происходило
закономерное накопление культурных и социально-политических ресурсов развития,
подготавливалась основа для предстоящей в будущем более органической интеграции
России в современную цивилизацию (цивилизацию модерна). Заметим сразу, — предваряя
возможные недоумения и возражения, — что этот процесс эволюционного
предуготовления и вызревания еще отнюдь не завершен, и в данный момент Россия
находится, пожалуй, в наиболее драматическом положении, когда гигантский масштаб
стоящих перед ней задач едва ли соизмерим со всё еще сохраняющимися у нее ресурсами
и возможностями. Исход этой исторической коллизии отнюдь не предрешен и во многом
будет зависеть от способности и политической воли российского общества к
самоизменению.
* * *
Перейдем теперь к более подробному описанию исторических предпосылок российской
модернизации, составляющей существо социально-политических преобразований по-
338
следних трех столетий российской истории. Формальный анализ ранее сказанного
позволяет уяснить, что этот временной отрезок, в соответствии с предложенной
циклической периодизацией, распадается на три больших периода: а) фазу «рывка» и
первичной модернизации, приходящуюся на вторую половину XVII и практически на всё
XVIII столетие; основное содержание этой фазы определяется вестернизирующими Рос-
сию реформами Петра I и Екатерины II; б) фазу «релаксации», наступившую с воцарением
Павла I и продлившуюся до гибели великого реформатора Александра II; в) наконец,
новую фазу «рывка» (на сей раз завершающей модернизации российского общества), в
которую Россия вступила в период царствования Александра III и которая не завершена и
поныне. Именно эта последняя фаза и станет основным предметом последующего
рассмотрения.
Во избежание недоразумений, отметим сразу, что, применяя к российскому развитию
последнего столетия термин «модернизация» , мы отдаем себе отчет в том, что нагружаем
этот термин некоторыми несвойственными ему смыслами. Речь здесь даже не столько о
том, что ббльшую часть этого периода Россия прошла, акцентируя свои усилия на
исключительно индустриальных аспектах модернизации (форсируя урбанизацию и лик-
видацию традиционных аграрных укладов, развивая крупную промышленность и
необходимую ей социальную инфраструктуру и т.п.), но игнорируя при этом социально-
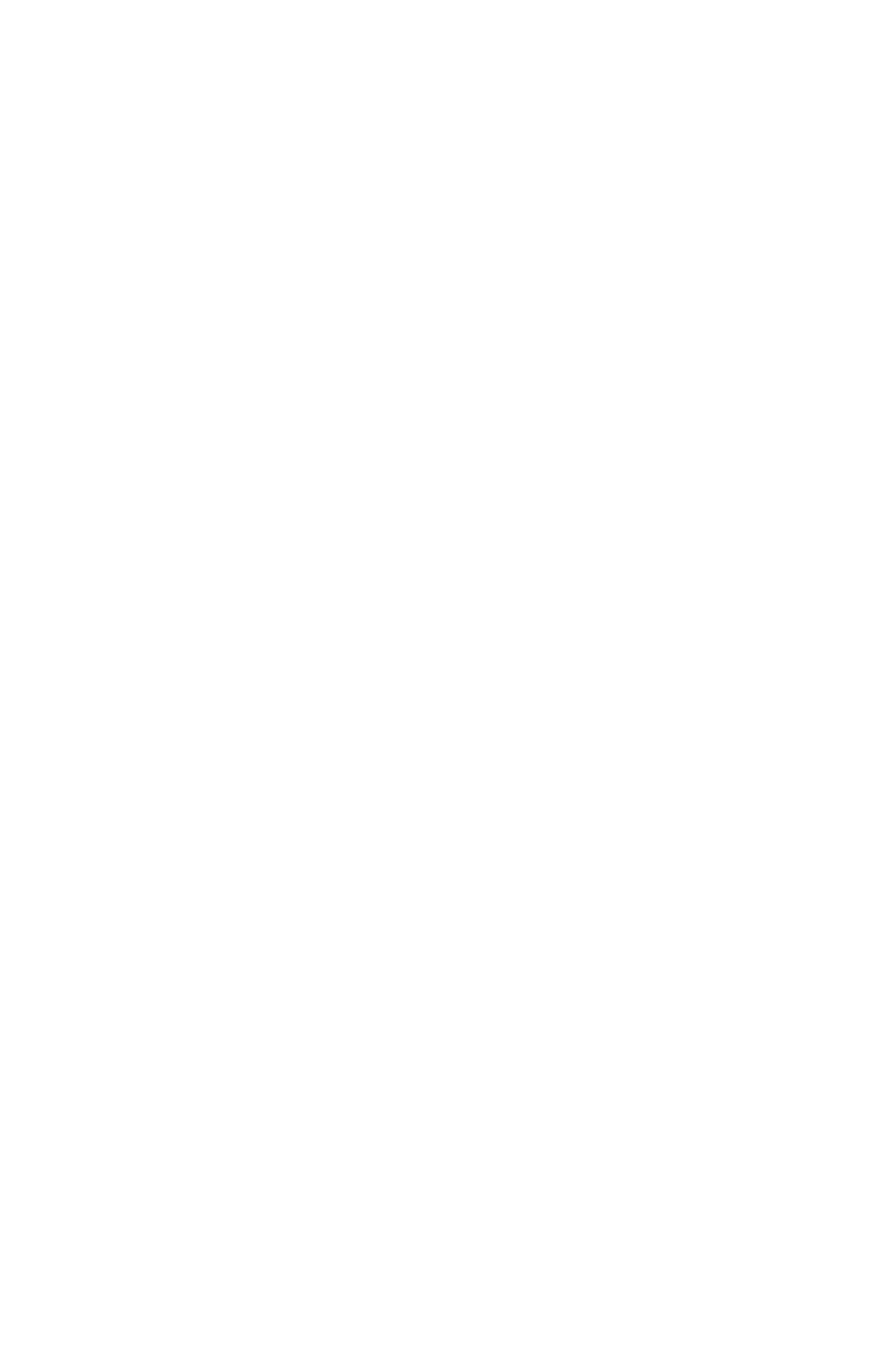
политические и ценностно-культурные ее аспекты (а порою даже непосредственно
разрушая фундаментальные предпосылки модернизации в этих важнейших сферах
общественной жизни). Особенность этой форсированной модернизации в том, что, подго-
товленная радикальными преобразованиями российских реформаторов XVIII столетия,
она представляла и по-прежнему еще представляет собой наиболее яркий пример
последовательной реализации стратегии политического и социально-экономического
развития, альтернативной господствующей в мире.
И тем не менее, характеризуясь качествами, столь, казалось бы, неадекватными ее
истинной сущности, эта модернизация является таковой по своей функции, по своему
истори-
339
ческому предназначению. Таков императив становления и развития современного мира,
который с конца XIX столетия предопределил место и роль России в системе мировых
центров политической и экономической силы (см., например: [Лапкин, Пантин 2004]).
Россия вынуждена — под угрозой национального и социокультурного уничтожения —
решать проблему собственного приобщения к современности. В противном случае ей
просто может не найтись места в сообществе современных наций завтрашнего
глобализованного мира.
Суть эволюционных задач, стоящих перед Россией сегодня, можно представить себе
наиболее ясным и систематическим образом, прибегая к уже использовавшемуся ранее
(глава 4, п. 4.2) понятию противоцентра и к представлениям о специфической логике,
характеризующей его историческое движение. Напомним, что в логике эволюции мировой
системы центров экономической и политической силы, в первоначальном виде
сформировавшейся в ходе западноевропейской модернизацииXVII — началаXVIII в.,
противоцентр выступает функциональным антагонистом мирового центра-лидера,
образующим с ним своеобразную симбиотическую пару и олицетворяющим собою
альтернативный в данную эпоху вариант модернизационных преобразований. Его
функциональный антагонизм центру-лидеру закономерно предопределяется как
очевидной исторической и социокультурной ограниченностью любого из уже известных и
опробованных путей модернизации, так и тем, что инерция социально-политической
системы крупных континентальных государств-империй (коими являются или являлись в
соответствующий период все известные на сегодня противоцентры) неизбежно вызывает
роковые деформации современных институтов и практик в ходе их освоения. В результате
на определенном и достаточно длительном отрезке исторического развития реализуется
особый тип модернизации, во многом полярный по отношению к исходному типу,
заданному центром-л ид ером. Вместе с тем особо отметим, что противоцентр — это
сугубо временная для данного государства функциональная роль, которая отводится ему
на определенном этапе модернизационного перехода той или
340
иной политической системы, исторически ограниченном и обусловленном общим
состоянием системы мировых центров политической и экономической силы. При
достижении определенной степени зрелости данной политической системы (включая
переход к более зрелому типу системы мобилизации ресурсов, лежащей в основе данного
государства) статус противоцентра меняется, как это произошло, например, с Францией
после 1870-х гг. и с Германией после 1945 г.
Каждый из противоцентров, проходящий заключительную фазу своего
модернизационного развития, решает в этот период ряд особых, всякий раз уникальных
задач, продвигаясь к их разрешению по сложной, заведомо нелинейной исторической
траектории, регулярно «корректируя» вектор своего развития, вплоть до отдельных
периодов попятного движения, отягощенных революционными катастрофами и
элементами социальной деструкции.
Следует различать два типа тесно взаимосвязанных друг с другом задач, решаемых
противоцентром. Во-первых, это задачи геополитического (неоимперского)

противостояния центру-лидеру, задачи сохранения и расширения собственной гео-
политической сферы влияния, обеспечивающей в том числе и необходимую ресурсную и
сбытовую базу для интенсивно развивающейся системы накопления растущего
противоцентра. А во-вторых, это задачи геоэкономического порядка, обусловленные
необходимостью формирования предпосылок хозяйственной модернизации,
соответствующей уровню развития мирового рынка, уровню его требований к
претендентам на полноценное субъектное вхождение в него (это последнее условие в
каждом конкретном случае отягощается для проходящих заключительную фазу своего
развития противоцентров наличием особого для каждого из них специфического «слабого
места», некоего особого «дефицита», предопределяющего качественное своеобразие его
заключительного «перехода»).
В случае России ключевой геополитической задачей ее модернизационной
трансформации была и во многом до сих пор остается задача осуществления имперской
гегемонии в Евразии и контроля над Восточной Европой (в лучшие годы —
341
от Адриатики до Балтики). В качестве «порождающей модели» здесь безусловно
следует рассматривать архитепическую конструкцию «из варяг в греки»,
предполагающую наличие державного контроля на всем пространстве от современной
Прибалтики до Балкан и Босфора. Тонкость здесь, однако, состоит в том, что условием
успешного завершения модерни-зационного перехода к современности является не
решение данной — явно сумасбродной в современную эпоху — задачи, а, напротив,
осмысленный как ценностный и стратегический императив окончательный и
бесповоротный отказ от такого рода постановки собственной задачи.
Иначе дело обстоит с решением ключевой геоэкономической задачи России в ходе ее
модернизационной трансформации. Речь идет о двуединой задаче формирования
мотивированного исключительно рыночным спросом денатурализованного
производителя и преодоления экспансионистской парадигмы «экстенсивной
колонизации», в течение многих веков остающейся инвариантом национального
развития.
Решение этой второй, геоэкономической задачи для России оказалось чрезвычайно
трудным и, начатое еще в конце XIX столетия реформами Вышнеградского — Витте,
входе всегоXX в. так и не было достигнуто. Сюжеты, связанные с перипетиями
решения этой задачи, формируют одну из ключевых и наиболее драматических линий
истории России XX столетия.
Общая схема эволюционного продвижения России по пути завершающей
модернизации (т.е. эволюционная структура ее текущей фазы «рывка») может быть
предельно кратко представлена с помощью четырех 36-летних циклов, границами
которых являются следующие ключевые даты (точки перелома).
• 1881 г. Вступление в фазу модернизационного «рывка», обусловленное как
внешнеполитическими неудачами Балканской войны, так и серьезным общественным
разочарованием в результатах «великих реформ» 1860-х гг. Переломным событием
российской истории, обозначившим вступление страны на новый путь, стало жестокое
и иррациональное, с точки зрения здравой логики, убийство царя-освободителя
Александра II 1 (13) марта 1881 г., похоронившее как попытки полити-
342
ческих реформ, призванных ограничить самодержавие и дать общественности
возможность участвовать в законотворческой деятельности, так и надежды на
формирование российского капитализма «снизу», на интенсивное развитие
мелкобуржуазного сектора в российской экономике и в российском обществе.
• 1917 г. Первый фундаментальный результат и значительный политический итог
продвижения по пути заимствований и учебы капитализму у Запада по методике,

определенной самодержавным государством. Россия вовлечена в бессмысленную для
нее во всех отношениях и откровенно губительную мировую войну; над российской
экономикой и страной в целом завис дамоклов меч гигантских и стремительно
растущих государственных долговых обязательств по отношению к странам Запада;
российское общество предельно отчуждено от власти, не имеет действенных
институтов формирования политического согласия и компромисса и лишено
соответствующей политической практики, что делает его обреченным, в ситуации
кризиса на власть радикалов и политических авантюристов. Перелом, ставший
началом радикального политического поворота в истории России, обозначен двумя
роковыми датами: 2 (15) марта 1917 г. (отречение Николая II от престола и
формирование Временного правительства во главе с князем Г. Львовым) и 26 октября
(8 ноября) 1917 г. (взятие Зимнего дворца и открытие II Всероссийского съезда
Советов с большевистским большинством, сформировавшего на следующий день
новое российское правительство — Совнарком).
• 1953 г. Завершение периода «бури и натиска». Страна, прошедшая жесточайшее
испытание «реальным социализмом», варварски уничтожившая собственное
крестьянство (путем коллективизации как сознательно проводимой властью политики
раскрестьянивания), построившая на костях заключенных сталинских концлагерей
могучую военную индустрию, неслыханной и до конца так и не сочтенной ценой
одолевшая нацистскую Германию, заложившая основы ядерного паритета с новым
мировым лидером — США и даже сумевшая превзойти его на поприще создания
термоядерного оружия, — эта
343
страна позволила себе, наконец, сменить стратегию. Вынужденная сойти с пути прямой
конфронтации с Западом, Россия (СССР) вступила в затянувшуюся полосу жесткого и
изнурительного конкурентного противостояния с ним (прежде всего в лице центра-лидера
США). Перелом, ставший началом перехода к этой новой стратегии, получившей
впоследствии название «мирного сосуществования систем», обозначен также двумя
ключевыми датами: 5 марта 1953 г. (смерть — или изощренное убийство — «великого
вождя» и генсека Сталина, выпустившая в свободный политический полет «черную стаю»
сталинских сатрапов) и 13 сентября 1953 г. (Хрущев становится первым секретарем ЦК,
получая возможность возвратить в руки центрального партаппарата всю полноту власти в
стране, а тем самым постепенно, но с безжалостной последовательностью отстранить
своих политических конкурентов от рычагов реальной власти). Между этими датами
можно отметить также два весьма знаменательных события: арест Берии (26 июня 1953
г.), до этого являвшегося наиболее сильной фигурой во властном раскладе, возникшем
после смерти Сталина, и успешное испытание первого в мире термоядерного устройства
(20 августа 1953 г.), которое обозначило новую геополитическую ситуацию в мировой
политике, выводящую СССР на роль основного антагониста США и окончательно
формирующую пресловутую биполярную парадигму мирового развития на последующие
36 лет. Стратегический поворот России (СССР), обозначенный 1953 годом, повлек за
собою стремительное затухание прежних разрушительно-революционных амбиций ее
политического руководства (напоследок выродившихся в смехотворные угрозы «догнать
и перегнать Америку» и «закопать» капиталистов, а также не менее смехотворные
обещания построить коммунизм к 1980-му году). Прежний бесцеремонный забияка всё
чаще оказывался теперь в позиции защищающегося, испытывая на себе жесткий прессинг
объединенных сил стран-лидеров мирового модернизационного процесса. При этом чем
дальше, тем в большей мере СССР приходилось преодолевать негативные последствия
своего предшествующего неорганичного развития периода «бури и натиска», что в ко-
344
нечном счете свело на нет его возможности противостояния центру-лидеру и его
претензии на реализацию «исторической альтернативы» генеральной траектории

мирового развития.
• 1989 г. Вступление России (СССР) в фазу имперского надрыва, когда очередной виток
обновления своего имперского могущества и отстаивания своих имперских амбиций в
противостоянии с мировым центром-лидером (олицетворяемым в тот период президентом
США Рейганом с его политикой «крестового похода против СССР — Империи Зла», а
также стратегией «звездных войн») СССР вынужден был осуществлять в условиях
глубокой международной изоляции и катастрофического дефицита ресурсов. На страну
обрушились, казалось бы, все возможные напасти. Неудачная и во всех смыслах
разрушительная для страны афганская авантюра, разлад внутриполитических механизмов
политического управления и экономической мотивации производителя, кризис доверия к
власти и полная идеологическая беспомощность партийного руководства. К 1989 г.
разбуженная стихия социального недовольства коммунистической властью стала
выходить из-под всякого контроля традиционных политических институтов социализма,
причем как внутри СССР, так и за его пределами — в странах «социалистического
лагеря». Переход к принципиально новой политической ситуации в стране и в мире в
данном случае вновь может быть обозначен двумя ключевыми датами: 26 марта 1989 г.
(первые в СССР относительно свободные выборы делегатов съезда народных депутатов
СССР, позволившие сформировать на съезде реформаторское большинство и придавшие
дополнительный, во многом решающий импульс политическим реформам в стране,
которые привели через два года к упразднению власти КПСС, к распаду СССР и к
формированию в Российской Федерации демократического политического режима) и со-
бытия октября — ноября 1989 г. в Восточной Европе (свержение власти коммунистов и
демократические преобразования в социалистических странах Восточной Европы —
Польше, Венгрии, ГДР, Болгарии, Чехословакии). «Социалистический лагерь»
необратимо разрушается, социализм утрачивает в гла-
345
зах советской (и постсоветской) политической элиты преимущества эффективного
средства и формообразующего принципа разрешения стратегических проблем развития
России. Страна вступает на новый неизведанный путь сочетания но-менклатурно-
государственных принципов отправления власти с рыночно-капиталистическими
принципами хозяйствования. На пространствах Евразии, где жесточайшим террором были
выжжены все прежде укорененные здесь начатки частнособственнических отношений и
свободного предпринимательства, государство теперь с таким же большевистским
напором усиленно выкорчевывает основы прежней нерыночной общественной
солидарности, безжалостно разрушает прежние социальные институты и
социокультурные архетипы. А на смену им — формирует механизмы всепроникающей
коммерциализации, индивидуализации и монетизации всех прежде сформировавшихся
социальных отношений, проповедуя свободный рынок и частную собственность, распро-
страняемую на все ключевые сферы общественного воспроизводства, в ситуации, когда
бездействующие закон и право повсюду подменяются «разборками по понятиям», а у
власти нет ни средств, ни особого желания для того, чтобы восстановить порядок в стране.
• 2025 г. Окончательный крах империи и самой парадигмы имперского развития в России.
Торжество исторической тенденции, неумолимо диктующей стране необходимость
вступления в сообщество модернизированных государств (то ли посредством полного
государственного краха и перехода на неопределенное время к режиму «внешнего
управления», то ли посредством в той или иной мере цивилизованного отторжения
страной своего несовременного прошлого; конкретный путь решения этой проблемы
зависит от нашего сегодняшнего и завтрашнего политического благоразумия). Точная
дата завершающего аккорда фазы «рывка», разумеется, сокрыта в тумане будущего, но,
как представляется, действующая до настоящего времени историческая закономерность
выглядит достаточно впечатляющим образом и дает возможность читателю сделать
соответствующие выводы самостоятельно.
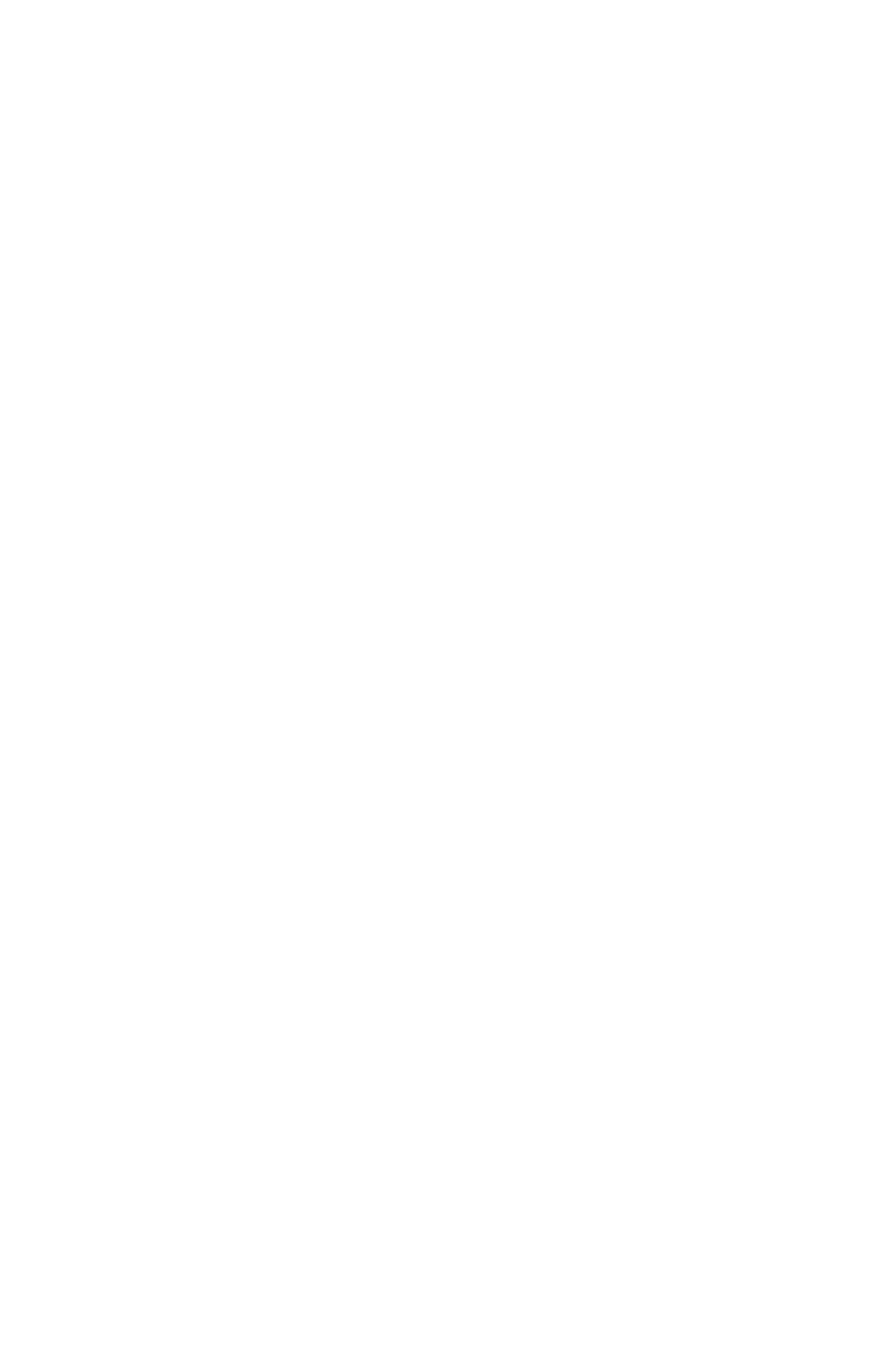
346
На этой поразительной исторической закономерности, формирующей 36-летний
эволюционный ритм развития России в фазе «рывка», стоит остановиться особо. Во-
первых, как уже упоминалось нами ранее, этот «рывок» не первый в российской истории.
Безусловно, задачи, решаемые Россией в ходе его осуществления, уникальны. Более того,
осуществляя его, Россия проходит определенный и вполне самодостаточный
эволюционный цикл развития, формируя перед собою в его начале и решая в его конце
задачу национальной модернизации в условиях индустриального капитализма,
перерастающего на наших глазах в постиндустриализм. Вместе с тем формальный
механизм соподчинения и взаимосвязи отдельных исторических фаз, формирующих
историческую логику продвижения страны к решению собственных эволюционных задач,
в целом воспроизводится всякий раз, когда страна вступает в очередную фазу «рывка». А
во-вторых, более пристальный анализ эволюционной логики ритма развития России в этой
фазе позволяет выявить чрезвычайно сложную и охватывающую весь рассматриваемый
исторический период структуру циклов эволюции российского общества и государства.
Рассмотрим эти положения более подробно. Во всей многовековой российской истории
можно выявить целый ряд периодов, соответствующих, в нашей терминологии, фазам
«рывка». По крайней мере для трех последних можно с уверенностью датировать
рубежные точки, формирующие как исторические границы самой этой фазы в целом, так
и важнейшие переломные этапы в ходе реализации той исторической задачи, которая,
собственно, и принуждает страну к вступлению в эту фазу развития — всякий раз
чрезвычайно драматическую, но в итоге открывающую для нее принципиально новые
возможности внутренней организации и внешних взаимосвязей.
Наряду с кратко описанным выше 144-летним периодом завершающей модернизации
российского общества, состоящим из четырех 36-летних циклов (1881—2025 гг.),
двигаясь в глубь истории, мы легко обнаруживаем так называемый «пет-
347
ровско-екатерининский рывок», составивший практически те же 144 года и также
структурно образованный следующими друг за другом четырьмя 36-летними циклами.
Но, удивительным образом, даже в глубине российского средневековья мы можем
наблюдать нечто подобное. Из полного политического ничтожества, в котором оказалась
Русь после столетия Ордынского разорения, с середины XIV в. на ее Северо-Востоке на-
чинают формироваться новые тенденции государственно-политической консолидации,
стремительно подымается Московская держава. Этот «московский рывок» российской
истории описывается тем же 144-летием и также структурно оформляется четырьмя
последовательными 36-летними циклами.
Начало державному возрождению Руси - Московии положила, как это ни парадоксально,
вереница трагических событий 1353 г. Эпидемия «черной смерти» (чумы), унесшая в 1350
г. по некоторым (наиболее распространенным) оценкам до трети населения Западной
Европы, к весне 1353 г. достигла Северо-Восточной Руси. В апреле этого года от чумы
скончался митрополит Феогност, а вслед за ним и великий князь московский Симеон
Иванович Гордый. Ему наследовал брат Иван II Иванович (Красный), положив тем самым
начало новой династии. Но, быть может, более важное событие произошло через год, в
конце июня 1354 г., когда митрополитом киевским и всея Руси был поставлен Алексий II,
сын московского боярина Федора Бяконта (с 1353 г. — опекун, а с 1358 г. — регент
малолетнего князя Дмитрия Ивановича). Тем самым были заложены ключевые
предпосылки трансформации прежней структуры властного доминирования на Руси:
властная монополия идеократии, подкрепленная как авторитетом Константинополя, так и
ханским ярлыком, освобождающим церковь от налогообложения, отныне начала
размываться. Подымающийся во властной иерархии служилый княжий люд начал
постепенно, но неуклонно теснить идеократию, формируя новое, самодержавное обличив
Руси — России.
