Ответы к ГОСу по ГП и ГПП
Подождите немного. Документ загружается.

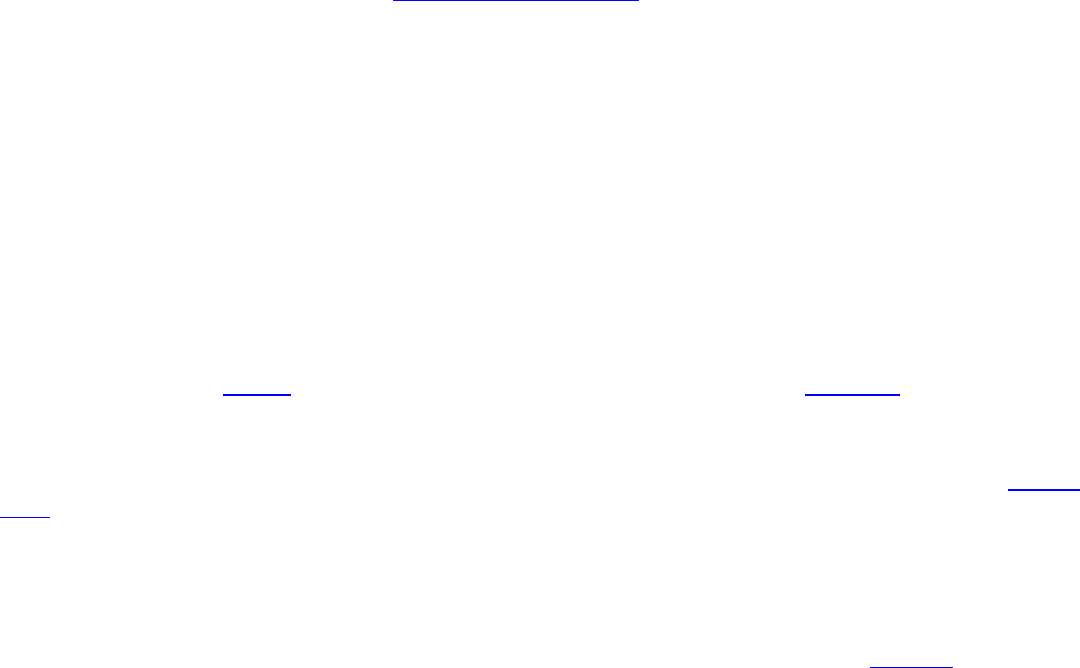
Гражданское право. Часть 1 (Заканчивается 118 статьей ГК РФ)
1. Отношения, регулируемые гражданским правом.
К общественным отношениям, регулируемым гражданским правом относятся, прежде всего, тарно-
денежные отношения (купле-продажа, поставки, перевозки. Имущественный наем, аренда и т.д. и иные
имущественные отношения в связи с переходом прав на имущество (дарение безвозмездное
пользование и т.д.) отношения в области интеллектуальной собственности, личные не имущественные
отношения в области интеллектуальной собственности, личные неимущественные отношения
(например, отношения возникающие по поводу таких нематериальных благ как честь, достоинство,
деловая репутация.
Действия гражданского права распространяются и на такие общественные отношения отношения, в
которых граждане вообще не принимают участия. Так, нормами гражданского права регулируются
отношения между организациями (юридическими лицами), возникающие в процессе реализации
произведенной продукции, перевозки ее на железнодорожном, морском, речном или воздушном
транспорте, страхования этого груза, осуществления расчетов за поставленную продукцию и так далее.
Гражданским правом регулируются отношения с участием Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, например, в случае завещания гражданином
своего имущества государству.
Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством
Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота,
основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальных прав), регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные
и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности участников.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)
Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и
юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать
также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (статья
124).
Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
2. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским
законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ.
3. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении
одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным
отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено
законодательством.
2. Понятие гражданского права.
Общая характеристика гражданского права
Предмет гражданского права Гражданское право как отрасль права - это система правовых норм,
регулирующих имущественные, а также связанные и некоторые не связанные с ними личные
неимущественные отношения, основанные на независимости, имущественной самостоятельности и
юридическом равенстве сторон в целях создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения
частных потребностей и интересов, а также нормального развития экономических отношений в
обществе. Предмет гражданского права - это необщественные отношения, которые оно регулирует. Эти
отношения делятся на:
1. Имущественные отношения, т.е. отношения, связанные с нахождением материальных благ, которые
включают в себя:
* отношения статики, т.е. отношения, связанные с нахождением материальных благ у определенного
лица (право собственности, ограниченные вещные права);
* отношения динамики, т.е. связанные с переходом материальных благ от одного лица к другому
(обязательственное право, наследование).
2. Личные неимущественные отношения - отношения, возникшие между людьми по поводу
нематериальных благ и не имеющие экономического содержания, независимо от степени связанности с
имущественными отношениями:
* личные неимущественные отношения, связанные с имущественными (например, возникшие по поводу
авторства на произведения науки, литературы и искусства). В этом случае имущественные отношения
производны от неимущественных (например, право автора на вознаграждение);
* личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными (например, защита чести,
достоинства и деловой репутации).
Самостоятельность той или иной отрасли в системе права связывается с наличием предмета и метода
правового регулирования. Предметом гражданского права являются имущественные отношения,
именуемые также экономическими и хозяйственными. Основную группу имущественных отношений
составляют рыночные отношения, связанные с реализацией производимых товаров и оказываемых
услуг, то есть отношения, связанные с обменом и имеющие товарно-денежный характер. Основы
правового регулирования имущественных отношений были выработаны еще в Римском государстве (1
век н.э.) и используются с модификациями в большинстве государств до настоящего времени. Наиболее
кратко предмет гражданского права определяется как совокупность общественных отношений,
урегулированных нормами этой отрасли. В свою очередь эти же отношения делятся на две большие
группы отношений: имущественные (о которых упоминалось выше) и связанные с ними личные
неимущественные отношения. Что касается неимущественных отношений, не связанных с
имущественными (речь идет о неотчуждаемых правах и свободах человека и др. нематериальных
благах), то они защищаются гражданским правом (если иное не вытекает из существа таких
нематериальных благ), но не регулируются им (ст. 2 ГК РФ ч.1). Важной особенностью гражданского
права является субъектный состав: гражданское правоотношение возникает между равноправными и
независимыми друг от друга субъектами. Если перед нами имущественные отношения, основанные на
власти и подчинении, то они не относятся к предмету гражданского права и регулируются другими
отраслями права (административным, финансовым и др.). Имущественные отношения, в силу своей
природы, многочисленны и разнообразны. С социально-экономической точки зрения они
предоставляют собой различные формы реализации отношений собственности. Но в одном они сходны:
гражданское право регулирует лишь те имущественные отношения, в которых участвуют лица,
экономически независимые один от другого, являющиеся самостоятельными товаровладельцами.
Разнообразие экономических отношений зависит от характера и степени экономической
самостоятельности участников гражданского оборота. Важное значение имеет деление имущественных
отношений гражданского права на отношения вещного характера и отношения обязательственные.
Статья 1. Основные начала гражданского законодательства
1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им
отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного
вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления
гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.
2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские
права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на
основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
3. Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории Российской
Федерации.

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом,
если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы
и культурных ценностей.
Термин «гражданское», или «частное», право известен с очень давних времен. Уже древние римские
юристы оперируют с этим термином, расчленяя всю обширную область права на две большие сферы -
сферу права публичного (jus publicum) и сферу права частного, или гражданского (jus privatum, или jus
civile). С той поры это деление является прочным достоянием юридической мысли, составляя
непременный базис научной и практической классификации правовых явлений.
Несмотря на такую, можно сказать «незапамятную», давность употребления, самый критерий различий
между правом публичным и частным остается до сих пор невыясненным. Даже более того:
современному исследователю этого вопроса может показаться, что чем далее, тем более вопрос
запутывается и делается безнадежно неразрешимым.
Долгое время юриспруденция довольствовалась тем определением этого различия, которое еще было
дано старыми римскими юристами: публичное право - это то, которое имеет в виду интересы
государства как целого, а частное право - то, которое имеет в виду интересы индивида как такового
(«publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem». Но более
тщательное исследование XIX века обнаружило всю теоретическую и практическую несостоятельность
этой формулы. Разве такое или иное строение семьи, собственности или наследования безразлично для
государства как целого? И, тем не менее, все это бесспорные институты гражданского права. Разве не
интересы государства как целого преследует государственное управление, заключая контракт о
поставке провианта или обмундирования для армии, защищающей отечество? И, тем не менее, такой
контракт, бесспорно, принадлежит к области права частного, а не публичного.
Римское определение существа гражданского права не могло устоять перед подобными критическими
вопросами, и наука вынуждена была искать новых путей. Здесь не место излагать длинную историю
этих исканий. Одни из мыслителей пытались указать такой или иной материальный критерий, полагая,
что различие между правом публичным и частным кроется в самой материи, в самом содержании
регулируемых отношений: довольно распространенным было некоторое время воззрение, что
единственной теоретически правильной сферой гражданского права является сфера отношений
имущественных (в Германии 3ом, у нас Кавелин, Мейер). Другие, напротив, усматривали критерий
различия в стороне формальной, т. е. в способе судебной защиты: право публичное то, которое
охраняется по инициативе власти в порядке суда уголовного или административного, а право частное
то, которое охраняется по инициативе частного лица и в порядке суда гражданского (Тон, у нас
Дювернуа и др.). Но и то, и другое течения разбивались о весьма веские возражения, и неудивительно,
если эти неудачи вызвали появление совершенно скептического отношения к нашему вопросу: нет
вовсе никакого принципиального отличия между правом публичным и частным; самое это деление,
созданное римскими юристами для своих чисто исторических нужд, в настоящее время утратило свое
значение и если еще в теории сохраняется, то лишь исключительно по традиции (Шлоссман, у нас Д.
Гримм).
Но это скептическое настроение может быть понято только как временное состояние научной усталости.
Юриспруденция инстинктивно чувствует, что в основе нашего различия лежит нечто не случайно-
историческое, а глубоко принципиальное; она смутно улавливает глубокую разницу в самом духе права
публичного и частного и, несмотря ни на что, продолжает держаться этого деления как основы всей
научной классификации. И думается, что ее инстинкт ее не обманывает.
Право, как известно, имеет своей общей целью регулирование межчеловеческих отношений. Но если мы
присмотримся ближе к способам или приемам этого регулирования, то мы заметим следующее крупное
различие.
В одних областях отношения регулируются исключительно велениями, исходящими от одного
единственного центра, каковым является государственная власть. Эта последняя своими нормами
указывает каждому отдельному лицу его юридическое место, его права и обязанности по отношению к
целому государственному организму и по отношению к другим отдельным лицам. Только от нее, от
государственной власти, могут исходить распоряжения, определяющие положение каждого отдельного
человека в данной сфере отношений, и это положение не может быть изменено никакой частной волей,
никакими частными соглашениями (еще римские юристы говорили: publicum jus pactis privatorum mutari
non potest). Регулируя все эти отношения по собственному почину и исключительно своей волей,
государственная власть принципиально не может допустить в этих областях рядом с собой никакой
другой воли, ничьей другой инициативы. Поэтому исходящие от государственной власти нормы имеют

здесь безусловный, принудительный характер (jus cogens); предоставляемые ею права имеют в то же
самое время характер обязанностей: они должны быть осуществлены, так как неосуществление права
явится неисполнением сопряженной с ними обязанности (бездействием власти).
Типичным и наиболее ярким образцом описанного приема правового регулирования является
современная организация народной обороны, т. е. военных сил страны. Здесь все сводится к одному
единственному управляющему центру, от которого только и могут исходить нормы, определяющие
жизнь целого и положение каждого отдельного индивида. Эти нормы определяют, подлежит ли данное
лицо воинской повинности или нет; если подлежит, то они властно и принудительно указывают ему его
место в рядах войска, определяют его положение как рядового или офицера в таком-то полку и т. д. И
никакие частные соглашения не могут изменить в этом положении ни одной черточки: я не могу
заменить вас на службе, поменяться с вами полками или предоставить вместо себя место офицера. Все
здесь подчинено одной руководящей воле, одному командующему центру: все здесь централизовано.
Вот этот-то прием юридической централизации и составляет основную сущность публичного права. То,
что так ярко и непосредственно ощущается в сфере военного права, представляет общую характерную
черту всех отраслей права публичного - права государственного, уголовного, финансового и т. д.
К совершенно иному приему прибегает право в тех областях, которые причисляются к сфере права
частного, или гражданского. Здесь государственная власть принципиально воздерживается от
непосредственного и властного регулирования отношений; здесь она не ставит себя мысленно в
положение единственного определяющего центра, а, напротив, предоставляет такое регулирование
множеству иных маленьких центров, которые мыслятся как некоторые самостоятельные социальные
единицы, как субъекты прав. Такими субъектами прав в большинстве случаев являются отдельные
индивиды- люди, но, сверх того, и различные искусственные образования - корпорации или
учреждения, так называемые лица юридические. Все эти маленькие центры предполагаются носителями
собственной воли и собственной инициативы и именно им предоставляется регулирование взаимных
отношений между собой. Государство не определяет этих отношений от себя и принудительно, а лишь
занимает позицию органа, охраняющего то, что будет определено другими. Оно не предписывает
частному лицу стать собственником, наследником или вступить в брак, все это зависит от самого
частного лица или нескольких частных лиц (контрагентов по договору); но государственная власть
будет охранять то отношение, которое будет установлено частной волей. Если же она и дает свои
определения, то, по общему правилу, лишь на тот случай, если частные лица почему-либо своих
определений не сделают, следовательно - лишь в восполнение чего-либо недостающего. Так, например,
на случай отсутствия завещания государство определяет порядок наследования по закону. Вследствие
этого нормы частного права, по общему правилу, имеют не принудительный, а лишь субсидиарный,
восполнительный характер и могут быть отменены или заменены частными определениями (jus
dispositivum). Вследствие же этого гражданские права суть только права, а не обязанности: субъект,
которому они принадлежат, волен ими пользоваться, но волен и не пользоваться; неосуществление
права не составляет никакого правонарушения.
Таким образом, если публичное право есть система юридической централизации отношений, то
гражданское право, наоборот, есть система юридической децентрализации: оно по самому своему
существу предполагает для своего бытия наличность множества самоопределяющихся центров. Если
публичное право есть система субординации, то гражданское право есть система координации; если
первое есть область власти и подчинения, то второе есть область свободы и частной инициативы[1].
Таково в самом схематическом виде принципиальное различие между правом публичным и частным.
Однако при этом нужно иметь в виду следующее.
1.Граница между публичным и частным правом на протяжении истории далеко не всегда проходила в
одном и том же месте, области одного и другого многократно менялись. То, что в одну эпоху
регулировалось по началам юридической децентрализации и, следовательно, относилось к области
частного права, в другую эпоху перестраивалось по типу юридической централизации и таким образом
переходило в область публичного права, и наоборот. Мы не можем здесь вдаваться во всестороннее
исследование исторического взаимоотношения между этими областями, но укажем некоторые примеры
подобного перестроения.
3. Отграничение гражданского права от смежных отраслей.

2. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права
2.1. Гражданское и административное право
Представление о гражданском праве будет более полным и ясным в случае его четкого и
последовательного размежевания с примыкающими к нему иными отраслями права. Любая
деятельность человека требует определенной организации. Поэтому в любой сфере деятельности
человека неизбежно складываются организационные отношения[
1
]. Те организационные отношения,
которые возникают в сфере производства, распределения, обмена или потребления, самым тесным
образом связаны с возникающими там же имущественно-стоимостными отношениями. Так, для занятия
строительной деятельностью необходимо получить лицензию от компетентного органа
государственного управления. Поэтому между строительной организацией и органом государственного
управления возникает организационное отношение по получению лицензии, тесно связанное с
имущественно-стоимостными отношениями, в которые вступает строительная организация в процессе
выполнения строительных работ. Однако природа организационных отношений предопределяет их
правовое регулирование посредством обязывающих предписаний, опирающихся на властные
полномочия органа государственного управления. Поэтому складывающиеся в различных сферах
деятельности человека организационные отношения, как бы тесно они ни были связаны с
имущественно-стоимостными отношениями, регулируются нормами административного права, в
котором применяется метод власти-подчинения. Так, нормами административного права регулируются
отношения между соответствующими комитетами по управлению государственным имуществом и
находящимися в их ведении государственными учреждениями по наделению последних необходимым
имуществом.
2.2. Гражданское и трудовое право
Для разграничения гражданского и трудового права принципиальное значение имеет то обстоятельство,
что в соответствии со сложившейся в нашей стране традицией рабочая сила не признавалась, а зачастую
и сейчас не признается товаром. В силу этого полагают, что имущественные отношения, возникающие в
результате найма рабочей силы, не носят стоимостного характера. Поэтому их правовое регулирование
должно осуществляться особой самостоятельной отраслью трудового права[
2
].
Однако по мере перехода к рыночной экономике и формирования рынка труда все более явственно
просматривается товарный характер отношений, возникающих по поводу трудовой деятельности
человека. Поэтому указанные отношения, в принципе, должны входить в предмет гражданского права и
регулироваться соответствующим структурным подразделением гражданского законодательства.
В настоящее же время в сфере правового регулирования трудовых отношений используются лишь
некоторые гражданско-правовые элементы, и сохраняется исторически сложившаяся практика
правового регулирования трудовых отношений без учета их стоимостного характера. Последнее
является одной из причин неэффективности нашего производства. Несмотря на это, практика правового
регулирования трудовых отношений без учета их стоимостного характера находит свое теоретическое
обоснование в подавляющем большинстве работ представителей науки трудового права.
1
Гражданское право. Том I / Под ред. Е.А. Суханова. М. 2004. С. 12.
2
Куренной А.М., Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Современные проблемы российского трудового права // Правоведение. 1997. №
2. С. 19 – 40.
2.3. Гражданское и финансовое право
Имущественные отношения, которые возникают в процессе деятельности органов государственного
управления в связи с накоплением денежных средств и распределением их на общегосударственные
нужды, лишены стоимостного признака. В рамках указанных отношений деньги не выступают как мера
стоимости, а выполняют функцию средства накопления. Их движение осуществляется по прямым
безэквивалентным связям, не носящим взаимооценочного, а стало быть и стоимостного характера.
Поэтому указанные имущественные отношения регулируются нормами финансового права. Это нашло
отражение в п. 3 ст. 2 ГК, в котором предусмотрено, что к имущественным отношениям, основанным на
административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и
другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется,
если иное не предусмотрено законодательством.
Вместе с тем между властным органом государственного управления и участником гражданского
оборота могут складываться правоотношения, основанные не только на властном подчинении одной
стороны другой, но и на юридическом равенстве сторон. В последнем случае к указанным
правоотношениям применяются нормы гражданского, а не налогового, финансового или иного
административного законодательства. Так, в случае причинения вреда имуществу юридического лица
работником налоговой полиции при исполнении им своих служебных обязанностей между
соответствующим органом налоговой полиции и указанным юридическим лицом складывается
имущественное правоотношение, в рамках которого орган налоговой полиции не обладает властными
полномочиями и находится в юридически равном положении с организацией, которой был причинен
имущественный вред работником налоговой полиции.

3. Дискуссия о семейном праве
Семья представляет собой экономическую ячейку общества. Поэтому между членами семьи не могут не
устанавливаться имущественные отношения. Однако характер этих отношений получил различную
оценку в литературе. В условиях социалистического общества большинство авторов пришло к выводу о
том, что складывающиеся между членами семьи имущественные отношения в силу их сугубо личного
характера утрачивают стоимостный признак и поэтому должны регулироваться не гражданским правом,
а особой самостоятельной отраслью – семейным правом[
3
].
Во многом данный вывод был предопределен стремлением подчеркнуть качественное различие между
семейными отношениями в социалистическом и буржуазном обществе.
По мере перехода к рыночной экономике характер имущественных отношений, возникающих между
членами семьи, меняется. В условиях рыночной экономики имущественно-стоимостные отношения
устанавливаются между всеми участниками гражданского оборота. Не составляют исключения и
имущественные отношения между членами семьи. Личный характер взаимоотношений между членами
семьи действительно накладывает особый отпечаток на возникающие между ними имущественные
отношения, но не меняет их природы, предопределенной товарным характером производства. В
противном случае семья не может выполнять функцию экономической ячейки общества, основанного
на товарном производстве. Имущественные отношения, складывающиеся внутри экономической ячейки
общества, не могут качественно отличаться от имущественных отношений, господствующих в данном
обществе. Поэтому имущественные отношения между членами семьи в условиях рыночной экономики
неизбежно приобретают стоимостный характер. Подтверждением тому служат последние изменения в
семейном законодательстве, связанные с расширением сферы гражданско-правового инструментария в
регулировании семейных отношений. Так, в соответствии с новым СК РФ допускается заключение
брачного контракта, возможность перехода от общей совместной к общей долевой или раздельной
собственности супругов и т. д. Стоимостный характер имущественных отношений между членами
семьи обусловил также перевод целого ряда правовых норм, которые традиционно «прописывались» в
актах брачно-семейного законодательства, в ГК (ст. 31 – 41, 47, 256 и др.). Взаимооценочный характер
носят и личные неимущественные отношения с участием членов семьи[
4
]. Наличие в отношениях между
членами семьи и с их участием предметного признака гражданского права (взаимооценочный характер
отношений) неизбежно предопределяет необходимость применения к ним общих норм гражданского
права. Поэтому ст. 4 СК РФ устанавливает, что к имущественным и личным неимущественным
отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным законодательством, применяется
гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных
отношений.
С учетом изложенного предпочтительнее в настоящее время позиция тех авторов, которые
рассматривают семейное право как внутреннее структурное подразделение гражданского права. При
этом по своему логическому объему и специфике семейное право образует наиболее крупное
структурное подразделение гражданского права, именуемое подотраслью гражданского права.
3
Свердлов Г.М. Советское семейное право. М., 1958. С. 23.
4
Нечаева A.M. Семейное право. Курс лекций. М, 2002. С. 47.
Заключение
Гражданское право составляет основу частноправового регулирования. Тем самым определяется его
место в правовой системе как основной, базовой отрасли, предназначенной для регулирования частных,
прежде всего имущественных отношений.
Из этого следует, что общие нормы и принципы гражданского права могут применяться для
регулирования любых отношений, входящих в частноправовую сферу, если на этот счет отсутствуют
прямые предписания специального законодательства (т. е. в субсидиарном, восполнительном порядке).
Это касается, прежде всего, сферы семейного права, где такое положение получило прямое
законодательное закрепление (ст. 4 Семейного кодекса РФ), но также и частноправовых отношений,
затрагиваемых институтами трудового, природоресурсового, экологического права. Именно на этом, в
частности, базируются небезосновательные попытки судебной практики использовать в отношениях,
возникающих при необоснованном расторжении или изменении трудового договора, гражданско-
правовые нормы о возмещении морального вреда.
Напротив, нормы трудового или, например, семейного права не могут использоваться для восполнения
пробелов в сфере гражданско-правового регулирования ни при каких условиях.
Таким образом, гражданское право занимает центральное, ключевое место в частноправовой сфере и в
целом в регламентации большинства имущественных и многих неимущественных отношений.
Косвенным показателем этого являются даже распространенные, хотя и необоснованные попытки
применения гражданско-правовых норм к имущественным отношениям, входящим в предмет
публичного, а не частного права.

Принципы гражданского права.
О принципах гражданского права говорится в ст.1 ГК.
Принципы гражданского права:
Равенство участников гражданских отношений - ст.17 ГК признает за всеми гражданами равную
правоспособность, а п.4. ст.212 ГК говорит о том, что права всех собственников защищаются равным
образом.
Неприкосновенность собственности - ст.35 Конституции РФ гласит - "никто не может быть лишен
имущества иначе как по решению суда". Принудительное изъятие имущества может быть только на
возмездной основе. Однако в некоторых случаях собственника можно лишить имущества, ст.242 ГК
говорит о реквизиция имущества с возмещением стоимости, т.е. у собственника можно принудительно
выкупить имущество. Если собственник обращается не должным образом с культурными ценностями,
то они также могут быть выкуплены - ст.240 ГК. Для государственных и муниципальных нужд может
быть изъят земельный участок с полным возмещением имущества + упущенной выгоды. Ст.241 ГК - у
собственника можно изъять животное при жестоком обращении с ним, хотя все домашние животные
относятся к вещам, недопустимо также жестокое и негуманное отношение к животным (ст.245 УК).
Ст.243 ГК говорит о возможности конфискации собственности.
Свобода договора - это новелла в ГК. Теперь каждый вправе решать, заключать ему договор или нет.
Каждый выбирает себе контрагента. Возможна свобода в выборе любой модели договора, как
предусмотренной ГК, так и нет. Стороны вправе включать любые условия в договор не противоречащие
действующему законодательству.
Недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела - ст.23 Конституции РФ
предусматривает неприкосновенность частной жизни и т.п.
Необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав - ст.34 Конституции РФ - каждый
имеет право на свободное использование имущественных возможностей.
Обеспечение восстановления нарушенных прав - это положение, один из способов восстановления
нарушенных прав. Например, о гражданине распускаются слухи в газете, судебным решением эту газету
заставляют напечатать опровержение и возместить моральный ущерб. Но для этого необходимо
обратиться в суд с виндикационным иском.
Судебная защита нарушенного права - данный принцип базируется на ст.46 КРФ.
Приобретение юридическими и физическими лицами гражданских прав по своей воле и своим
интересам. Воля - это осознанный и целенаправленный выбор своего поведения и его последствий.
Интерес - это желание получить определенный благоприятный результат от своей деятельности. Сделка
с несовершеннолетним (до 14 лет) обычно считается недействительной, если же она совершена с
выгодой для несовершеннолетнего, то сделку могут признать действительной.
Свободное перемещение товаров услуг и финансов на всей территории РФ. Это положение базируется
на ст.8 КРФ "единство экономического пространства...". Ограничения в этой сфере могут
устанавливаться только федеральными законами.
Система гражданского права.
Система гражданского права- совокупность всех институтов гражданского права в их единстве и
разграничении. Институт гражданского права - совокупность норм, регулирующих внутри данной
отрасли определённую группу общественных отношений (например, институт права собственности,
институт купли-продажи, институт наследования). Система гражданского права представлена в
Гражданском кодексе РФ, его разделы соответствуют наиболее крупным институтам (подотраслям)
гражданского права, таких, как общие положения, право собственности и другие вещные права,
обязательственное право, интеллектуальная собственность, наследственное право, международное
частное право.
Гражданское законодательство.
ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО -в РФ совокупность норм, определяющих правовой статус
участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права

собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности (интеллектуальной собственности), регулирующих договорные и иные обязательства, а
также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. Г.з. регулирует и
отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием.
В соответствии с Конституцией РФ Г.з. находится в ведении РФ и состоит из ГК РФ и принятых в
соответствии с ним иных федеральных законов. Отношения, составляющие предмет Г.з., могут
регулироваться также указами Президента РФ, которые не должны противоречить ГК РФ, иным
законам. На основании и во исполнение ГК РФ (иных законов, указов Президента РФ) Правительство
РФ вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского права. Министерства и иные
федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского
права, в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами.
Гражданское правоотношение: содержание, форма.
1. Понятие гражданского правоотношения
Правоотношение является разновидностью общественных отношений, которые регулируют социальные
связи между различными субъектами права.
В юридической науке сложились два основных понятия правоотношения:
общественное отношение, урегулированное нормами права;
правовая форма общественных отношений.
Правоотношение по своей характеристике должно отвечать следующим признакам.
1. Правоотношение — это такое общественное отношение, которое предусмотрено нормами права.
Норма права предусматривает условия возникновения, изменения и прекращения правоотношения,
заложенные в гипотезе конкретного правила. Они называются юридическими фактами. В диспозиции
нормы указаны права и обязанности участников данного правоотношения, а также предусмотренные
законом ограничения и запреты. Санкция юридической нормы моделирует охранительное
правоотношение, которое может возникнуть при нарушении данного правила субъектами права.
2. Правоотношение должно содержать интеллектуальный и волевой моменты.
Интеллектуальный элемент включает в себя осознанность поведения участников правоотношения,
которое регулируется нормами права. Волевой элемент — это установленная волей государства
способность правовой нормы регулировать социальное поведение всех субъектов права, а также,
способность конкретного субъекта правоотношения осознавать свои действия и руководить своими
поступками.
3. Правоотношение предусматривает наличие юридической связи между субъектами права.
Данное понятие реализуется через принцип “Нет прав без обязанностей и обязанностей без прав”.
4. Основное содержание правоотношения заключается в наличии субъективных прав и обязанностей
сторон как субъектов этого правоотношения.
Абстрактное правило поведения практически реализуется с появлением юридических фактов,
предусмотренных в гипотезе конкретной нормы, и через участников гражданского правоотношения
превращается в образец для соблюдения применительно к конкретной жизненной ситуации.
Для полной характеристики гражданского правоотношения необходимо установить основания его
возникновения, определить субъектный состав и показать, что является его объектом, а также выявить
его содержание и структуру.
Характеристика гражданского правоотношения включает в себя ряд особенностей, которые позволяют
отграничить их от других видов правоотношений.
1. Субъекты гражданского правоотношения равны между собой, в имущественном и организационном
плане самостоятельны и независимы друг от друга.
2. В гражданских правоотношениях участвуют все субъекты гражданского права (физические и
юридические лица, муниципальные образования, субъекты РФ и Российская Федерация) и используется
в гражданском обороте весь арсенал объектов гражданских прав (вещи, имущественные права, работы и
услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности и нематериальные блага).
