Лотман Ю.М. Семиосфера
Подождите немного. Документ загружается.


отвечающее некоторым интуитивно приписываемым культуре, при любом истолковании термина,
чертам. Укажем лишь на две из них. Во-первых, в основу всех определений положено убеждение,
что культура имеет признаки. При кажущейся тривиальности этого утверждения оно наделено не
лишенным значения содержанием: из него вытекает утверждение, что культура никогда не
представляет собой универсального множества, а лишь некоторое определенным образом
организованное подмножество. Она никогда не включает в себя всё, образуя некоторую особым
образом отгороженную сферу. Культура мыслится лишь как участок, замкнутая область на фоне
не-культуры. Характер противопоставления будет меняться: не-культура может представать как
непричастность к определенной религии, некоторому знанию, некоторому типу жизни и
поведения. Но всегда культура будет нуждаться в таком противопоставлении. При этом именно
культура будет выступать как маркированный член оппозиции. Во-вторых, все многообразие
отграничений культуры от не-культуры, по сути дела, сводится к одному: на фоне не-культуры
культура выступает как знаковая система. В частности, будем ли мы говорить о таких признаках
культуры, как «сделанность» (в антитезе «природности»), «условность» (в антитезе «естествен-
ности» и «безусловности»), способность конденсировать человеческий опыт (в отличие от
природной первозданности), — во всех случаях мы имеем дело с разными аспектами знаковой
сущности культуры.
Показательно, что смена культур (в частности, в эпохи социальных катаклизмов)
сопровождается обычно резким повышением семиотичности поведения (что может выражаться
даже в изменении имен и названий), причем и борьба со старыми ритуалами может принимать
сугубо ритуализованный характер. В то же время не только введение новых форм поведения, но и
1
Статья написана совместно с Б. А. Успенским.
2
См.: Kroeber Α., Kluckholm С. Culture: A Critical Review of Concepts and Définitions // Papers of Peabody
Muséum. Cambridge (Mass.), 1952; Kloskowska A. Kultura masowa. Warszawa, 1964; Benedict R. Patterns of
culture. Cambridge (Mass.), 1934; Comparative Research across Cultures and Nations / Ed. by S. Rokkan. Paris;
The Hague, 1968; Mauss M. Sociologie et anthropologie. Paris, 1966; Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale.
Pans, 1958; Simons J. Claude Lévi-Strauss ou la «Passion de l'inceste»: Introduction au structuralisme. Paris, 1968.
486
усиление знаковости (символичности) старых форм может свидетельствовать об
определенном изменении типа культуры. Так, если деятельность Петра в России в большей
степени свелась к той борьбе со старыми ритуалами и символами, которая на деле выразилась в
создании новых знаков (например, отсутствие бороды стало столь же обязательным, как ранее ее
наличие, ношение платья иностранного покроя стало столь же непременным, как ранее —
ношение русской одежды
1
, и т. д. и т. п.), то деятельность Павла выразилась в резком усилении
знаковости уже имеющихся форм, в частности, в повышении их символического характера (ср.
увлечение в это время генеалогической символикой, символикой парадов, языком церемониала и
т. п., а с другой стороны — борьбу со словами, звучавшими как символы иной идеологии; ср. еще
такие подчеркнуто символические акты, как выговор умершему, вызов государей на дуэль и т. п.).
Одним из наиболее существенных вопросов является отношение культуры к естественному
языку. В предшествующих изданиях Тартуского университета (семиотическая серия) явления
культурного ряда определялись как вторичные моделирующие системы. Тем самым выделялся их
производный по отношению к естественным языкам характер. В ряде работ, следуя гипотезе
Сепира — Уорфа, подчеркивалось и исследовалось влияние языка на различные проявления
человеческой культуры. В последнее время Э. Бенвенист подчеркнул, что только естественные
языки могут выполнять метаязыковую роль и в этом отношении занимают совершенно особое
место в системе человеческих коммуникаций
2
. Однако представляется спорным, когда автор в
этой статье предлагает только естественные языки считать собственно семиотическими
системами, определяя все остальные культурные модели как семантические — не имеющие
собственного упорядоченного семиозиса и заимствующие его из сферы естественных языков. При
всей целесообразности противопоставления первичной и вторичной моделирующих систем (без
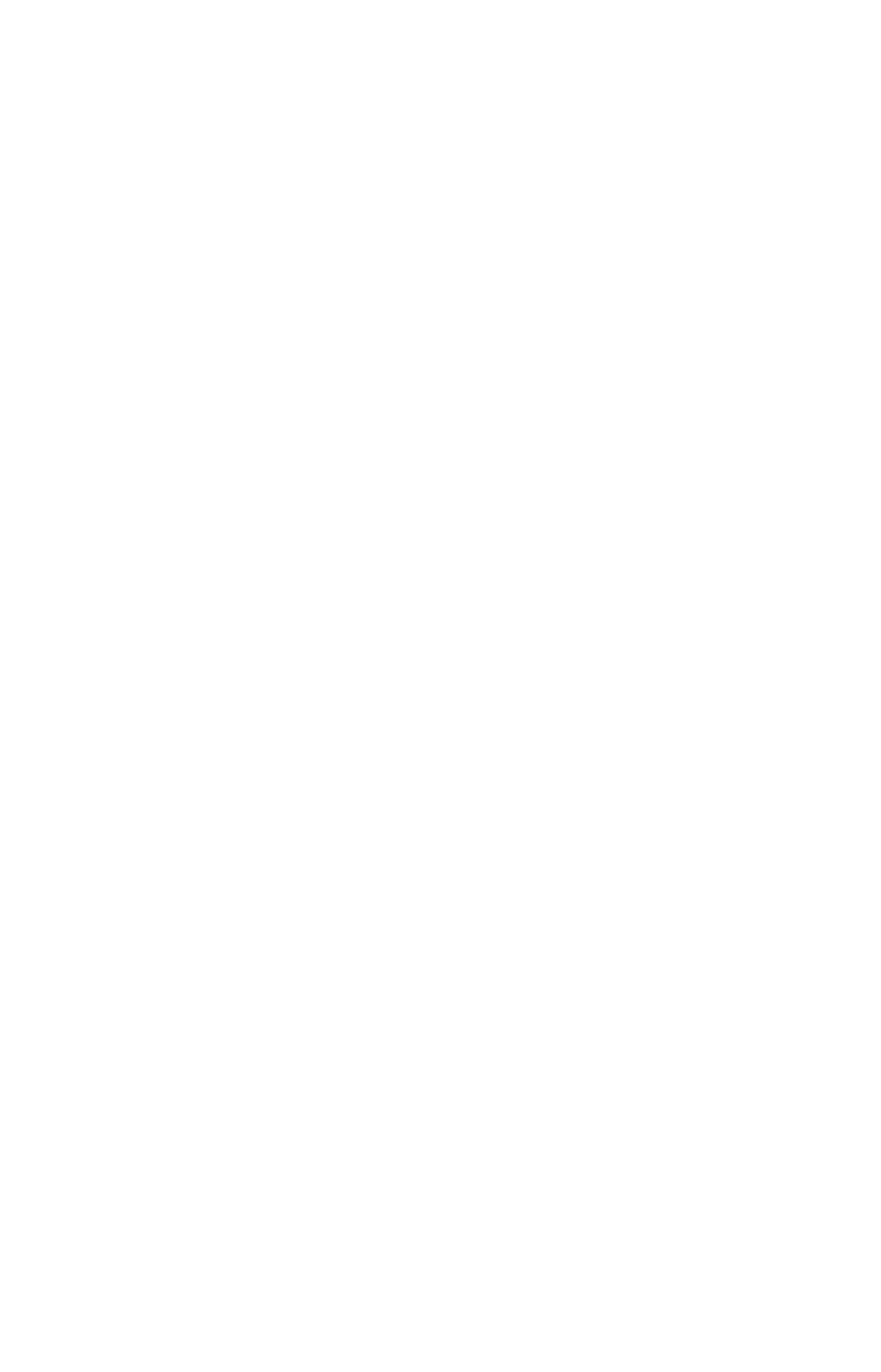
такого противопоставления невозможно выделить специфику каждой из них), уместно было бы
подчеркнуть, что в реально-историческом функционировании языки и культура неотделимы:
невозможно существование языка (в полнозначном пони-
1
Ср. специальные петровские указы о форме платья, которое делалось обязательным для ношения. Так,
в 1700 г. предписывалось носить платье венгерского образца, в 1701 г. — немецкого, в 1702 г. — в
праздничные дни назначалось носить французские кафтаны; см.: Полное собрание законов Российской
Империи. Ст. 1741, 1898, 1899. Соответственно в 1714 г. петербургских торговцев, продававших русское
платье неуказанного образца, велено было бить кнутом и ссылать на каторгу, а в 1715г. было велено
ссылать на каторгу тех, кто будет торговать гвоздями для подковки сапогов и башмаков (см.: Там же. Ст.
2874 и 2929). Ср., с другой стороны, протесты против иностранного платья как в допетровское время, так и
у старообрядцев, которые выступают как носители допетровской культуры (заметим, что старообрядцы и
до наших дней могут со -хранять одежду допетровского покроя, употребляя ее при богослужении; еще
более архаичной может являться у них похоронная одежда — см. статьи Н. П. Гринковой об одежде в кн.:
Бухтарминские старообрядцы. Л., 1930). Нетрудно видеть, что сам характер отношения к знаку и общий
уровень семиотичности культуры до Петра и при нем в данном случае остается одним и тем же.
2
Benveniste É. Sémiologie de la langue // Semiotica. 1969. Vol. 1. № 1.
487
мании этого слова), который не был бы погружен в контекст культуры, и культуры, которая не
имела бы в центре себя структуры типа естественного
языка.
В порядке научной абстракции можно представить себе язык как изолированное явление.
Однако в реальном функционировании он влит в более общую систему культуры, составляет с
ней сложное целое. Основная «работа» культуры, как мы постараемся показать, — в структурной
организации окружающего человека мира. Культура — генератор структурности, и этим она
создает вокруг человека социальную сферу, которая, подобно биосфере, делает возможной жизнь,
правда не органическую, а общественную.
Но для того чтобы выполнить эту роль, культура должна иметь внутри себя структурное
«штампующее устройство». Его-то функцию и выполняет естественный язык. Именно он
снабжает членов коллектива интуитивным чувством структурности, именно он своей очевидной
системностью (по крайней мере, на низших уровнях), своим преображением «открытого» мира
реалий в «закрытый» мир имен заставляет людей трактовать как структуры явления такого
порядка, структурность которых, в лучшем случае, не является очевидной
1
. При этом
оказывается, что в целом ряде случаев несущественно, является ли то или иное
смыслообразующее начало структурой в собственном значении. Достаточно, чтобы участники
коммуникации считали его структурой и пользовались им как структурой, для того чтобы оно
начало обнаруживать структуроподобные свойства. Понятно, как важно наличие в центре
системы культуры такого мощного источника структурности, как язык.
Презумпция структурности, вырабатываемая в результате навыка языкового общения,
оказывает мощное организующее воздействие на весь комплекс коммуникативных средств. Таким
образом, вся система сохранения и передачи человеческого опыта строится как некоторая
концентрическая система, в центре которой расположены наиболее очевидные и
последовательные (так сказать, наиболее структурные) структуры. Ближе к периферии
располагаются образования, структурность которых не очевидна или не доказана, но которые,
будучи включены в общие знаково-коммуникативные ситуации, функционируют как структуры.
Подобные квазиструктуры занимают в человеческой культуре, видимо, очень большое место.
Более того, именно определенная внутренняя неупорядоченность, не до конца организованность
обеспечивает человеческой культуре и большую внутреннюю емкость, и динамизм, неизвестные
более стройным системам.
Мы понимаем культуру как ненаследственную память коллектива, выражающуюся в
определенной системе запретов и предписаний. Эта формулировка, если с ней согласиться,
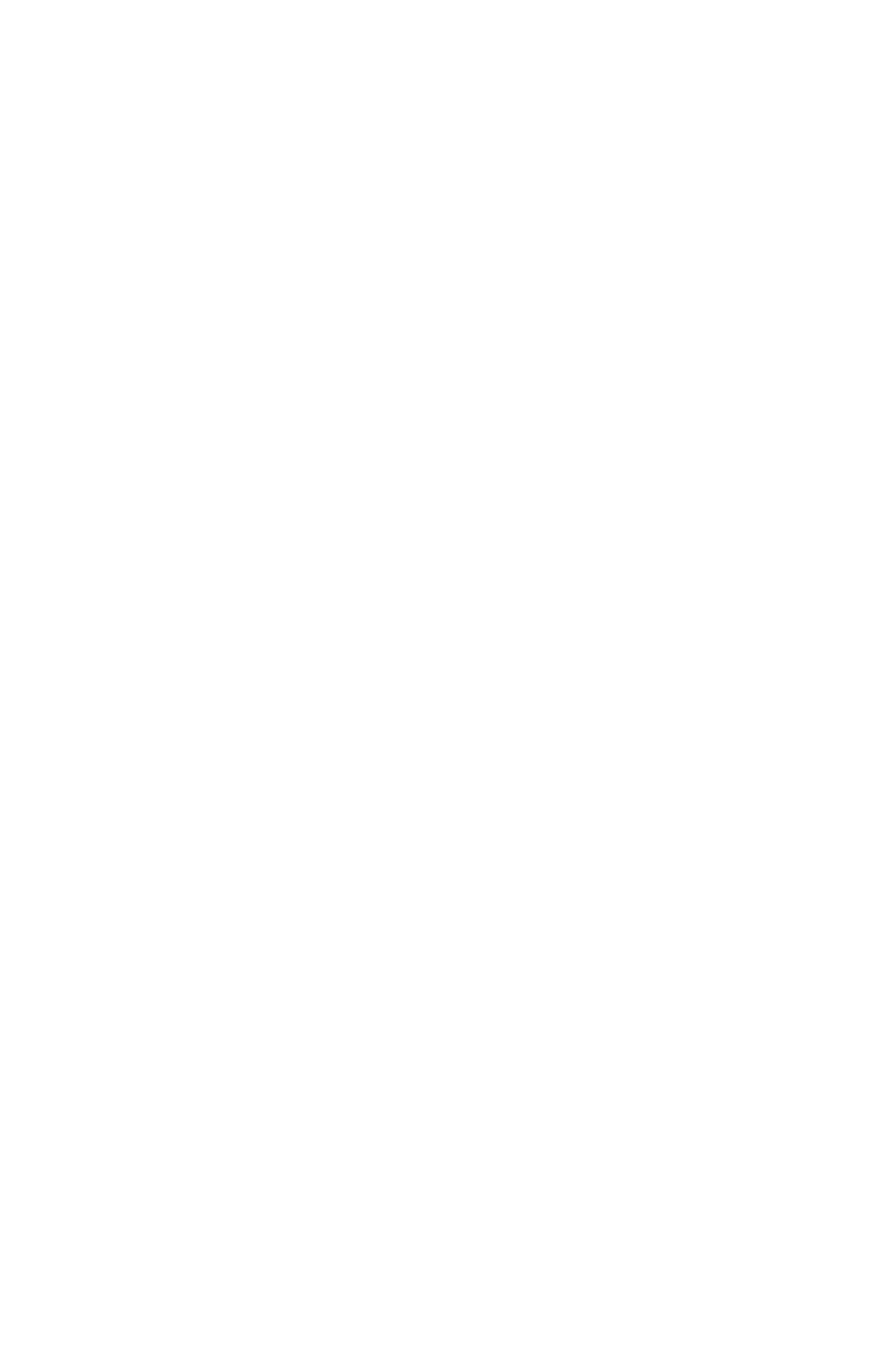
предполагает некоторые следствия.
Прежде всего, из сказанного следует, что культура по определению есть социальное явление.
Это положение не исключает возможности индивиду-
1
Так, например, структурность истории составляет исходную аксиому нашего подхода, ибо в
противном случае исключается возможность накопления исторического опыта. Однако ни доказана, ни
опровергнута путем доказательства эта идея быть не может, поскольку мировая история не закончена и мы
погружены в нее.
488
альной культуры, в случае, когда единица осмысляет себя в качестве представителя
коллектива, или же во всех случаях автокоммуникации, при которых одно лицо выполняет — во
времени или в пространстве — функции разных членов коллектива и фактически образует
группу. Однако случаи индивидуальной культуры неизбежно исторически вторичны.
С другой стороны, в зависимости от ограничений, налагаемых исследователем на
рассматриваемый материал, можно говорить об общечеловеческой культуре вообще, о культуре
того или иного ареала или того или иного времени, наконец, того или иного социума, который
может меняться в своих размерах, и т. д.
В дальнейшем, поскольку культура есть память, или, иначе говоря, запись в памяти уже
пережитого коллективом, она неизбежно связана с прошлым историческим опытом.
Следовательно, в момент возникновения культура не может быть констатирована как таковая, она
осознается лишь post factum. Когда говорят о создании новой культуры, то имеет место
неизбежное забегание вперед, то есть подразумевается то, что (как предполагается) станет
памятью с точки зрения реконструируемого будущего (естественно, что правомерность такого
предположения способно показать только само будущее).
Таким образом, программа (поведения) выступает как обращенная система: программа
направлена в будущее — с точки зрения составителя программы, культура обращена в прошлое
— с точки зрения реализации поведения (программы). Из этого следует, что разница между
программой поведения и культурой функциональна: один и тот же текст может быть тем или
другим, различаясь по функции в общей системе исторической жизни данного коллектива.
Вообще, определение культуры как памяти коллектива ставит вопрос о системе
семиотических правил, по которым жизненный опыт человечества претворяется в культуру; эти
последние, в свою очередь, и могут трактоваться как программа. Само существование культуры
подразумевает построение системы, правил перевода непосредственного опыта в текст. Для того
чтобы то или иное историческое событие было помещено в определенную ячейку, оно прежде
всего должно быть осознано как существующее, то есть его следует отождествить с
определенным элементом в языке запоминающего устройства. Далее оно должно быть оценено в
отношении ко всем иерархическим связям этого языка. Это означает, что оно будет записано, то
есть станет элементом текста памяти, элементом культуры. Таким образом, внесение факта в
коллективную память обнаруживает все признаки перевода с одного языка на другой, в данном
случае — на «язык культуры».
Специфическим вопросом культуры как механизма по организации и хранению информации в
сознании коллектива является долгосрочность. Вопрос этот имеет два аспекта:
1. Долгосрочность текстов коллективной памяти.
2. Долгосрочность кода коллективной памяти.
В определенных случаях эти два аспекта могут не находиться в прямом соответствии: так,
разного рода суеверия можно рассматривать как элементы
489
текста старой культуры с утраченным кодом, то есть как тот случай, когда текст переживает
код. Сравним:
Предрассудок! он обломок Древней правды. Храм упал; А руин его — потомок Языка не разгадал.

Е. А. Баратынский
Каждая культура создает свою модель длительности своего существования, непрерывности
своей памяти. Она соответствует представлению о максимуме временной протяженности,
практически составляя «вечность» данной культуры. Поскольку культура осознает себя как
существующую, лишь идентифицируя себя с константными нормами своей памяти,
непрерывность памяти и непрерывность существования обычно отождествляются.
Характерно, что многие структуры вообще не допускают возможности сколько-нибудь
существенного изменения в отношении актуальности сформулированных ею правил, иначе
говоря, возможности какой-либо переоценки ценностей. Тем самым культура весьма часто бывает
не рассчитана на знание о будущем, причем будущее представляется как остановившееся время,
как растянувшееся «сейчас»; это непосредственно связано именно с ориентацией на прошлое,
которая и обеспечивает необходимую стабильность, выступающую в качестве одного из условий
существования
культуры.
Долгосрочность текстов образует внутри культуры иерархию, обычно отождествляемую с
иерархией ценностей. Наиболее ценными могут считаться тексты предельно долговечные с точки
зрения и по меркам данной культуры или панхронные (хотя возможны и «сдвинутые» культурные
аномалии, в которых высшая ценность приписывается мгновенности). Этому может соот-
ветствовать иерархия материалов, на которых фиксируются тексты, и иерархия мест и способов
их хранения.
Долгосрочность кода определяется константностью его основных структурных моментов и
внутренним динамизмом — способностью изменяться, сохраняя при этом память о
предшествующих состояниях и, следовательно, самосознание единства.
Рассматривая культуру как долгосрочную память коллектива, мы можем выделить три типа ее
заполнения:
1. Количественное увеличение объема знаний. Заполнение различных ячеек иерархической
системы культуры различными текстами.
2. Перераспределение в структуре ячеек, в результате чего меняется само понятие «факт,
подлежащий запоминанию», и иерархическая оценка записанного в памяти. Постоянная
переорганизация кодирующей системы, которая, оставаясь собой в своем собственном
самосознании и мысля себя как непрерывную, неустанно переформировывает частные коды, чем
обеспечивает увеличение объема памяти за счет создания «неактуальных», но могущих
актуализироваться резервов.
3. Забывание. Превращение цепочки фактов в текст неизменно сопровождается отбором, то
есть фиксированием одних событий, переводимых в
490
элементы текста, и забыванием других, объявляемых несуществующими. В этом смысле
каждый текст способствует не только запоминанию, но и забвению. Поскольку же отбор
подлежащих запоминанию фактов каждый раз реализуется на основании тех или иных
семиотических норм данной культуры, следует предостеречь от отождествления событий
жизненного ряда и любого текста, каким бы «искренним», «безыскусным» или непосредственным
он ни казался. Текст — не действительность, а материал для ее реконструкции. Поэтому
семиотический анализ документа всегда должен предшествовать историческому. Создав правила
реконструкции действительности по тексту, исследователь сможет вычитать в документе и то, что
с точки зрения его создателя не являлось «фактом», подлежало забвению, но что может
совершенно иначе оцениваться историком, поскольку в свете его собственного культурного кода
выступает как событие, имеющее значение.
Однако забвение осуществляется и иным способом: культура постоянно исключает из себя
определенные тексты. История уничтожения текстов, очищения от них резервов коллективной
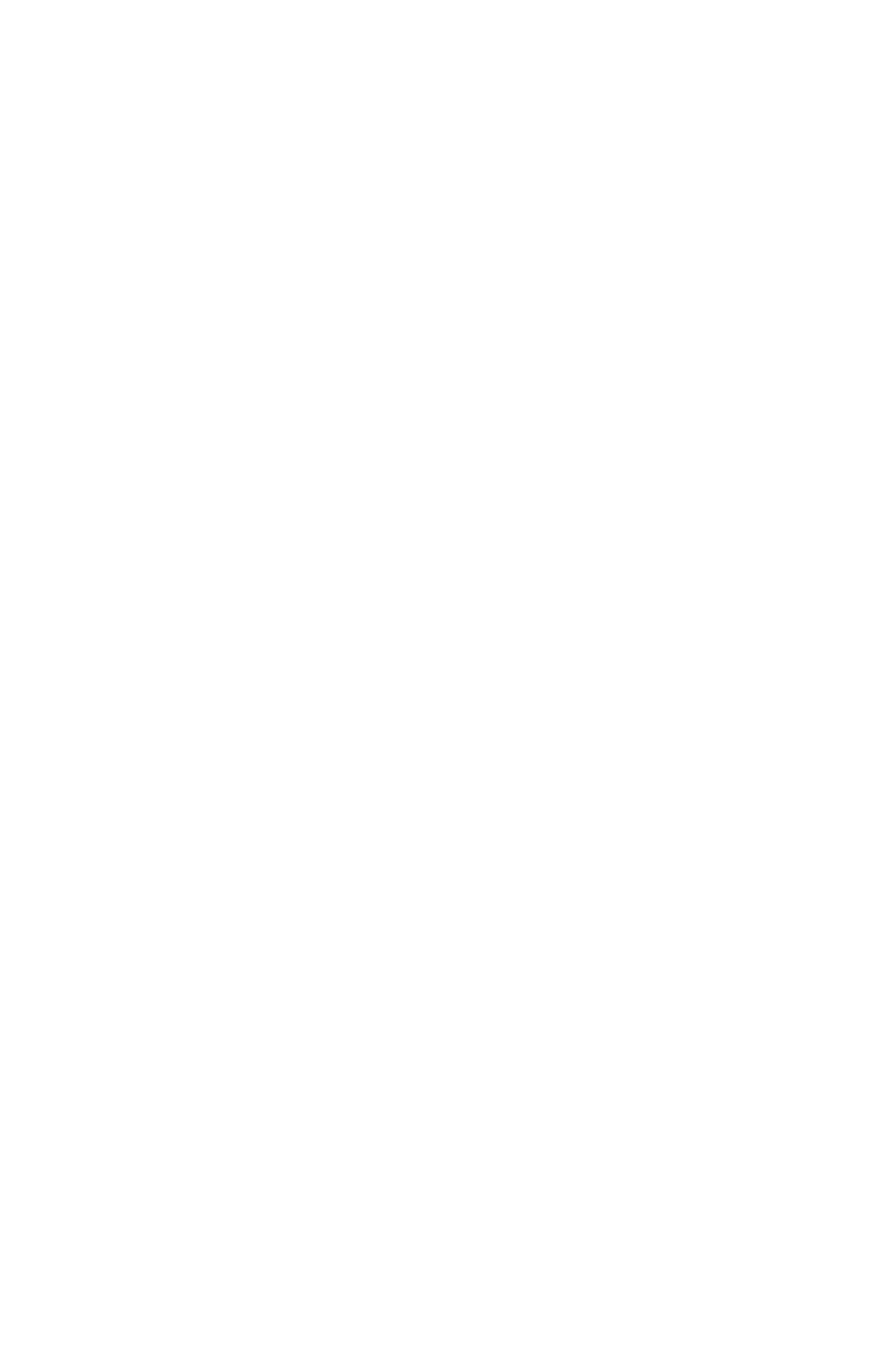
памяти идет параллельно с историей создания новых текстов. Каждое новое направление в
искусстве отменяет авторитетность текстов, на которые ориентировались предшествующие
эпохи, переводя их в категорию не-текстов, текстов иного уровня или физически их уничтожая.
Культура по своей сущности направлена против забывания. Она побеждает его, превращая
забывание в один из механизмов памяти.
Отсюда можно предполагать определенные ограничения в объеме коллективной памяти,
обусловливающие подобное вытеснение одних текстов другими. Но в других случаях
несуществование одних текстов становится непременным условием для существования других в
силу их семантической несовместимости.
Несмотря на видимое сходство, между забыванием как элементом памяти и средством ее
разрушения — глубокая разница. В последнем случае происходит распад культуры как единой
коллективной личности, обладающей непрерывностью самосознания и накопления опыта.
Следует иметь в виду, что одной из наиболее острых форм социальной борьбы в сфере
культуры является требование обязательного забывания определенных аспектов исторического
опыта. Эпохи исторического регресса (наиболее яркий пример — нацистские государственные
культуры в XX в.), навязывая коллективу крайне мифологизированные схемы истории, в ульти-
мативной форме требуют от общества забвения текстов, не поддающихся подобной организации.
Если общественные формации в период подъема создают гибкие и динамические модели, дающие
широкие возможности для коллективной памяти и приспособленные к ее расширению, то
социальный закат, как правило, сопровождается закостенением механизма коллективной памяти и
возрастающей тенденцией к сужению ее объема.
* * *
Семиотика культуры заключается не только в том, что культура функционирует как знаковая
система. Важно подчеркнуть, что само отношение к
491
знаку и знаковости составляет одну из основных типологических характеристик культуры
1
.
Прежде всего, существенно, рассматривается ли отношение между выражением и
содержанием как единственно возможное или произвольное (случайное, конвенциональное).
В первом случае принципиальную важность, в частности, приобретает вопрос, как
называется то или иное явление, и, соответственно, неправильное называние может
отождествляться с иным содержанием (см. ниже). Сравним средневековые поиски имени тех или
иных ипостасей, зафиксированные, между прочим, в масонском ритуале; в этом же плане следует
трактовать и табуистические запрещения, накладываемые на произнесение того или иного имени.
Во втором случае вопрос о названии и вообще о выражении не имеет принципиального
значения, можно сказать, что выражение предстает в этом случае как дополнительный и, в общем,
более или менее случайный фактор по отношению к содержанию.
Соответственно, могут различаться культуры, направленные преимущественно на выражение,
и культуры, направленные преимущественно на содержание. Понятно, что уже самый факт
преимущественной направленности на выражение, строгой ритуализации форм поведения
2
обыкновенно является следствием признания взаимооднозначного (а не произвольного)
соотношения между планом выражения и планом содержания, их принципиальной неот-
делимости (как это характерно, в частности, для средневековой идеологии) или же признания
влияния выражения на содержание. (Можно заметить в этой связи, что в известном смысле
символ и ритуал могут рассматриваться как антиподы: если символ предполагает обычно
внешнее — и относительно произвольное — выражение некоторого содержания, то за ритуалом
признается, напротив, способность формировать содержание, оказывать на него влияние.)
Понятно, с другой стороны, что в условиях культуры, направленной на выражение и
основывающейся на правильном обозначении, в частности на правильном назывании, весь мир
может представать как некоторый текст, состоящий из знаков разного порядка, где содержание

обусловлено заранее, а необходимо лишь знать язык, то есть знать соотношение элементов выра-
1
Ср. замечания о связи эволюции культуры с изменением отношения к знаку в кн.: Foucault M. Les mots
et les choses, une archéologie du savoir. Paris, 1966.
2
Этот признак становится особенно очевидным в той парадоксальной ситуации, когда следование
определенным затратам и предписаниям вступает в конфликт с тем содержанием, которое, собственно
говоря, их обусловливает. «Узы твоя целуем, яко единаго от святых, пособити же тебе не можем», — писал
глава русской церкви митрополит Макарий томящемуся в заточении Максиму Греку, посылая ему свое
благословение (цит. по кн.: Иванов А. И. Литературное наследие Максима Грека. Л., 1969. С. 170). Даже
признаваемая им (Макарием) святость Максима Грека и искреннее его почитание не могут заставить его
облегчить участь последнего; «знаки» ему неподвластны. (Следует полагать, что глава русской церкви
Макарий имел в виду не свое бессилие перед лицом некоторых навязанных ему внешних обстоятельств, но
внутреннюю невозможность преступить соборное решение. Несогласие с содержанием решения не
понижало в его глазах авторитетность решения как такового.)
492
жения и содержания; иначе говоря, познание мира приравнивается к филологическому
анализу
1
. Между тем в условиях типологически иных культурных моделей — направленных
непосредственно на содержание — предполагается известная свобода как в выборе содержания,
так и в связи его с выражением.
Культура вообще может быть представлена как совокупность текстов; однако с точки зрения
исследователя точнее говорить о культуре как о механизме, создающем совокупность текстов, и о
текстах как о реализации культуры. Существенной чертой типологической характеристики
культуры может считаться ее самооценка в этом вопросе. Если одним культурам свойственно
представление о себе как о совокупности нормированных текстов (примером может служить
«Домострой»), то другие моделируют себя как систему правил, определяющих создание текстов.
(Иначе можно было бы сказать, что в первом случае правила определяются как сумма
прецедентов, а во втором — прецедент существует только в том случае, если описывается
соответствующим правилом.)
Очевидно, что именно культурам, характеризующимся преимущественной направленностью
на выражение, свойственно представление о себе как о правильном тексте (совокупности
текстов), тогда как культурам, направленным преимущественно на содержание, свойственно
представление о себе как о системе правил. Та или иная ориентированность культуры порождает
и свойственный ей идеал Книги и Учебника, включая внешнюю организацию этих текстов. Так,
если при ориентированности на правила учебник имеет облик порождающего механизма, то в
условиях ориентации на текст появляется характерная форма катехизисного (вопросно-ответного)
изложения, возникает хрестоматия (цитатник, изборник).
Говоря о противопоставлении текста и правил применительно к культуре, важно иметь в виду,
между прочим, что в определенных случаях одни и те же элементы культуры могут выступать в
обеих функциях, то есть и как текст, и как правила. Например, если табу, выступающие как
составная часть общей системы данной культуры, с одной стороны, могут рассматриваться как
элементы (знаки) текста, отражающего нравственный опыт кол-
1
Ср. характерное для разных культур, прежде всего для средневековья, представление о книге как
символе мира (или модели мира). См.: Curtins E. R. Das Buch als Symbol // Curtins E. R. Europäsche Literatur
und lateinisches Mittelalter. 2 aufl. Bern, 1954; Cizevskij D. Das Buch als Symbol des Kosmos // Cizevskij D. Aus
zwei Welten; Beiträge zur Geschichte der slavisch-westlichen literarischen Beziehungen. S'-Gravenhage, 1956;
Берков П. Н. Книга о поэзии Симеона Полоцкого // Литература и общественная мысль Древней Руси. Л.,
1969 (ТОДРЛ. Т. 24). См. также о роли алфавита в представлениях об архитектуре вселенной: Dornseiff F.
Das Alphabet in Mystik und Magie // Στοίχεΐa. 1922. № 7. С. 33 (см. здесь, в частности, замечание о
совпадении 7 ионийских гласных с 7 планетами).
Характерно в связи со сказанным, что скопцы называют Богородицу «животной книгой»; может быть,
здесь можно видеть генетическую связь с распространенным в православии и имеющим еще византийские
корни отождествлением «Премудрости», то есть Софии, с Богоматерью (см. об этом отождествлении:

Успенский Б. А. Из истории русских канонических имен. М., 1969. С. 48—49).
493
лектива, то, с другой стороны, они могут рассматриваться как совокупность магических
правил, предписывающих определенное поведение.
Сформулированное противопоставление — система правил vs. совокупность текстов —
можно проиллюстрировать на материале искусства, выступающего как подсистема культуры в
целом.
Ярким примером системы, эксплицитно ориентированной на правила, будет европейский
классицизм. Хотя исторически теория классицизма создалась как обобщение определенного
художественного опыта, в самооценке этой теории картина была иной: теоретические модели
мыслились как вечные и предшествующие реальному творчеству. В искусстве же текстами, то
есть значимой реальностью, признавались лишь «правильные», то есть соответствующие прави-
лам. В этом смысле особенно интересно то, что, например, Буало считает плохими
произведениями. Плохое в искусстве — это нарушение правил. Но и нарушение правил может
быть описано, по мнению Буало, как выполнение некоторых «неправильных» правил. Поэтому
«плохие» тексты могут классифицироваться, то или иное неудовлетворительное произведение
выступает как пример того или иного типичного нарушения. Не случайно «неправильный» мир
искусства у Буало составлен из тех же элементов, что и правильный, но отличается особой,
запрещенной в «хорошем» искусстве, системой их соединения.
Другой особенностью этого типа культуры является то, что создатель правил занимает
иерархически значительно более высокое место, чем создатель текстов. Так, например, критик в
системе классицизма занимает значительно более почетное место, чем писатель.
В качестве примера противоположного типа можно привести культуру европейского реализма
XIX в. Входившие в него художественные тексты выполняли общественную функцию
непосредственно, не требуя обязательного перевода на метаязык теории. Теоретик строил свои
построения, следуя за искусством. Практически в целом ряде случаев, например в России после
Белинского, критика играла в высшей мере активную и самостоятельную роль. Но тем более
очевидно, что при самоосмыслении собственной позиции Белинский, например, отдавал
приоритет Гоголю, отводя себе место интерпретатора.
Хотя в обоих случаях наличие правил является безусловным минимальным условием создания
культуры, степень введенности их в ее самооценку будет различной. Это можно сопоставить с
обучением языку как системе грамматических правил или же набору употреблений
1
.
В соответствии со сформулированным выше различением культура может
противопоставляться как культуре, так и антикультуре. Если в условиях культуры,
характеризующейся преимущественной направленностью на содержание и представляющей себя
в виде системы правил, основной оппозицией является «упорядоченное — неупорядоченное» (эта
оппозиция в частном случае может реализовываться как противопоставление «космос — хаос»,
«эктропия — энтропия», «культура — природа» и т. п.), то в условиях куль-
1
С этим противопоставлением связаны различные пути «обучения» культуре, которые нами здесь
подробнее не рассматриваются, поскольку составляют предмет специальной статьи.
494
туры, направленной преимущественно на выражение и представляемой в виде совокупности
нормированных текстов, основной оппозицией будет «правильное — неправильное» (именно
«неправильное», а не «не-правильное»: эта оппозиция может приближаться — до совпадения — к
противопоставлению «истинного» и «ложного»). В последнем случае культура
противопоставляется не хаосу (энтропии), но системе с отрицательным знаком. Понятно, вообще,
что в условиях культуры, характеризующейся установкой на однозначное соответствие между
выражением и содержанием и преимущественной направленностью на выражение, — когда мир
предстает как текст и принципиальную важность получает вопрос, «как называется» то или иное

явление, — неправильное называние может отождествляться с иным (а не никаким!) содержа-
нием, то есть с иной информацией, а не с искажениями в информации. Так, например,
неправильно произнесенное слово «ангел» — прочтенное (в соответствии с написанием,
отражающим греческие орфографические нормы) как аггел — воспринималось в средневековой
России как обозначение диавола
1
; совершенно аналогично, когда в результате никоновских
книжных реформ имя Исус стало писаться Иисус, новая форма стала восприниматься как имя
другого существа — не Христа, а антихриста
2
. Не менее характерно, что искаженная форма слова
«Бог» в слове «спасибо» (из «спаси Бог») и сейчас может восприниматься старообрядцами как
имя языческого бога, в связи с чем само слово «спасибо» понимается как обращение к антихристу
(вместо него употребляется обычно «спаси Господи» у старообрядцев-беспоповцев или «спаси
Христос» у старообрядцев-поповцев)
3
. Здесь замечательно пред-
1
См.: Успенский Б. А. Архаическая система церковнославянского произношения. М., 1968. С. 51—53, 78
—82.
2
См.: Успенский Б. А. Из истории русских канонических имен. С. 216.
3
Существует легенда на эту тему, кажется, нигде не записанная, где говорится, что фразу «Спаси, Ба!»
(восходящую к сугубо неправильному акающему произношению) кричали язычники в Киеве, обращаясь к
плывущему по Днепру языческому идолу, которого низверг Владимир Святой. Сама тенденция
отождествления языческого бога с антихристом (сатаной), то есть включения его в систему христианского
мировоззрения, очень характерна для культуры рассматриваемого типа. Ср., например, отождествление
языческого Волоса-Велеса с бесом, при том что в других случаях он мог отождествляться со святым
Власием (см.: Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. К реконструкции образа Велеса-Волоса как противника
громовержца // Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1970. С.
48); ср. также несколько ниже замечания об аналогичном осмыслении эллинского Аполлона. Характерно,
что старообрядческий законоучитель XVIII в. Феодосии Васильев называл диавола: «злый вождь, агнец
неправедный», объясняя со ссылкой на святого Ипполита: «Во всем хочет льстец уподобиться Сыну
Божию: лев Христос, лев антихрист, явися агнец Христос, явится и антихрист агнец...» (см.: Смирнов П. С.
Переписка раскольничьих деятелей начала XVIII в. // Христианское чтение. 1909. № 1. С. 48—55).
Поскольку в средневековом типе культуры задается сумма правильных текстов и представление о
зеркальной соотнесенности правильного и неправильного, отмеченные тексты конструируются из
сакральных в результате применения к ним системы антитетических замен. Разительный пример этого — в
русских заговорах замена правильного наименования «раб божий» на «черное» «пар божий» (зеркальное
прочтение с учетом оглушения конечного звонкого). См.: Астахова А. М. Заговорное искусство на реке
Пинеге // Крестьянское искусство СССР. Л., 1928. Сб. 2. С. 52, 68.
495
ставление о том, что все противопоставленное культуре (в данном случае — культуре
религиозной) также должно иметь свое специальное выражение, но выражение ложное
(неправильное). Иначе говоря, антикультура строится в этом случае изоморфно культуре, по ее
подобию: она также мыслится как знаковая система, имеющая собственное выражение. Можно
сказать, что она воспринимается как культура с отрицательным знаком, как бы своего рода
зеркальное ее отображение (где связи не нарушены, а заменены на противоположные).
Соответственно в предельном случае всякая другая культура — с иным выражением и иными
связями — воспринимается с точки зрения данной культуры как антикультура.
Отсюда возникает естественное стремление трактовать все «неправильные» культуры,
противоположные данной («правильной»), как единую систему. Так, в «Песни о Роланде»
Марсилий одновременно оказывается язычником, безбожником, магометанином и поклонником
Аполлона:
Марсилий-нехристь там царит всевластно, Чтит Магомета, Аполлона славит...
1
В московском «Сказании о Мамаевом побоище» Мамай получает следующую характеристику:
«Еллин сый верою, идоложрец и иконоборец, злый христьанский укоритель»
2
. Примеры такого
рода нетрудно было бы умножить.
Показательно в связи со сказанным непримиримое отношение в допетровской России к чужим

языкам, которые рассматривались как средство выражения чуждой культуры. В частности,
специальные сочинения против латыни и латинообразных форм, которые отождествлялись с
католической мыслью и — шире — с католической культурой
3
. Характерно, что антиохийского
патриарха Макария, прибывшего в Москву в середине XVII в., специально предостерегали, чтобы
он «отнюдь не говорил по-турецки». «Боже сохрани, — заявил царь Алексей Михайлович, —
чтобы такой святой муж
1
Русский перевод Ю. Корнеева; цит. по: Песнь о Роланде / Изд. подгот. И. Н. Голенищев-Кутузов и др.
М.; Л., 1964. С. 5.
Характерное для целого ряда текстов отождествление Аполлиона и диавола может объясняться, помимо
только что высказанных общих соображений, отождествлением имени языческого бога и обозначения
сатаны «Аполлион» в Апокалипсисе (9: 11).
2
Повести о Куликовской битве / Изд. подг. М. Н. Тихомиров, В. Ф. Ржига, Л. А. Дмитриев. М., 1953. С.
43.
3
См.: Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII— XIX вв. М., 1938. С. 9;
Успенский Б. А. Влияние языка на религиозное сознание // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1969. Вып. 236.
С. 164—165 (Труды по знаковым системам. Т. 4.); а также: Сменцовский М. Братья Лихуды. СПб., 1899
(приложения); Каптерев Н. Ф. О греко-латинских школах в Москве в XVII веке до открытия Славяно-
греко-латинской академии // Годичный акт в Московской духовной академии 1-го октября 1889 года. М.,
1889. Даже патриарх Никон в полемике с (православным) газским митрополитом Паисием может
воскликнуть в ответ на латинскую реплику последнего: «Рабе лукавый, от уст твоих сужду тя, яко неси
православен, понеже и языком латинским блядословиши нас» (Гиббенет Н. Историческое исследование
дела патриарха Никона. СПб., 1884. Ч. 2. С. 61).
496
осквернил свои уста и язык этой нечистой речью»
1
. В этих словах Алексея Михайловича
звучит типичное для того времени убеждение, что невозможно прибегать к чуждым средствам
выражения, оставаясь в пределах собственной идеологии (в частности, невозможно говорить на
таком «неправославном» языке, как турецкий, воспринимаемый как средство выражения
магометанства, или латынь, воспринимаемая как средство выражения католичества, и оставаться
при этом чистым в отношении православия).
Не менее показательно, с другой стороны, стремление считать все «православные» языки —
одним языком. Так, в тот же период русские книжники могли говорить о едином
«еллинославянском» языке (была издана даже грамматика этого языка
2
) и описывать славянские
языки по точному образцу греческой грамматики, усматривая в нем, в частности, выражение тех
грамматических категорий, которые есть только в греческом.
Соответственно культура с преимущественной направленностью на содержание,
противопоставленная энтропии (хаосу), основной оппозицией которой является
противопоставление «упорядоченного» и «неупорядоченного», — всегда мыслит себя как начало
активное, которое должно распространиться, а не-культуру рассматривает как сферу своего
потенциального распространения. Напротив, в условиях культуры, направленной преимуще-
ственно на выражение, где в качестве основной оппозиции выступает противопоставление
«правильного» и «неправильного», может вообще не быть стремления к экспансии (наоборот, в
этих условиях может оказаться более характерным стремление культуры ограничиться в
собственных пределах, отграничиться от всего, что ей противопоставлено, замкнуться в себе, не
распространяясь вширь). Не-культура отождествляется здесь с антикультурой и таким образом
уже по самому своему существу не может восприниматься как потенциальная область
распространения культуры.
Примером того, как установка на выражение и связанная с ней высокая степень ритуализации
влекут за собой тенденцию к замыканию в себе, могут быть культура средневекового Китая или
идея «Москва — третий Рим». Характерно в этих случаях стремление к сохранению, а не к
распространению своей системы, эзотеризм, а не миссионерство.

Можно сказать, что если в условиях культуры одного типа распространение знания
происходит путем его экспансии в область незнания, то в условиях культуры противоположного
типа распространение знания возможно лишь как победа над ложью. Естественно, что понятие
науки в современном смысле этого слова связывается именно с культурой первого типа. В
условиях культуры второго типа наука не противопоставляет себя столь отчетливо искусству,
религии и т. п. Характерно, что типичное для нашего времени и доходящее иногда до антагонизма
противопоставление науки и искусства стало возможным лишь в условиях новой —
послевозрожденческой — европейской культуры, освободившейся от средневекового
мировоззрения и в большой степени себя ему про-
1
См.: Алеппский П. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII в. / Пер.
с араб. Г. Муркос. М., 1898. Вып. 3. С. 20—21.
2
См.: Αδελφοτησ. Грамматика доброглаголиваго еллинословенскаго языка. Львов, 1591.
497
тивопоставившей (напомним, что само понятие «изящных искусств» — проти-
вопоставляющихся науке — появляется только в XVIII в.)
1
.
Нельзя не вспомнить в связи со сказанным различение манихейского и августинианского
понимания дьявола в той блестящей трактовке, которую дал этой проблеме Н. Винер
2
. Согласно
манихейскому пониманию, дьявол _ это существо, обладающее злонамеренностью, то есть
сознательно и целенаправленно обращающее против человека свою силу; согласно же
августинианскому пониманию, дьявол — это слепая сила, энтропия, которая направлена против
человека лишь объективно, в силу его (человека) слабости и невежества. Если достаточно широко
понимать дьявола как то, что противопоставлено культуре (опять-таки в широком смысле этого
слова), то нетрудно видеть, что различие манихейского и августинианского подходов соответст-
вует различению двух типов культуры, о которых шла речь выше.
* * *
Оппозиция «упорядоченное — неупорядоченное» может проявляться и во внутренней
организации культуры. Как мы уже говорили, иерархическая структура культуры строится как
сочетание высокоупорядоченных систем и таких, которые допускают в разной мере
дезорганизацию, вплоть до того, что для обнаружения структурности их необходимо постоянно
сопоставлять с первыми. Если в ядерной структуре механизма культуры дается идеальная
семиотическая система с реализованными структурными связями всех уровней (вернее,
максимально возможное в данных исторических условиях приближение к такому идеалу), то
окружающие ее образования могут строиться как нарушающие различные звенья подобной
структуры и нуждающиеся в постоянной аналогии с ядром культуры.
Подобная «недостроенность», не до конца упорядоченность культуры как единой
семиотической системы — не недостаток ее, а условие нормального функционирования. Дело в
том, что сама функция культурного освоения мира подразумевает придание ему системности. В
одних случаях, как, например, при научном познании мира, речь будет идти о выявлении
системы, скрытой в объекте, в других, как, например, в педагогике, миссионерстве или пропаган-
де, — о передаче неорганизованному объекту некоторых принципов организации. Но для того
чтобы выполнить эту роль, культура — в особенности ее центральное кодирующее устройство —
должна обладать некоторыми обязательными свойствами. Среди них для нас сейчас существенны
два.
1
См. в этой связи наблюдения о влиянии эстетических воззрений Галилея на его научную деятельность
в работе: Панофский Э. Галилей: наука и искусство (эстетические взгляды и научная мысль) // У истоков
классической науки. М., 1968. С. 26—28. Ср.: Panofsky E. Galileo as a Critic of Arts. The Hague, 1954. Ср.
замечания о значении художественной формы при изложении научных выводов для Галилея в кн.: Ольшки
Л. История научной литературы на новых языках. М.; Л., 1933. Т. 3: Галилей и его время. С. 132. (Ольшки
пишет здесь, в частности: «Путем приспособления выражения к содержанию мыслей, последние
приобретают соответствующую им, необходимую и потому художественную форму. Поэзия и наука
