Лотман Ю.М. Семиосфера
Подождите немного. Документ загружается.


жной вид моей горячности.
ГОВОРИТЬ. <.,.> Естьли же красавица скажет с приятностю:
ты говоришь пустое, то значит: хотя и хочу иметь любовника,
но опасаюсь обычной вам нескромности <...>. Опомнись, кому
ты говоришь или я етова непонимаю, и протчим подобным
словам приписывается такое же знаменование.
МУЧЕНИЕ <...> Я терплю несносное мучение, значит
побольшой части: Я притворяюсь быть влюбленным; но вы
видевши часто театр, думаете, что без мученья в любви не
бывает; мне должно в вашу угодность набирать страстные
слова...»
1
Такие же метатексты необходимы и для понимания языка
мушек: «МУШКИ <...> бархатная на виске сказывает
нездоровье, тафтяная на левой стороне лба гордость, под
нижней которой-нибудь ресницей слезы, на верхней губе
поцелуй, на нижней склонность и проч. Ключ сей азбуки, так
как и министерской (министр — здесь: посол, дипломат. — Ю.
Л.) не одинаков; его избирают и переменяют для безопасности
сношений своих по произволению»
2
.
Получают развитие языки вееров. Распространение маскарадов
вносит элемент релятивности даже в, казалось бы, данные природой
оппозиции: мужчины одеваются в женское, женщины — в мужское. Ср.
записку Екатерины II: «II m'est, venu une idée fort plaisante: II faut faire un
bal à L'Ermitage <...> Il faut dire aux dames d'y venir en déshabillé et sans
paniers, et sans grande parure sur la tête <...> Il y aura dans cette salle
quatre boutiques d'habits, de masques d'un côté et quatre boutiques
d'habits, de masques de l'autre; d'un côte pour les hommes, de l'autre pour
les dames <...> Aux boutiques avec les habits d'hommes il faut mettre
l'étiquette en haut: „boutiques d'habillements pour les dames"; et aux
boutique d'habits pour les dames <...> „pour less messieur"»
3
.
Следует иметь в виду, что народное сознание остается на позициях
отождествления немотивированного знака с дьявольским. С этим же
связано распространенное в моралистической литературе толкование,
связывающее
1
Любовный лексикон / Пер. с фр. [А. В. Храповицкого]. СПб., 1768. С.
11, 19, 41.
2
Гр[омов] Гл. Любовь, книжка золотая. СПб., 1798. С. 134—135.
3
Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных
рукописей и с объяснительными примечаниями академика А. Н.
Пыпина: [1—5, 7—12] / Пер. с фр. СПб., 1907. Т. 12. С. 659.
382
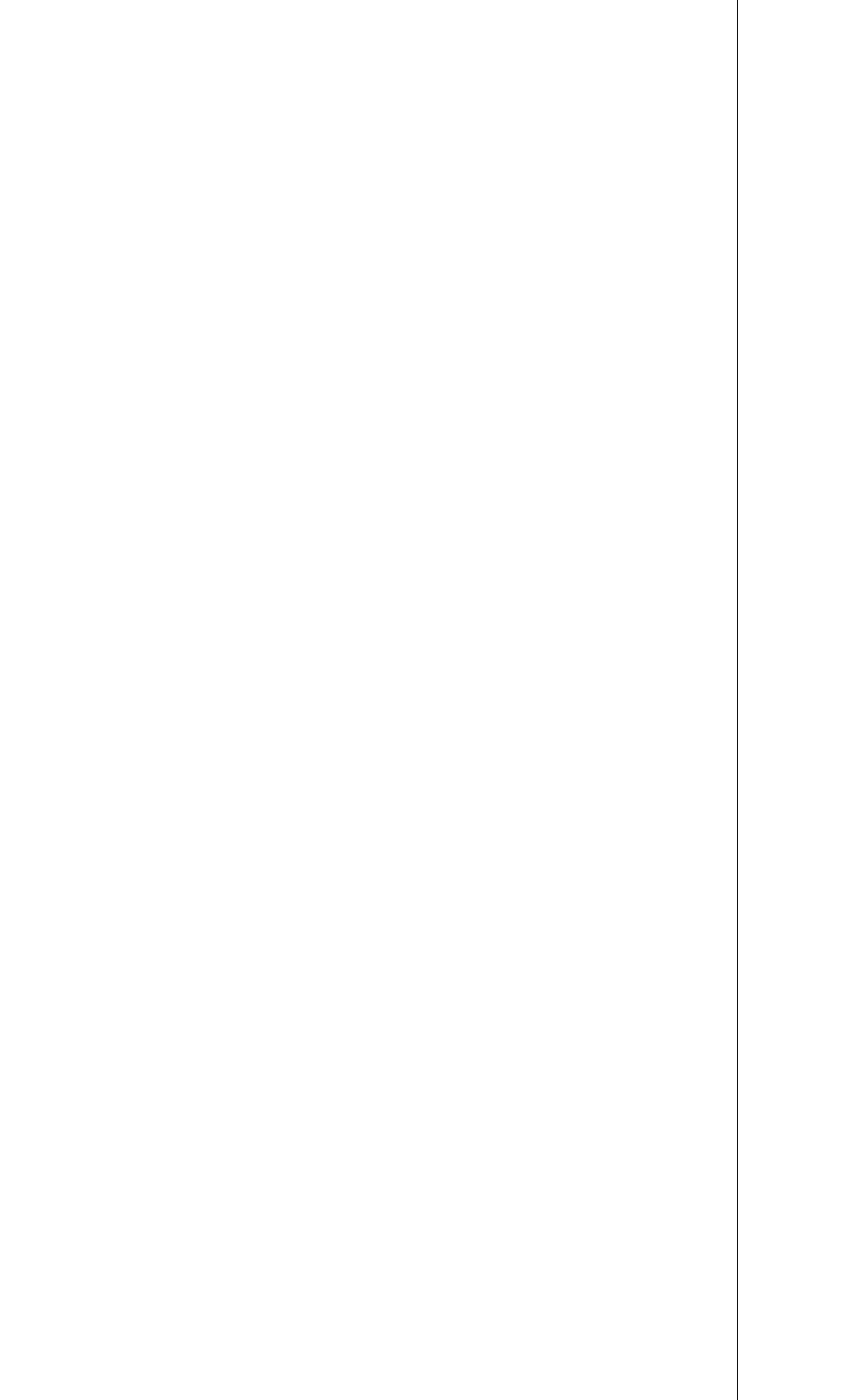
знаковый релятивизм щегольской культуры с безбожием и
моральным релятивизмом.
Ошибочно рассматривать щегольскую культуру XVIII в. с тех же
позиций, что и ее критики, и видеть в ней лишь уродливую социальную
аномалию, именно в ее недрах вырабатывалось сознание автономности
знака, явившееся важным стимулом для формирования личностной
культуры эпохи романтизма. То, что у истоков этой культуры в России
стоит Тредиаковский с «Ездой в остров любви», а занавес над ней
опускает Карамзин как автор «Писем русского путешественника»,
заставляет нас видеть в ней не только цепь карикатур от Корсакова из
«Арапа Петра Великого» до Слюняя из «Трумфа» Крылова.
Напряженность социальных конфликтов в конце XVIII в. вызвала
дальнейшие сдвиги в структуре языков культуры. Связанность мира
знаков с социальной структурой общества дискредитировала в глазах
просветителя XVIII в. знак как таковой. Вслед за Вольтером,
просветители подвергли всесторонней критике «предрассудки
вековые», что на практике означало пересмотр всего запаса
накопленных веками семиотических представлений. Руссо, вскрыв
ложь мира цивилизации, исходный ее принцип обнаружил в условности
связи выражения и содержания в слове. Выдвинутое им проти-
вопоставление слова — интонации, жесту и мимике фактически
означало антитезу немотивированного знака мотивированному.
Однако, стремясь освободиться от знаков, Руссо свой социальный
идеал строил на основе общественного договора, то есть идеи
эквивалентного обмена ценностями между людьми, что невозможно
при уничтожении конвенциальности знаков. Отказываясь от
социальной семиотики, он хотел сохранить ее результаты.
На противоположном полюсе сложилась масонская идеология.
Масоны были противниками договорной теории общества. Ей они
противопоставляли идею вручения себя некоему абсолюту (ордену,
идеальному человечеству, Богу) и безвозмездного растворения в нем.
Однако субъективно ориентируясь на средневековье, они оставались
людьми XVIII в.: их эмблемы не были средневековыми символами — это
был условный тайный язык для посвященных, который на
семиотической шкале располагался ближе к языку мушек, чем к
средневековой символике.
Обе попытки вырваться за пределы языковой условности оказались
тщетными: XVIII в. закончился двумя грандиозными маскарадами: «рим-
ским» маскарадом в революционном Париже и рыцарским — при дворе
Павла I.
Проследить соотношение договорного и недоговорного начал в
русской культуре интересно на примере судьбы наследия Руссо в
России. Известно, что влияние его идей здесь было исключительно
глубоким и долговременным, значительно более длительным, чем во
Франции. Однако гениальная парадоксальность идей «женевского
гражданина» позволяла истолковывать их исключительно широко, в
соответствии с внутренней динамикой русской культуры. В XVIII в. для
русского читателя Руссо был автором рассуждения «Способствовало ли
возрождение наук и искусств очищению нравов», «Новой Элоизы» и
«Эмиля», но, в наибольшей мере, трактата «Об общественном
383
договоре». Влияние последнего было огромным. Идеи договорного
происхождения общества лежали в основе всего политического
мышления последней трети XVIII в. Гельвецианец Радищев, когда
переходит к вопросам социологии и права, мгновенно становится
руссоистом. На «Общественный договор» ссылается и человек, во всем
противоположный Радищеву, аристократ и рационалист кн. М.
Щербатов. Полемизируя с «Наказом»
1
Екатерины II, он писал:
«...говорит Руссо: понеже великие правители первоначально были
избранны народами для утверждения их благополучия, то во учинении
с сими избранными правителями договора между уступленных прав
народ не мог свою естественную вольность уступить, яко вещь такую,
без которой его благополучие никак соделаться не может; а если бы,
последует сей писатель, и нашелся такой неосторожный народ,
которой бы свою естественную вольность уступил, то должно его
почитать яко безумного, от которого никакой договор силы не имеет»
2
.
Это перевод, выполненный в обычной для Щербатова тяжеловесной
манере, известного места из главы IV первой книги («О рабстве») из
трактата Руссо: «Dire qu'un homme se donne gratuitement, c'est, dire une
chose absurde et inconcevable, un tel acte est illégitime et nul, par cela seul
que
celui
qui
le
fait
n'est
pas
dans
son
bon
sens.
Dire
la
mêm
e
chos
e de
tout
un
peup
le,
c'est
supp
oser
un
peup
le de
fous:
la
folie
ne
fait
pas
droit
»
3
.
П
оказ
ател
ьно,
что
Щер
бато
в
наст
ольк
о
был
увер
ен в
том,
что
дого
вор
—
еди
нств
енна
я
фор
ма
опра
вдан
ия
гра
жда
нско
го
общ
еств
а,
что

совершенно упустил важное для Руссо противопоставление идеи
обмена правами между человеком и обществом и безумной, с его точки
зрения, «бесплатной отдачи себя».
Для поколения декабристов Руссо еще связывался с идеей
общественного договора, но к середине века произошла интересная
трансформация. Так, например, Лев Толстой, на формирование
взглядов которого Руссо оказал огромное влияние и который в
молодости носил портрет Руссо на груди рядом с крестом, в старости
вспоминал, что все сочинения женевского мыслителя, включая
музыкальные труды, знал почти наизусть. Между тем идеи
«Общественного договора» в сознании Толстого не оставили заметного
следа. Руссо для него, — протестант против цивилизации и автор
педагогических идей неравенства; враг лжи во всех ее проявлениях,
беспощадный автор «Исповеди». Так же, с другой стороны, страстный
обличитель Руссо, нападавший на него с жаром, выявляющим ревнивую
заинтересованность, Достоевский, неизменно имеет в виду
«Исповедь». Идея договора глубоко
1
«Наказ» формально представлял собой инструкцию императрицы
депутатам Комиссии по выработке нового уложения (1767 г.), а
фактически был широко разрекламирован декларацией идей
просвещенной монархии. При составлении «Наказа» Екатерина широко
использовала (по собственному выражению «обокрала») идеи просве-
тителей, особенно Монтескье и Беккариа.
2
Щербатов М. М. Неизданные соч. [М.], 1935. С. 23.
3
Сказать, что человек вручает себя даром, — значит сказать вещь
абсурдную и немыслимую, такой поступок незаконен и недействителен
уже потому, что человек в здравом уме его не совершит. Сказать так о
целом народе — значит представить безумный народ: безумие не
составляет права (фр.).

384
чужда самому строю мышления Достоевского, которому
«бесплатная отдача» себя показалась бы не безумием, а нормой
религиозного поведения.
Интересно, что поколение «нигилистов» 1860—1870-х гг.,
провозглашавших материализм и атеизм, отказавшись от «бесплатной
отдачи себя» Истине, идущей от Бога, тотчас же нашло другой адрес,
которому можно было бы бескорыстно вручить себя. Таким адресатом
оказался обожествленный Народ. Не случайно Максим Горький
называл литературу народников «священным писанием о мужике».
С другой стороны, в народном правосознании в России договор и
обмен были тесно связаны с обманом, поскольку одной из
договаривающихся сторон мыслился черт или его субституты: барин,
«немец», клятва по отношению к которым никого не обязывает. Не
случайно, фольклорное амплуа купца — плут. Можно было бы указать
также на многочисленные жалобы иностранцев на обман со стороны
русских купцов. Приведем лишь одну — высказывание Жозефа де
Местра в письме к князю Петру Козловскому: «Je ne sais quel esprit de
mauvaise foi et de tromperie circule dans toutes les veines de l'Etat. Le vol
de brigandage est plus rare chez vous qu'ailleurs parce que vous n'êtes pas
moins doux que vaillants; mais le vol d'in•délité est en permanence.
Achetez un diamant, il y a une paille; achetez une allumette, le soufre о
manque. — Cet esprit, parcourant du haut en bas les canaux de
l'admimistration, fait des ravages immenses»
1
.
Посещавшие Россию иностранцы склонны были обвинять русских
купцов в неверности и лукавстве. Однако, парадоксально, причина
заключалась в отношении к договору как таковому: случай
обмана в отношении с «чужим» (а договор мыслился как форма
отношения именно с чужим) был как бы подразумеваемым условием.
Обман здесь был сродни фольклорной хитрости героя-тракстера.
Совершенно иным было народное отношение к связям внутри своей
среды. Здесь обман почитался тяжким грехом, но и договора не
требовалось — его заменяло доверие. Замечательна в этом
отношении книга воспоминаний крепостного крестьянина первой
половины XIX в. Н. Шипова. Это любопытная история жизни
крепостного-миллионера, платящего своему барину помещику
Салтыкову оброку свыше 5000 рублей ассигнациями в год
2
. Шипов —
человек неутомимой энергии и разнообразных дарований. Его рассказ
вводит нас в мир крепостных, которые богаче своего помещика, ведут
обширную торговлю, заводят фабрики. Но собственность их — соб-
ственность людей, лишенных права собственности, и лишена какой бы
то ни было правовой гарантии. Поэтому все — очень значительные —
денежные
1
Какой-то дух злонамеренности и обмана циркулирует во всех
венах Государства. Разбой среди вас более редок, чем везде,
поскольку вы так же кротки, как и храбры; но вероломство постоянно.
Купите алмаз — он с пятном, купите спичку — она без серы. Этот дух,
спускаясь вниз по каналам правления, производит бесчисленные опус-
тошения (фр.) (Maistre J. de. Lettres et opuscules inédits. 1851. P. 355).
2
См.: Карпов В. H. Воспоминания. Шипов H. История моей жизни /
Подгот. П. Л. Жаткина. М.; Л., 1933. В аналогичных по географическому
положению имениях А. Р. Воронцова в те же годы крестьяне в среднем
платили 25—30 рублей ассигнациями оброку в год с души (Индова Е.
И. Крепостное хозяйство в начале XIX века. По Материалам вотчинного
архива Воронцовых. М., 1955. С. 88).
385
операции основываются на доверии, а не на законных
обеспечениях. Поскольку помещик может в любое время все отобрать
(«Кто знает? Все может случиться с крепостным рабом» —
меланхолически замечает Шипов), то все обороты, иногда
достигающие тысяч рублей, ведутся на основании личного доверия и
скрытно. Конечно, и здесь случаются эпизоды обмана и нарушения
доверия, но они строго осуждаются как аморальные.
Таким образом, мы можем наблюдать, как некоторое типологическое
противопоставление, варьируясь на условиях среды и эпохи, сохраняет,
однако, инвариантную основу. В результате, для того, чтобы понять
реальное содержание историко-семиотической категории (в данном
случа
е —
поня
тия
догов
ора),
ее
след
ует
пере
крест
но
освет
ить и
с
типо
логич
еской
, и с
истор
и-
ческо
й
точек
зрен
ия.
В
сам
ое
пос
лед
нее
вре
мя
пре
дло
жен
ная
нам
и
опп
ози
ция
дог
ово
ра и
вру
чен
ия
себ
я
при
мен
ите
льн
о к
кул
ьту
ре
Дре
вне
й
Рус
и
был
а
пос
тав
лен
а
под

сомнение известным исследователем русского средневековья Я. С.
Лурье. Он пишет: «Если наблюдение это имеет основание, то лишь в
той мере, в какой оно относится к Владимиро-Суздальской Руси со
второй половины XIII в. Для государственного строя одного из
крупнейших государств древней Руси — Новгородской земли —
характерна уже с XII в. именно договорность политического строя:
ритуально скрепленный договор между вечем и городской
администрацией, с одной стороны, и приглашаемыми в Новгород
князьями — с другой»
1
.
Я считаю это возражение лучшим подтверждением моей мысли.
Конечно, торговая республика, член Ганзейского союза, где даже
феодальная верхушка представляла собой городскую торговую
аристократию, относилась к договору иначе, чем остальная Русь, и
именно чем та Владимиро-Суздальская, из которой и выросло
Московское царство. Конечно, речь идет лишь о типологических
тенденциях, которые всегда, пользуясь выражением Гегеля,
«реализуются через нереализацию» и указывают на тенденцию, а не
на все сто процентов фактов. Без элементов договорности никакое
общество стоять не может. Но речь идет о другом: как это общество
оценивает ту или иную категорию, какое место оно уделяет ей в
иерархии своих ценностей.
Возможна ли историческая наука и
в чем ее функция в системе
культуры?
Мы рассмотрели трудности, которые встают на пути исторической
науки, стремящейся к своей исконной цели: восстановить «как оно на
самом деле было». Естественно возникает вопрос: а возможна ли
история как наука, или она представляет какой-то совсем иной вид
знания? Вопрос этот, как известно, не нов. Достаточно вспомнить
сомнения, которые на этот счет терзали Бенедетто Кроче.
1
Лурье Я. С. Русские современники Возрождения. Книгописец
Ефросин, дьяк Федор Курицын. Л., 1988. С. 27.

386
Позволим себе утверждение, что трудности, перед которыми встает
историческая наука, своеобразны, но не уникальны. Своеобразны, так
как это трудности именно исторической науки; не уникальны, так как
они модифицируют некоторые общенаучные методологические
проблемы современного этапа. В разных областях науки
актуализируется одна и та же проблема — проблема языка,
взаимодействия метаязыка описания и описываемого объекта. Из
наивного мира, в котором привычным способам восприятия и
обобщения его данных приписывалась достоверность, а проблема
позиции описывающего по отношению к описываемому миру мало кого
волновала, из мира, в котором ученый рассматривал действительность
«с позиции истины», наука перешла в мир относительности. Вопросы
языка стали касаться всех наук. По сути, дело здесь в следующем:
наука, в том виде, в каком она сложилась после Ренессанса, положив в
основание идеи Декарта и Ньютона, исходила из того, что ученый
является внешним наблюдателем, смотрит на свой объект извне и
поэтому обладает абсолютным «объективным» знанием. Современная
наука в разных своих сферах — от ядерной физики до лингвистики —
видит ученого внутри описываемого им мира и частью этого мира. Но
объект и наблюдатель, как правило, описываются разными языками.
Следовательно, возникает проблема перевода как универсальная
научная задача. Когда Платон определил мысль как «диалог души с
самим собой», то он исходил из представления, что разговор ведется
на одном языке. Вот как сформулировал эту проблему, применительно
к физике, В. Гейзенберг: «...квантовая механика выдвинула еще более
серьезные требования. Пришлось вообще отказаться от объективного
— в ньютоновском смысле описания природы, когда основным харак-
теристикам системы, таким, как место, скорость, энергия,
приписываются определенные значения, и предпочесть ему описание
ситуаций наблюдения, для которых могут быть определены только
вероятности тех или иных результатов. Сами слова, применявшиеся
при описании явлений атомарного уровня, оказывались, таким
образом, проблематичными. Можно было говорить о волнах или
частицах, помня одновременно, что речь при этом идет вовсе не о
дуалистическом, но о вполне едином описании явлений. Смысл
старых слов в какой-то мере утратил четкость»
1
(курсив мой.
— Ю. Л.).
Историческая наука также переживает этот период. И как и в других
областях знания, он закономерно порождает шоковое состояние. Как
всегда, на рубеже великих эпох вновь возникает старый вопрос: «Что
есть истина?» Переход от наивной веры в «абсолютную точку зрения» к
исторической семиотике ставит проблему перевода языка источника на
язык исследователя. Смысл этой проблемы нам сделается ясен, если мы
сопоставим ее с наиболее полными итогами предшествующего развития
методологии исто-
1
Ср. также слова Гейзенберга: «Предельно обобщая, можно, пожалуй,
сказать, что изменение структуры мышления внешне проявляется в том,
что слова приобретают иное значение, чем они имели раньше, и
задаются иные, чем прежде вопросы» (Гейзенберг В. Шаги за горизонт
/ Пер. с нем.; общ. ред. Н. Д. Овчинникова. М., 1987. С. 101—193).
387
рического знания. Сошлемся на книгу Р. Дж. Коллингвуда «Идея
истории». Проанализировав трудности, которые возникают при
исторической интерпретации фактов, автор предлагает историку
полностью идентифицировать свое сознание с историческим лицом:
«Так, историк политики или военного дела, сталкиваясь с описанием
определенных действий Юлия Цезаря, пытается понять их, т. е.
определить, какие мысли в сознании Цезаря заставили его
осуществить эти действия. Это предполагает мысленный перенос
самого себя в ситуацию, в которой находился Цезарь, и
воспроизведение в своем мышлении того, что Цезарь думал об этой
ситуации и о возможных способах ее разрешения»
1
. На этой мысли
Коллингвуд настаивает, неоднократно к ней возвращаясь. Далее он
пишет: «Предположим, например, что он [историк] читает Кодекс
Феодосия и перед ним — эдикт императора. Простое чтение слов и
воз
мо
жно
сть
их
пер
еве
сти
еще
не
рав
нос
иль
ны
пон
и-
ман
ию
их
ист
ори
чес
ког
о
зна
чен
ия.
Что
бы
оце
нит
ь
его,
ист
ори
к
дол
жен
пре
дст
ави
ть
себ
е
сит
уац
ию,
кот
ору
ю
пыт
алс
я
раз
реш
ить
имп
ера
тор,
и
пре
д-
ста
вит
ь,
как
ой
она
каз
ала
сь

императору. Затем он обязан поставить себя на место императора и
решить, как следовало вести себя в подобных обстоятельствах. Он
должен установить возможные альтернативные способы разрешения
данной ситуации и причины выбора одного из них. Таким образом,
историку нужно в самом себе воспроизвести весь процесс принятия
решения по этому вопросу. Таким путем он воспроизводит в своем
сознании опыт императора, и только в той мере, в какой ему это
удастся, он получит историческое, а не просто филологическое
значение значения эдикта»
2
.
За этими рассуждениями стоит убеждение в том, что
семиотический (и, следовательно, психологический) мир англичанина
XX в. и Цезаря или Феодосия идентичен и что, для перевоплощения в
Цезаря или Феодосия, достаточно воображения и интуиции,
изощренной работой над источниками. Конечно, эти качества могут
много помочь историку, но не могут заслонить того факта, что понятия
«ситуация» и ее «решение» могут далеко расходиться у историка и его
героя. Что естественное решение человека иной эпохи может, даже
как абстрактная возможность, не укладываться в сознание другого
века, что понятие «альтернативных методов» может возникнуть лишь
как результат описания «мира Феодосия», а не вытекать из «естест-
венного» для исследователя его психологического опыта, что это не
исходная аксиома, а результат научного пути. Рассуждение
Коллингвуда находится в пределах здравого смысла, этого истинного
демиурга постдекартовского мира, в центре которого находилась
«истина, ясная как солнце». Декарт выражал эту веру в здравый смысл
в части второй своего «Рассуждения о методе»: «...книжные науки, по
крайней мере те, положения которых лишь вероятны и лишены
практических доказательств, науки, которые сложились и развились
постепенно из мнений разных лиц, отнюдь не столь близки к
1
Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Пер. с англ. и
коммент. Ю. А. Асеева. М., 1980. С. 205.
2
Там же. С. 269.

388
истине, как простые суждения, естественно складывающиеся у
человека со здравым смыслом...»
1
Коллингвуд предполагает снять антиномию между «миром
Феодосия» и «миром историка» путем их полной идентификации. Путь
семиотики противоположен: он подразумевает предельное обнажение
различий в их структурах, описание этих различий и трактовку
понимания как перевода с одного языка на другой. Не устранение
исследователя из исследования (что практически и невозможно), а
осознание его присутствия и максимальный учет того, как это должно
сказаться на описании. Поэтому, в такой мере, в какой инструмент
семиотического исследования есть перевод, инструментом историко-
культурного изучения должна стать типология с обязательным учетом
историка и того, к какому типу культуры принадлежит он сам.
Примером характерной ошибки может служить следующий: Леви-
Брюль в одной из своих работ сообщает о кафре, которому миссионер
предложил послать сына в миссионерскую школу. Желая уклониться от
прямого отказа, кафр ответил миссионеру: «Я об этом увижу во сне».
Леви-Брюль замечает, что перед нами ситуация, в которой каждый
европеец ответил бы: «Я об этом подумаю», и заключает, что сон у
кафра выполняет такую же функцию, какую «у нас» выполняет
мышление. На самом деле, слова кафра, видимо, надо перевести как «я
об этом посоветуюсь», так как речь идет о получении
предзнаменования во сне, о той самой дивинации, которая есть
естественное следствие желания получить наиболее авторитетную
информацию и которая ничем не отличается от фразы европейца: «Я об
этом посоветуюсь с моим юристом, или с моим врачом, или с моим
компьютером». Если снять некоторый легкий оттенок европейского
высокомерия, то в остатке будет достаточно широко распространенное
и отнюдь не являющееся монополией «пралогического мышления»
стремление, на которое указывал еще Кант, противопоставляя
«просвещение» и «несовершеннолетие»
2
.
Историк и история находятся внутри единого пространства
человеческой культуры, но они в принципе говорят на разных языках и
отношения их асимметричны. Из этого вытекает еще одна функция
истории в культуре. Историю часто называют памятью человечества, но
редко задумываются над этой формулировкой. Если функция истории,
— все в той же попытке «представить прошлое, как оно было на самом
деле» (формула старая, но по сути выражающая стремление каждого
историка), то память — инструмент мышления в настоящем, хотя ее
содержанием является прошлое. И иначе: содержание памяти
составляет прошлое, но без нее невозможно мышление «теперь» и
«здесь», это — глубинная основа актуального процесса сознания. И
если история есть память культуры, то это означает, что она не только
след прошлого, но и активный механизм настоящего.
1
Декарт Р. Избр. произведения. С. 268. Ср. в первой части того же
трактата утверждение, что в непосредственном следовании опыту и
здравому смыслу можно «вcтретить гораздо более истины, чем в
бесполезных спекуляциях кабинетного ученого, не имеющих иных
последствий, кроме суетного тщеславия, которое тем сильнее, чем
больше такой ученый удаляется от здравого смысла...» (С. 265).
2
См.: Кант И. Соч. Т. 6. С. 27.
389
Если нужно представить способность памяти в виде некоторой
метафоры, то, пожалуй, наименее подходящим здесь будет образ
библиотеки, на полках которой расставлены книги, или даже
компьютер, в память которого заложены некоторые данные, сколь бы
большим число их ни было. Память скорее всего можно себе
представить как генератор, воспроизводящий прошлое заново,
способность в результате некоторых импульсов включать
генерирование мыслимой реальности, переносимой сознанием в
прошлое. Способность эта есть часть общего процесса мышления и
неотделима от него.
Взаимоотношение памяти культуры и ее саморефлексии строится как
пост
оянн
ый
диал
ог:
неко
торы
е
текс
ты
из
хрон
олог
ичес
ки
боле
е
ранн
их
плас-
тов
внос
ятся
в
куль
туру,
взаи
моде
йств
уя с
ее
совр
емен
ными
меха
низм
ами,
гене
риру
ют
обр
аз
исто
риче
ског
о
прош
лого,
кото
рый
пере
носи
тся
куль
туро
й в
прош
лое и
уже
как
равн
опра
вный
учас
тник
диал
ога
возд
ейст
вует
на

настоящее. Но в свете трансформированного настоящего и прошлое
меняет свой облик. Процесс этот не протекает в пустоте: оба участника
диалога являются партнерами и в других коллизиях, оба они открыты
для вторжения извне новых текстов, а тексты, как нам уже приходилось
подчеркивать, всегда таят в себе возможности все новых
интерпретаций. Кроме того, этот образ исторического прошлого не
антинаучен, хотя и не научен. Он существует рядом с научным образом
прошлого как другая реальность и взаимодействует с ним тоже на
диалогической основе.
Подобно тому как различные прогнозы будущего составляют
неизбежную часть универсума культуры, она не может обойтись без
«прогнозов прошлого».
Заключение
Индивидуальный человеческий интеллектуальный аппарат — не
монополист на работу мысли. Семиотические системы, каждая в
отдельности и все они в интегрирующем единстве семиосферы,
синхронно и всей глубиной исторической памяти, осуществляют
интеллектуальные операции, хранят, перерабатывают и увеличивают
объем информации. Мысль — внутри нас, но и мы — внутри мысли,
подобно тому как язык — нечто порождаемое нашим сознанием и прямо
зависящее от механизмов мозга, но и мы — внутри языка. И если бы мы
не были погружены в язык, наш мозг не мог бы его генерировать (и
обратно: если бы наш мозг не был способен генерировать язык, мы не
могли бы быть в него погружены). Так же и мысль — и нечто рождаемое
человеческим мозгом, и окружающая нас сфера, вне которой
интеллектуальное генерирование было бы невозможно. Наконец,
пространственный образ мира находится и внутри, и вне нас.
Мы и часть, и подобие огромного интеллектуального механизма.
Отсюда значительные трудности, но и огромная важность исследований
этого типа. И все более ясно выступающий синтетизм: изучаем ли мы
структуру художественного текста, работу функциональной асимметрии
больших полуша-

390
рий головного мозга, проблемы устной речи или общения глухонемых, рекламы в
современном мире или системы религиозных представлений архаических культур — мы
познаем разные механизмы единой интеллектуальной жизни человечества. Мы находимся
внутри нее, но и она — вся — находится внутри нас. Являясь одновременно и «матрешкой», и
участником бесконечного числа диалогов, и подобием всего, и «другим» для других и для
самого себя, мы — и планета в интеллектуальной галактике, и образ ее универсума.
Настоящая книга — попытка постановки вопроса. Создание всеобщей исторической
семиотики культуры было бы ответом.
Введение
Культура принадлежит к самым сложным и всеобъемлющим понятиям истории человечества.
Литература, посвященная этой проблеме, огромна, охватывая необъятную область от философии
истории до конкретных исследований по частным вопросам материальной и духовной культуры
различных эпох. Однако при всем обилии проблем и аспектов все они сводятся к двум
возможным подходам: «Анализ двоякий, дедуктивный и индуктивный, — логический и
исторический»
1
.
Историческое изучение культуры — изучение ее судеб, эволюции, возникновения классовых
культур в обществе, разделенном на классы, привлекало многочисленных исследователей.
Значительно меньше сделано для логического, дедуктивного определения сущности явления
культуры как некоторой константной структуры, без которой существование человечества,
видимо, невозможно. При решении этой большой и сложной проблемы определенную помощь
может оказать рассмотрение культуры как семиотического явления. При этом следует
подчеркнуть, что, как и логический подход вообще, семиотическое изучение не отрицает
исторического — оно идет с ним об руку, опирается на его данные и, в свою очередь,
прокладывает ему дорогу.
Рассмотрение культуры как некоторого семиотического механизма, имеющего целью
выработку и хранение информации, еще только начинается. Вступая в эту область, исследователь,
к сожалению, гораздо чаще вынужден оперировать гипотезами и предположениями, чем твердо
установленными истинами. Сознавая это, автор предлагаемой вниманию читателей брошюры
надеется, что она принесет некоторую пользу если не решением вопросов, то по крайней мере их
постановкой. В этом и методический смысл книги — она содержит указания на проблемы,
которые еще нуждаются в рассмотрении, а не подведение итогов уже установленному наукой.
В книге объединены статьи как публиковавшиеся в последние годы в различных изданиях, так
и предлагаемые вниманию читателей впервые. Статья «Текст и функция» написана в соавторстве
с А. М. Пятигорским.
1
Ленин В. И. Полн. собр. соч.: В 55 т. 5-е изд. М., 1963. Т. 29. С. 302.
393
Автор сердечно благодарит Б. М. Гаспарова, И. И. и Ю. К. Лекомцевых, 3. Г. Минц, А. М.
Пятигорского, Б. А. Успенского и И. А. Чернова, принявших участие в обсуждении (на разных
этапах подготовки) статей, публикуемых в настоящем сборнике, а также А. Э. Мальц и 3. Г. Минц
за помощь в подготовке настоящего издания.
Культура и информация
Человек хочет жить. Человечество стремится выжить. Эти элементарные истины лежат в
основе как поведения отдельной личности, так и всемирной истории. Опыт показывает, что
осуществление этой цели, при всей ее простоте и очевидной оправданности, связано с огромными
