Левит С.Я. (сост.) Антология исследований культуры. Т 1. Интерпретации культуры
Подождите немного. Документ загружается.

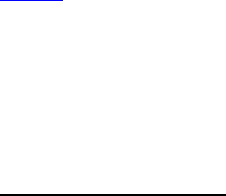
Испанская драма
Это далеко не полный перечень. В нем представлена лишь малая часть процессов
развития, рассмотренных на страницах этой книги. Прочие же я не могу уверенно отнести
к тому или иному классу. А это прежде всего означает, что затруднительно не только их
измерить, но даже и дать им сколь-нибудь надежную оценку. Около трети примеров,
перечисленных в третьей рубрике, относятся к философии, где кульминация обычно
находит выражение в такой системе, которая полностью воплощает в себе потенциальные
возможности паттерна, так что к ней уже почти нечего добавить. В искусствах число
примеров раннего и позднего достижения пика в развитии примерно одинаково.
Симметричные конфигурации встречаются реже, нежели оба других типа. Все это
означает, что единого закономерного типа роста быть не может. Если бы он существовал,
и если бы им был, допустим, симметричный профиль, то данный класс должен был бы
быть самым многочисленным. Если бы нормой был однотипный асимметричный
профиль, то противоположный тип асимметрии встречался бы реже по сравнению с
приблизительной симметрией.
В заключение я могу лишь сказать, что либо расцвет паттернов вообще не имеет
нормальной формы, либо затруднения, связанные с оценкой качества в удаленных от
кульминации временных точках, не оставляют нам на сегодняшний день никакой
возможности точно определять кривизну развития.
§124. Проблема смерти культуры
Возникает проблема, в каком смысле культура может или не может умереть. По существу
— это проблема определения.
Представляется невозможным, чтобы некое конкретное общество, находящееся в
конкретном регионе, могло лишиться культуры. У нас нет свидетельств существования
бескультурных человеческих обществ, а археологические данные показывают, что
некоторые культуры — хоть и рудиментарные, но все же культуры — существовали на
протяжении по меньшей мере нескольких десятков тысяч лет. Разумеется, культуры могут
приходить в упадок, в смысле увядания культурного содержания и высших культурных
ценностей. Однако нам совершенно нечего представить в пользу того, что этот процесс
может продолжаться до той точки, когда культура полно-
16 Зак. 5
==481
Динамика культуры
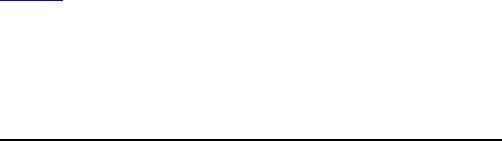
стью исчезнет. На самом деле, крайне нелегко даже вообразить такие обстоятельства, при
которых общество могло бы окончательно утратить культуру. В такой фантастической
картине все население, превосходящее в возрасте грудных младенцев, должно было бы
немедленно исчезнуть, а младенцы должны были расти без помощи извне.
С другой стороны, конкретные культуры, т. е. особые географически ограниченные
формы культуры, могут умереть и умирают. Они умирают не только в результате полного
вымирания населения, являющегося их носителем, как это произошло с аборигенами
Тасмании, но также вследствие включения их обществ в более крупные, являющиеся
носителями иных культур, и даже в результате вытеснения одной культуры другой,
которое может и не повлечь за собой исчезновение, поглощение и какой бы то ни было
ущерб для общества — носителя умирающей культуры. Таким образом, примитивные
культуры из года в год умирают под «влиянием цивилизации». В обыденных
представлениях подбная смерть ассоциируется со смертью их последних носителей.
Иногда такое случается, хотя гораздо чаще все население или хотя бы какая-то его часть
(либо чистокровное коренное население, либо население со смешанной кровью)
сохраняется, а его старая культура претерпевает изменение, обновляясь большей частью
либо превращаясь в совершенно новую культуру. «Последнему из могикан» сегодня
можно противопоставить реальное могиканское население, но могиканская культура вот
уже более столетия как вымерла.
Аналоги этому примеру находятся в языке. Мы не можем даже вообразить человеческое
общество, полностью лишенное речи. Нам известно, что народы часто меняют свой
прежний язык на новый, и это происходит по самым разным причинам. Мы знаем о
множестве языков, которые безвозвратно исчезли, но еще больше должно было быть
языков, которые погибли, не оставив после себя никаких следов, никаких свидетельств
своего существования.
Фактически вопрос сводится к тому, почему умирают конкретные культуры. Очевидной
причиной этого является, как правило, столкновение с другими культурами,
обладающими некоторым «превосходством» или большей жизнеспособностью. В чем
состоит это превосходство, мы на самом деле не знаем. Специфические причины,
замешанные в конкретных событиях
, могут быть или не быть реальными причинами
гибели культуры. Культура, которой удается выжить в конкуренции с другими, по
существу является более жизнеспособ-
==482
А. Крёбер. Конфигурации развития культуры
ной, благодаря чему мы и считаем ее высшей, хотя при различных обстоятельствах
качества, сообщающие ей превосходство, бывают самыми разными. Это могут быть
военное оснащение, организация, физическая закалка, численность, уровень
благосостояния, сплоченность, фанатизм, изобретения в области механики,
приспособляемость, уровень образования или его недостаток. В том или ином случае
какие-то из
этих факторов оказываются решающими.
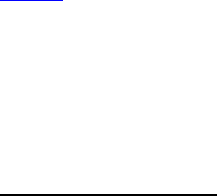
Остается одна проблема, хотя в настоящее время она,вероятно, неразрешима. Может ли та
или иная культура как взаимосвязанный комплекс культурных элементов, т. е.
совокупность культурного содержания плюс связь, умереть сама по себе, под действием
исключительно внутренних причин? Поскольку «умирание» не может быть полным
исчезновением культуры, то оно должно означать замещение большей части культурного
материала и большинства моделей новым содержанием и новыми образцами,
выработанными самой культурой, — замещение, которое будет идти до тех пор, пока, по
истечении достаточного времени, трансформация не окажется столь значительной, что ее
конечный продукт уместнее будет считать новой культурой, отличной от первоначальной.
Мы не можем ответить на поставленный вопрос, ибо в природе, насколько нам известно,
такого эксперимента еще не было. Столкновение культур происходит всегда, и в
результате культура рано или поздно исчезает под влиянием процессов вытеснения, или
культурной гибридизации. Ни одна из существовавших в истории культур не находилась в
изоляции достаточно долго, чтобы позволить нам сказать, осталась бы она в
этом случае в
конце концов неизмененной, превратилась бы в нечто совершенно иное или бы полностью
атрофировалась. Коренные австралийцы, возможно, довольно долго пребывали в
состоянии изоляции; однако нам ничего не известно не только об их первоначальной
культуре, но даже о том, развивалась она до настоящего времени или деградировала.
Для пояснения обратимся
к конкретному примеру. Древнеегипетская культура — яркий
образец мертвой культуры. Мы вправе так считать, поскольку относительно немногие
элементы древнеегипетской цивилизации стали элементами ныне существующих культур,
и ни один из ее базисных паттернов, — не говоря уж о целостном ее нексусе, — не
сохранился до настоящего времени ни в самом Египте, ни за его пределами. Мы знаем,
что после периода расцвета, в значительной степени автономного и длившегося более 2
тыс. лет, египетская цивилизация к 1000 г. до н. э.
16*
==483
Динамика культуры
начала угасать, все более и более угасала после 500 г. до н. э., а к 500 г. н. э. практически
исчезла и была столь же мертвой, как и сегодня Общие очертания происшедшего ясны.
Сначала власть над Египтом захватили ливийцы и нубийцы, затем страна подверглась
азиатскому нашествию, после чего была захвачена Александром Македонским и
подверглась эллинизации; далее наступил черед романизации и господства Римской
империи; и наконец, пришли христианская идеология и практика. Те случайные остатки
культуры, которым довелось дожить до 500 г. н. э., были впитаны исламской культурой.
Как известно, даже древний язык был вытеснен арабским.
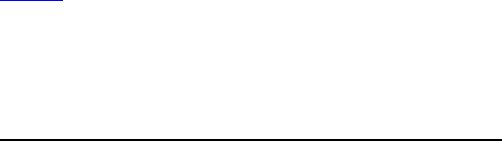
Напрашиваются два вопроса. Было ли связано вытеснение египетской культуры
азиатской, греческой, римской, христианской и исламской культурами с неким
внутренним превосходством этих культур? Или же египетская культура «утратила свою
жизненность» и «одряхлела», т. е. существовали ли внутренние причины, ослабившие ее
перед натиском соседних культур? Иными словами, были ли другие культуры более
развитыми уже до того, как они подавили египетскую культуру, или же сама египетская
культура была старой и обветшалой к тому времени, как столкнулась с ними?
Я не представляю, чтобы можно было дать какой-то ответ, выходящий за рамки
субъективного мнения. Можно приводить аргументы в пользу любого из этих взглядов
или утверждать, что имели место оба процесса; однако трудно это убедительно доказать.
Объяснение гибели египетской культуры ее дряхлостью покажется некоторым ученым не
лишенным налета мистицизма, аналогичного витализму в биологии. Между тем, здесь
будет вполне уместно провести биологическую аналогию. Мы знаем, что все высшие
организмы стареют и умирают. Мы немало знаем о старении и много — о том, что
отличает с точки зрения физиологии молодого человека от старого. Однако мы не знаем,
почему по истечении определенного времени процессы старения кардинально и
необратимо изменяют состояние организма. При всем прогрессе, достигнутом в биологии,
смерть остается феноменом, который мы не до конца понимаем, чем-то необъяснимо
неотвратимым, хоть мы и признаем ее как факт и можем описать многие ее симптомы.
Однако неотвратимость смерти индивидуального организма никак не доказывает, что и
культуры обладают способностью умирать. Мы можем лишь сказать, что такая
возможность не исключена; и поскольку уж мы принимаем факт естественной смерти в
органическом мире, не понимая факти-
==484
А. Крёбер. Конфигурации развития культуры
чески его природу, то необъяснимость процессов культурной смерти — еще не причина
саму ее отрицать.
Противоположная точка зрения, согласно которой культуры не умирают, не стареют и не
угасают сами по себе, а просто вытесняются другими, ведет к отрицанию процесса упадка
и предполагает постоянный прогресс. Как только данная культура перестает развиваться и
останавливается на месте, соседние культуры готовы распространиться на несущее ее
общество и таким образом ее вытеснить, если этому не мешают отсутствие общения с
данной культурой или ее изоляция. Судя по всему, принимая эту точку зрения, трудно
удержаться от скрытого допущения, что культуры по природе своей тяготеют к прогрессу.
Это допущение во многом определяет мышление нашего времени, но оно, разумеется, не
проверено и по характеру эмоционально. Данных в его поддержку не больше, чем в
пользу того мнения, что культуры естественным образом стареют и умирают.
Возможна и третья точка зрения, состоящая в том, что культуры не обязательно должны
стареть или перманентно прогрессировать, а могут просто претерпевать определенные
изменения — в своей силе, оригинальности и производимых ценностях. Культура,
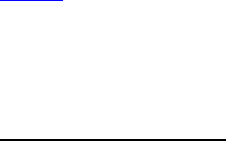
оказавшаяся в ситуации конкуренции с другими культурами, может подвергнуться
частичной переработке, но может оказаться и в значительной мере вытесненной одной из
них, если опустится в своей силе ниже оптимального уровня. Более сильная или
оснащенная культура может преодолеть несколько внутренних кризисов, не подвергшись
при этом серьезной опасности модификации и исчезновения, исходящей извне. Однако
рано или поздно, просто-напросто в силу теории вероятности, она вступит в конкуренцию,
находясь в состоянии ослабления, и одна из соседних культур, оказавшаяся в этот момент
в фазе усиления и экспансии, начнет ее вытеснять; стоит такому повториться 2—3 раза, и
данная культура исчезнет.
Это вовсе не означает, что культура внутренне обречена на смерть или прогресс;
предполагается, что нормой будут флуктуации культурной энергии. Для такого
аналитического исследования, какое представлено в этой книге, этого допущения вполне
достаточно. Я несколько его расширил и дополнил следующей рабочей гипотезой:
причина флуктуации в том, что любое заметное культурное достижение опирается на
приверженность определенному комплексу паттернов; чтобы стать действенными, они
должны исключать иные возможности развития, следовательно, быть ограниченными; по
мере развития эти паттерны постепенно
==485
Динамика культуры
исчерпывают себя; и прежде чем культура сможет продолжать двигаться к новым
высоким достижениям, они должны прийти в упадок или исчезнуть, уступив место новым
формам. То, что формироваться, достигать кульминации, угасать и атрофироваться могут
одновременно несколько разных паттернов, — это, я думаю, достаточно очевидно. Одна
из основных задач данного исследования как раз
и состояла в том, чтобы выяснить,
насколько эта тенденция реально проявляется в действительности.
Насколько мало мы на самом деле об этом знаем, станет ясно на примере египетской
цивилизации. Здесь нам придется порассуждать-гипотетически. Около 1400 г. до н.э. эта
культура находилась в последней высшей фазе своего развития; возможно, это был
кульминационный
пик всей ее истории. Давайте предположим, что в этот год Египет
вдруг оказался бы каким-то чудом отрезанным от всего остального мира и до сих пор
оставался бы незатронутым коммуникациями, влияниями и конкуренцией. Каким образом
повернулся бы ход событий в этом случае? Я, разумеется, не имею в виду конкретных
событий, касающихся тех или иных элементов культуры; речь идет о возможных
итоговых конфигурациях египетской культуры в целом и вероятных итоговых ценностях.
Не имеет значения, что такого не могло случиться и что такой эксперимент крайне
маловероятен. Если бы мы располагали хоть какими-то общими интерпретациями,
почерпнутыми из знания истории, то они должны были
бы дать нам указания
относительно вероятного хода событий, на которые мы могли бы с определенной долей
уверенности опереться.
Выводы, которые мы действительно вправе сделать, более чем скромны. Нам известно,
что после 1400 г. на протяжении целого столетия предпринимались попытки
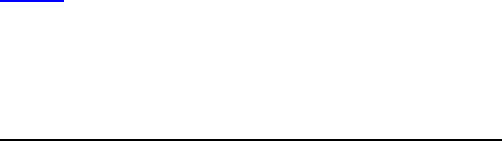
преобразования некоторых образцов египетской культуры — реформы Эхнатона — и что
эти попытки в целом провалились, за исключением некоторого приближения письменного
языка к разговорному. Египет подтвердил свою приверженность старым образцам. Тем
самым его культура тяготела к тому, чтобы перейти на уровень простого
воспроизведения, из чего мы можем заключить, что на протяжении нескольких столетий
она находилась в невыгодном положении по сравнению с конкурирующими культурами и
нациями и в конце концов — еще до того, как осознала это, — оказалась вытеснена ими,
утратив шансы на возрождение. Итак, согласно нашим гипотетическим построениям, в
XIV в. до н. э., несомненно, была предпринята попытка переработки паттернов,
фактически
==486
А. Крёбер. Конфигурации развития культуры
неудавшаяся, вслед за чем последовало мощное, но поверхностное возрождение времен
правления Рамессидов. Но что могло бы произойти дальше? Становилась бы эта культура
в условиях гипотетической изоляции все более и более стереотипной и выхолощенной ad
infinitum, принимая новые элементы, или субпаттерны, лишь в той мере, в какой они
сочетались с традиционной великой моделью и способствовали их укреплению?
Развивался бы такой новый культурный материал, — возможно, не всегда строго
согласующийся с традиционными образцами, но открыто им не противоречащий, —
постепенно вплоть до того момента, пока, накопив критическую массу, не разрушил бы
старые паттерны и не создал новую идеологию? Или же в самой человеческой природе
есть нечто такое, что заставляет людей упрямо цепляться за наследие прошлых
поколений, пока опустошительный бунт не сметет полностью старую культуру и не
поставит на ее место новую? И ежели это так, то каким образом шло бы обновление
паттернов, если бы культура оказалась в полной изоляции от остального мира?
Происходило ли бы хоть что-нибудь помимо простой перетасовки старого культурного
материала, дающей скорее номинально, нежели по существу новые паттерны? С другой
стороны, если бы реконструкции не происходило, то не выродились ли бы древние
паттерны в экстравагантные причуды, оберегаемые от исчезновения лишь физической
невозможностью такового? Или бы воспроизводство, превратившись в самоцель, привело
к автоматизации, выхолащиванию и бесконечному прогрессивному вырождению
культурного функционирования и развития; не впала ли бы в таком случае культура в
состояние варварства и примитивности как в своего рода второе детство? Или же, в случае
разрушения паттернов извне, не могло ли это расчитить дорогу второму и третьему
возрождению?..
Легко давать субъективные ответы на эти вопросы, но если честно признаться, то
предложить здесь что-то большее, нежели личное мнение, крайне трудно. Там, где
суждения не поддаются экспериментальной проверке, разумеется, не следует ожидать
какой-то предсказуемости. Но если бы мы обладали фундаментальными знаниями о
природе культуры и механизмах ее существования, то можно было бы надеяться хотя бы
на частичное вероятностное подтверждение каких-то из ответов на данные вопросы, имея
в виду, что мы исходим не просто из определенной временной точки, а из конечной точки

хорошо известного двухтысячелетнего пути развития. Из этого примера должно быть
ясно, что даже на указанные вопросы вряд ли мож-
==487
Динамика кулыуры
но вразумительно ответить иначе, нежели обратившись к понятию «паттернов», и что
ответы — будь то доказанные или частично доказанные — почти неминуемо будут
основываться на понимании связи культурного материала с паттернами, а паттернов — с
культурой в целом.
Следует ли истолковывать культуры как сущности, которым внутренне свойственно
стареть и умирать, или же культуры гибнут в результате конкуренции; зависит ли их рост
от благотворного оплодотворяющего влияния других культур или же культуры способны
самостоятельно и до бесконечности омолаживаться, превращаясь в конце концов в
совершенно иные сущности, — все эти вопросы я, стало быть, оставляю открытыми. При
всем нашем знании истории мы слишком мало ее понимаем, чтобы дать на эти вопросы
сколь-нибудь убедительные ответы. В этой работе меня прежде всего интересовали
траектории развития некоторых ярко выраженных паттернов крупных цивилизаций; их
взаимосвязи в рамках культурного целого стояли на втором плане.
§127. Выводы
Итак, для удобства, подытожим основные выводы, к которым мы пришли в этой книге.
Ясно, что эстетические и интеллектуальные усилия, увенчанные созданием высших
ценностей, во всех рассмотренных нами высших цивилизациях проявляются в форме
временных вспышек, или взлетов развития. Аналогичные вспышки, или взлеты, как
правило, характерны и для национального развития, выражающегося в успешном
формировании политической организации и в политической экспансии. Свойствен ли этот
феномен также развитию благосостояния и росту народонаселения — особый вопрос,
который я специально не рассматривал, ибо данные на сей счет весьма разнородны, и
чрезвычайно трудно собрать их для достаточно больших промежутков времени. Вполне
может быть, что рост благосостояния и рост народонаселения окажутся процессами иного
рода, поскольку эти феномены естественным образом принимают количественное
выражение, в то время как индикатор феноменов, рассмотренных в этой книге, является
по природе своей качественным и сопряжен с гениальностью. Во всяком случае,
гениальность представляет собой одно из проявлений степени эстетического и
интеллектуального развития. Миру еще не довелось выявить строгую корреляцию между
гениальностью и накоплением богатства; что касается чисто количе-
==488

А. Крёбер. Конфигурации развития культуры
ственного рассмотрения массы народонаселения, то и это вопрос явно иного порядка.
Вполне можно предположить, что существует связь между ростом населения и
благосостояния и теми взлетами развития, которые анализировались в этой книге. И в
самом деле, трудно представить себе высокие культурные достижения, которые бы
достигли кульминации в народе, численность и благосостояние которого неуклонно
падают. Однако никаких масштабных по охвату и сравнительных исследований по данной
проблеме не проводилось, и было бы благоразумнее пока воздерживаться от суждений.
Степень, или качество, развития ценности отслеживалась исходя из посылки, что
культурная ценность наиболее явно выражена в гении. В основу исследования развития
ценностей, содержащегося в этой книге, были положены два факта: сосредоточение
признанных гениев во времени и пространстве и наличие общего языка.
Это требует такого определения гения, которое дополнило бы обычное, или
простонародное суждение, согласно которому гений — это индивид, неизмеримо
превосходящий других своими умственными дарованиями. Можно также предложить и
социальное определение гения. Гении — это индикаторы взлета культурной ценности
паттерна.
Отсюда следует, что большинство рожденных потенциальных гениев не достигают
самовыражения, что явственно видно из истории. С физиологической или
психологической точки зрения, приток гениев в той или иной расе на протяжении не
слишком продолжительного периода времени должен быть в принципе постоянным.
Однако поскольку даже те народы, которые сформировали высокоразвитые цивилизации,
производили высокозначимые культурные ценности лишь время от времени, на
относительно небольших отрезках своего исторического развития, то из этого следует, что
число индивидов, от рождения одаренных гениальностью. но не имевших возможности
реализовать ее в текущей культурной ситуации, неизмеримо больше, нежели число
индивидов, которым культурная ситуация позволила развить свои дарования.
Причины недолговечности существования
культурных образцов, обладающих высокой
ценностью, не вполне ясны. Очевидно, что они должны быть отобраны из числа других
образцов, каким-то образом от них дифференцироваться и специализироваться. Это, в
свою очередь, с необходимостью предполагает, что такого рода образец с самого начала
приобретает определенную направленность. Он
==489
Динамика культуры

постепенно движется в принятом направлении и упирается в свои границы. Это могут
быть ограничения, накладываемые физическим миром. Но не обязательно. Сам отбор, на
начальной стадии необходимый для вычленения паттерна, со временем почти
неотвратимо превращается в его ограничение. Часто оказывается слишком поздно
возвращаться назад, чтобы расширить паттерн, не сведя при этом к нулю все, что было им
до тех пор достигнуто. С исторической точки зрения, фундаментальная модификация
паттерна с целью расширения возможностей его развития — дело, видимо, не менее
трудное, чем инициация его развития на раннем этапе. Когда он реализуется, достигает
зрелости и ограничения становятся ощутимыми, нередко делаются попытки изменить или
расширить его. Если эти попытки проявляются в форме паузы в развитии, они могут
служить восстановлению энергии и корректировке его направленности, благодаря чему
после передышки его рост возобновляется, принимая несколько обновленный и более
широкий спектр направлений. Пауза в развитии европейской науки в начале XVIII в. —
пример такого рода явления.
Между тем гораздо чаще при достижении паттерном пика своего развития такое
ослабление, или отступление, не происходит. Усиливаются попытки разрушить паттерн.
Побуждения к изменению и развитию сохраняются, но облекаются в форму
экстравагантности, напыщенности и изменений ради новизны как таковой. В некоторых
случаях эти попытки подавляются, и тогда, в атмосфере нетерпимого отношения к
изменениям — во всяком случае, к тем изменениям, которые обладают значительной
ценностью, — вся деятельность замыкается на воспроизведении старого паттерна, что
неотвратимо влечет за собой падение качества культурной продукции. Этот феномен
известен как византийство. Однако это явление не обязательно перманентно и не
обязательно охватывает всю цивилизацию. Если оно продолжается достаточно недолго, то
походит на одно из современных застоев, вслед за которым может последовать период
возобновления активности, оперирующий уже более или менее обновленными
паттернами. Если интервал затишья не слишком затягивается, а возобновившееся
развитие ведет к достижению более высоких ценностей, нежели первоначальное, то это
особый тип передышки — передышка, сменяющаяся второй фазой великого роста. Если
же, напротив, период затишья слишком долог, и в особенности если второму толчку не
удается поднять развитие на ту высоту, которая была достигнута первым, то повторную
К оглавлению
==490
А. Кребер. Конфигурации развития культуры
попытку можно отнести к такому типу, как эпизод слабого ренессанса на фоне
византийского упадка.
Особое внимание мы уделили паузам и импульсам (или фазам) развития, которые они
разделяют. Примером служит латинская литература, испытавшая три или четыре
импульса развития, отделенных друг от друга во времени Таким же образом, но на
гораздо большем
временном отрезке, развивалось египетское искусство.

В единых и четко ограниченных цивилизациях конфигурация роста и упадка обычно
имеет ясные очертания, хотя и может иметь несколько гребней развития. В такой
многонациональной цивилизации, как, например, европейская, каждая нация
демонстрирует свои собственные взлеты развития, и в одно и то же время несколько
кульминаций сменяют друг друга, словно инструменты в оркестре, в результате чего
складывается более крупная полифоничная конфигурация этой сверхнациональной
цивилизации в целом.
Существует много конфигураций с несколькими гребнями развития, из которых средний
явно достигает наивысшей точки. В таких конфигурациях первый и последний толчки
развития принимают характер пролога и эпилога; но, вероятно, лучше будет назвать их
предвестиями и отголосками. Вся культурная история Испании, а также древней Греции,
может быть отнесена к этой форме.
Профили развития иногда бывают симметричными, приближаясь к нормальной кривой
изменчивости, а иногда — смещенными, т. е. высшая точка смещается от середины
временного отрезка либо к его началу, либо к концу. Смещенные профили чаще всего
характерны для отдельных сфер деятельности. Профили развития культур в целом сильно
тяготеют в сторону симметрии, и это, вероятно, связано с тем, что они собирают в себе
профили нескольких областей деятельности. Между тем изменчивость достаточно велика
и не позволяет нам с уверенностью утверждать, является ли нормальная симметричная
кривая типичной моделью роста или нет.
Продолжительность роста также крайне изменчива: от 30 — 40 лет до 500 или даже 1000
лет. В целом можно утверждать, что рост бывает, как правило, более продолжительным,
если создает культурные результаты, признаваемые впоследствии как обладающие
высокой ценностью. Однако, несмотря на это, в продолжительности развития
наблюдаются большие различия. Так, например, развитие и упадок санскритской драмы
занял в 7 раз больше времени, чем развитие и упадок елизаветинской, даже если включить
в
==491
последнюю драму времен Реставрации. Судя по всему, национальные различия также
велики. Независимо от того, какой бы род деятельности мы ни изучали, в Индии развитие
протекало медленнее.
Нет никаких явных свидетельств в пользу того, чтобы по мере продвижения от древних
времен к современности наблюдалась хоть какая-то тенденция к ускорению развития. В
этой связи, разумеется, было бы неправомерно сравнивать, например, французскую
культуру, представляющую собой лишь одну из ветвей более широкой европейской
культуры, с культурами Индии или Китая, которые-,-строре говоря, являются скорее
континентальными, нежели национальными. Западная культура в целом по
продолжительности развития уже не уступает древним и азиатским цивилизациям.
Я не устанавливаю нормы продолжительности роста крупных цивилизаций, хотя обычная
оценка — от тысячи до полутора тысяч лет — в среднем, вероятно, правильна.
