Левит С.Я. (сост.) Антология исследований культуры. Т 1. Интерпретации культуры
Подождите немного. Документ загружается.

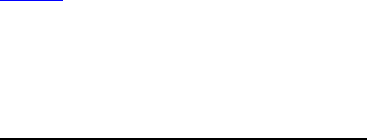
разграниченными, оказываются состоящими во взаимодействии и взаимопереплетении.
Часто они действуют одновременно, так что одно и то же явление может быть
рассмотрено как пример двух или трех из них. Эта постоянная взаимосвязь процессов есть
характерная особенность культуры (1948: 344).
История и культурный процесс
Понятие культурного процесса, используемое в антропологии, вероятно, станет яснее,
если мы сравним его с понятием, с помощью которого обозначают события человеческого
прошлого представители других академических дисциплин, а
==424
Р. Карнейро. Культурный процесс
именно с понятием истории. Данные, на которые опираются обе дисциплины, одни и те
же: «что произошло на самом деле», а элементарной единицей происшедшего является
событие. Итак, всякое событие, разумеется, уникально. В отношении запоя или
похоронного обряда, наблюдаемого этнографом во время полевых исследований, это не
менее истинно, чем в отношении победы Наполеона при Аустерлице или разрушения
римлянами Карфагена. Каждое из этих событий во всем его своеобразии произошло
только однажды и никогда не повторится вновь. Профессиональный историк не только
осознает такое свойство исторического события, как уникальность, но совершенно
очевидно оказывается неспособным его преодолеть. Историк, изучающий обстоятельства
смерти Цезаря, имеет дело с единственным в своем роде и особенным происшествием.
Для него прежде всего именно характеристики, отделяющие его от всех прочих событий
— время, место, сам способ смерти, последние слова великого человека, мысли и чувства
тех, кто при этом присутствовал, — являются предметом интереса и приковывают его
внимание.
У того, кто изучает культурный процесс, подход к тому или иному событию совершенно
иной. Уникальность исторического события, конечно, не отрицается, но она уже не
является его главной и неизбежной особенностью. Какое-либо событие приобретает
теперь значение лишь постольку, поскольку оно может быть подведено под общий класс
культурных явлений, имеющий и других представителей
3
. Смерть Цезаря может быть
помещена в контекст политических убийств, или борьбы за власть в автократических
государствах, или каких-либо сходных категорий. Только в этом случае она может
приобрести научный интерес, в противоположность интересу чисто историческому. На
это, использовав другой пример, указал и Уайт: Предположим, что мы изучаем восстания
с функционалистской
точки зрения [в данном контексте: с точки зрения культурного
процесса]. Следовательно, восстание А будет интересовать нас не потому, что оно
уникально (хотя, разумеется, оно действительно таково), но главным образом потому, что
оно похоже на другие восстания. Время и место безразличны; нас не заботит, имел ли
место мятеж в мае или в
декабре, во Франции или в России. Что нас интересует, так это
восстания вообще; мы хотим сформулировать такое обобщение, которое было бы
применимо ко всем восстаниям. Нам нужно общее, которое объяснит единичное (1945:
229). Но из того, что именно антропологи создали и разработали понятие культурного

процесса, вовсе не следует, что все они в своей работе занимались этим процессом
4
. В
действи-
==425
Динамика культуры
тельности большая часть антропологов, как и большинство историков, своими
сочинениями производят впечатление, что их интересуют культурные факты сами по себе.
Трудно избежать такого подхода или преодолеть его. Реальный мир, в конце концов,
состоит из единичных явлений, и именно с них должен начинать свое исследование
ученый. Затем, по мере погружения в детали, осведомленность относительно
особенностей и уникального характера явлений все увеличивается. Крёбер изучает
историю и распространение символа двуглавого орла и, находя этот вопрос
затруднительным, чувствует себя вынужденным сказать: «В истории цивилизации нет
практически ничего, о чем мы могли бы сказать, что это должно было случиться и что мы,
следовательно, могли бы предсказать, за исключением разве что тех случаев, когда нам
это случайно удается на самом пороге события. Каждый случай должен быть выработан
для того, что и произошло в действительности...» (1948:475).
Крёбер, ученик Франца Боаса, писал своему учителю, что его «единственный постоянный
объект — процесс, жестко детерминированный процесс» (1935: 541). Тем не менее,
насколько можно судить по тому, что написал сам Боас, его более всего впечатляли в
предметах и явлениях их своеобразие и особенности. Проведя полвека в усердном и
детальном изучении мифологических мотивов, игольниц, лингвистических текстов и тому
подобного, он пришел к выводу, что «явления, изучаемые нашей наукой, столь
индивидуализированы, столь привязаны к внешним обстоятельствам, что никакая
совокупность законов не могла бы их объяснить», а затем, что «культурные явления столь
сложны, что...сомнительно, возможно ли найти для них имеющие силу законы»(1932:
612)
5
.
Мне утверждение Боаса кажется чересчур пессимистическим. В конце концов, весь
остальной мир, мир природы, в этом отношении не отличается от мира культуры. Он
также сложен, и его явления тоже индивидуализированы. Тем не менее в поведении
природных явлений были усмотрены регулярность и закономерность, потому что их
изучали с научной точки зрения.
Когда предметы и события исследуются таким образом,
индивидуальность уступает место типам и классам, а последовательности уникальных
моментов — частям процесса. Конечно, это не открытие. Вопрос был ясно рассмотрен и
сжато изложен Генри Томасом Боклем ровно сто лет тому назад.
Что касается природы, события самые нерегулярные и капризные нашли объяснение, и
было показано, что они находятся в соответствии с определенными прочно
установленными и всеобщими законами. Это было сделано
==426

Р. Карнейро. Культурный процесс
потому, что человек способный и, прежде всего, человек терпеливой и неустанной мысли
изучал природные события с целью обнаружить их закономерность: и если события
человеческого прошлого подвергнуть подобному испытанию, мы имеем все основания
ожидать сходных результатов [курсив мой](1857:6).
Склонность скорее подчеркивать своеобразие событий, нежели делать на их основе
обобщения, образует, как
мы видели, существенное отличие исторических дисциплин, как
их обычно принято понимать, от исследования культурного процесса. Но есть и другие
отличия. Вероятно, важнейшее из них состоит в том, что историк стремится выбирать как
объект своего внимания и предмет описания действия в жизни людей. Те, кто изучает
культурный процесс, с другой стороны,
фиксируют свое внимание вовсе не на людях, а на
обычаях, воззрениях, орудиях труда, ритуалах, институтах и т.д., которые они
посредством логического анализа абстрагируют от поведения людей в целом. Одним
словом, они имеют дело с культурой.
Это различие в элементах, отбираемых для описания и анализа, неизбежно оказывает
влияние на тот способ, с помощью которого две группы ученых обозревают динамику
прошедшего. Вопрос о детерминизме применительно к историческим событиям часто
побуждает антропологов и историков образовывать два противостоящих друг другу
лагеря. Как ученые, антропологи почти постоянно прилагают принцип детерминизма к
делам человеческим. Историки, однако, не обязательно отрицая причинность в истории
целиком и полностью, последовательно стремятся свести ее роль к минимуму. Типично
для этой точки зрения замечание британского историка Г.А.Л.Фишера, что «единственное
правило предосторожности для историка [заключается в том], что ему следует
распознавать в течении человеческих судеб игру случайностей и непредсказуемостей»
(1939: xv). Разумеется, не все историки такие антидетерминисты по своим взглядам. Тем
не
менее, даже те историки, которые признают роль детерминизма в истории, видят его
действие совершенно иначе, чем те, кто изучает культурный процесс. Для обычных
историков детерминанты событий следует искать не в культурных силах, а в личных
мотивах индивидов: упрямство Бисмарка, амбиции Наполеона, коварство Ришелье —
таковы силы, вызывающие те или события и формирующие
ход истории.
Рассматривая силы мотивов в истории на этом уровне, едва ли можно избежать
рассмотрения, вслед на Карлейлем, истории как «сущности бесчисленных биографий». Но
для культуролога, чьими объектами изучения являются скорее
==427
Динамика культуры
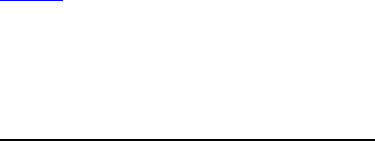
культурные элементы, нежели индивиды, причинно-следственные связи между
событиями культурного процесса не могут быть образованы личными мотивациями; их с
необходимостью образуют другие события культурного процесса.
Уровни анализа культурного процесса
Мы отметили, что культурный процесс можно изучать либо в целом, либо в различных
его аспектах; в различные отрезки времени и в различных частях мира. Сходным образом,
действие процесса можно исследовать и представлять на различных уровнях общности.
Можно выбирать, рассматривать ли детали процесса по минутам или заниматься всем
процессом в целом в самом широком масштабе. Один исследователь может направить
свое внимание на детерминанты терминологии родства, в то время как другой займется
происхождением и развитием целой цивилизации. И, разумеется, на каждом из данных
уровней культурного процесса могут встретиться проблемы. Фактически одно и то же
событие (как обычно понимают это слово «событие») может подлежать описанию и
объяснению на различных уровнях анализа. Полагаю, есть смысл проиллюстрировать это
положение, и я использую для этого пример протестантской Реформации.
Прежде всего, есть событие, «как оно в действительности произошло в истории».
Описание Реформации на данном уровне формулировалось бы с точки зрения индивидов
и событий их жизни. Поскольку это образует индивидуально-биографический уровень
описания, лежащий ниже самого специфичного культурного уровня, то в используемой
нами системе обозначений мы можем обозначить его как Lo. На уровне Lo Реформация
рассматривается с точки зрения личностей — Тецеля, Лютера, Цвингли, Меланхтона,
Кальвина и т.д., — чьи действия образуют значимые события: выдвижение 95 тезисов,
Вормсский эдикт, марбургская дискуссия, аугсбургский пост и т.д.
Если Реформацию «воссоздают» именно в таких терминах, результатом является то, что
обычно называют историей. Но этому можно предпочесть отбор или абстрагирование
культурных элементов и последовательности культурных форм из исторического ряда
материала. Если сосредоточиваются на этом, возникает иная картина Реформации; она
становится эпизодом культурного процесса. Попробуем рассмотреть, как выглядит
Реформация на трех следующих друг за другом все более общих и абстрактных уровнях
культурного процесса, которые мы обозначим соответственно как LI, L2 и L3.
==428
Р. Карнейро. Культурный процесс
На уровне L1 мы рассматриваем Реформацию как трансформацию церковной организации
в Северной Европе. На этом уровне анализа событие представляется примерно
следующим образом: В среде римско-католического клира возникают разногласия
относительно правомерности некоторых доктрин, ритуалов и родов деятельности.
Область разногласий распространяется затем на главный вопрос о том, каким образом
должны разрешаться сами доктринальные споры. Диссидентская фракция
покровительствует личному истолкованию Писания в прямой оппозиции традиционной и
установленной практике единственного и окончательного истолкования его папой.
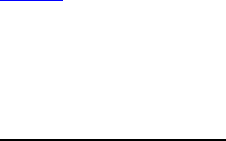
Попытки преобразовать церковные догматы и организацию изнутри терпят крах, и
движение неизбежно выходит за рамки установленного порядка и кладет начало новым
религиозным институтам с другими догматами и практикой.
На уровне L2 Реформация воспринимается не только как религиозная трансформация, но
как событие, в более широком контексте включающее многие другие аспекты культуры,
некоторые из них выглядят не менее важными, чем собственно религиозные факторы. На
этом уровне интерпретации мы видим институт церкви подверженным не только
внутренним напряжениям и деформациям из-за доктринальных вопросов, но также и
сложной серии давлений извне. Возрастающее политическое влияние германского
государства вступило в столкновение со светской и религиозной властью
наднациональной католической церкви. Светская и церковная борьба шла за контроль над
церковным имуществом и доходами от него, за места в церковной иерархии и т.п. С
возникновением промышленного производства и распространением торговли церковные
правила, ограничивающие экономическую деятельность, такие, например, как запрет на
получение дохода путем дачи денег в рост под проценты и установление большого
количества нерабочих дней и религиозных праздников, стали нереалистическими и не
могли больше навязываться. Изобретение печатного станка создало новое и эффективное
средство распространения радикальных идей, ставших выражением возрастающего
несоответствия между старыми социорелигиозными институтами и преобладающими
условиями жизни. И так далее. Происшедшая в конце концов реформа была, говоря
словами Джеймса Харви Робинсона, «прежде всего этапом в высвобождении
современного [светского] государства из средневекового, международного церковного
государства...» (1911: 5).
Этот уровень объяснения не только включает больше аспектов культурного процесса, чем
предыдущий, но также рассмат-
==429
Динамика культуры
ривает культурные элементы как явления более общего порядка. Делая полное описание
Реформации на уровне L1, следовало бы обратить большее внимание на отдельные
элементы, такие, как продажа индульгенций или спор о целибате клириков — события
более или менее уникальные в пространстве и во времени. Но на уровне L2 нас
интересуют более общие явления, такие,
как изменения в идеях и оценках, вызванные к
жизни новыми экономическими условиями, и борьба за власть между светскими и
религиозными институтами — черты, ни в коей мере не ограниченные европейским XVI
веком.
Тем не менее, в то время как на уровне L2 многие элементы и силы культурного.процесса
приобретают статус повторяющихся феноменов, особый способ, каким они соединяются и
взаимодействуют в событии, известном под именем протестантской Реформации, остается
уникальным. Но на уровне L3, еще более высоком уровне анализа, событие в целом —
Реформация целиком — утрачивает свою уникальность и становится членом общего
класса. На этом уровне Реформация приобретает характеристики хорошо известного
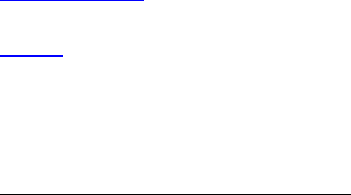
явления: приспособления социорелигиозной структуры к изменившимся материальным
условиям жизни. История знакомая. Технологические и экономические аспекты культуры
меняются легче и быстрее, чем ее социальные и религиозные аспекты. Это неизбежно
вызывает несоответствие между ними, которое, достигнув определенной величины,
приводит в результате к внезапным приспособительным переменам в социальных и
религиозных институтах.
В некотором отношении это последнее объяснение — наиболее удовлетворительное из
всех, поскольку оно показывает, как единичное событие может быть примером действия
какого-либо известного принципа или закона. Однако, как уже было установлено, не
обязательно иметь дело с культурным процессом на самом высоком уровне общности.
Если наши цели и интересы более ограниченны, подход к культурному событию с точки
зрения более низкого уровня анализа (L1 или L2) может оказаться более подходящим и
более ясно освещающим проблему. Разумеется, наши интересы и цели часто
действительно оказываются ограниченными, и это вполне законно. Исследователь
культурного процесса одинаково имеет право заниматься как формированием
восьмиклассной системы австралийских аборигенов арунта, так и происхождением
государства. В понятии процесса per se нет ничего, что делало бы его более характерным
для тех случаев, в которых явления берутся в широком масштабе, чем для тех, в которых
явления рассматриваются более узко. Процесс есть процесс, безотносительно к уровню, на
котором мы его исследуем.
К оглавлению
==430
Р. Карнейро. Культурный процесс
Повторение истории в культурном процессе
В этом пункте нашего рассуждения необходимо кое-что сказать о повторении или
повторяемости событий в истории и в культурном процессе. Начнем снова с рассмотрения
«истории историков». Похоже, чувство большинства историков таково, что история, в
противоположность известному изречению, никогда не повторяется. И в самом деле, если
мы принимаем такую концепцию истории, которая рассматривает события в их
совершенном своеобразии и, стало быть, как уникальные, то история не может
повторяться.
О событиях можно сказать, что они повторяются только тогда, когда они рассматриваются
не как отдельные случаи, а как примеры. Это, как мы заметили, преимущественно тот
способ, каким рассматриваются
события в культурном процессе. Цезарь умирает только
один раз, но автократических правителей убивают снова и снова. Таким образом,
культурный процесс действительно повторяется. Фактически повторение в этом процессе
столь обычно, что антропологи принимают его как нечто само собой разумеющееся. В
сущности, всюду, куда бы они ни взглянули, они видят примеры сегментации,
территориализации
, централизации, секуляризации, индустриализации, детрайбализации,
свержения монархий, роста национализма, возникновения национальных движений и т.д.
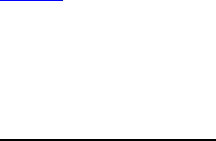
Повторяемость в культурном процессе далеко превосходит пределы повторения простых
или малозначительных событий и процессов; они также наблюдаются в продолжительных
и сложных сериях событий. Этому можно привести пример. Джулиан Стюард в своей
известной статье «Культурная причинность и закон» (Cultural Causality and Law, 1949)
обнаружил, что возникновение цивилизации в различных областях мира отмечено столь
близкими параллелями, что это явление, где бы оно ни имело место, можно подвести под
одну и ту же серию следующих друг за другом этапов. Вероятно, самые поразительные и
поучительные примеры повторяющегося культурного процесса дают нам изобретения и
открытия, сделанные независимо и одновременно дважды или даже большее число раз. На
значение этих совпадений Уайт (1949: 169-170) указал в следующих выражениях: Ничто
более ясно не демонстрирует природу культурного процесса и его проявление в
значительных эпизодах культурного развития... чем явления многочисленных и
одновременных, но независимых друг от друга изобретений и открытий...
Культурологическая интерпретация... легко делает их понятными: когда развивающиеся и
сходящиеся линии культурного развития достигают определенной точки,
==431
Динамика культуры
имеют место смешение и синтез. Если культура движется широким фронтом, эти синтезы
найдут два или более независимых друг от друга и приблизительно одновременных
проявления. Изобретение или открытие, следовательно, объясняется с точки зрения
развивающегося и внутренне согласованного культурного процесса...
Законы истории и законы культурного процесса
Немногие профессиональные историки сделали предметом своего основного интереса
выявление и описание более широких направлений и моделей (patterns) истории. Еще
меньше среди них таких, которые отваживались формулировать ее законы. Я знаю только
двух историков, сделавших это открыто и явно. Один из них, Эдвард П.Чейни,
воспользовался своим президентским обращением к Американской Исторической
Ассоциации как поводом для того, чтобы обнародовать
шесть «законов истории» (Чейни
1927: 10-22). Другим ученым, сделавшим подобную попытку, был немецкий историк Курт
Брейзиг, сформулировавший не менее 35 «законов истории» (Gesetze der Weltgeschichte)
(Брейзиг 1927: 159-165). По любым критическим стандартам обе эти попытки были
безуспешными. «Законы» Чейни, как оказывается при ближайшем рассмотрении, либо
вовсе не законы в сколько-нибудь строгом смысле этого слова, либо совершенно
ложны,
либо то и другое вместе. «Законам» Брейзига ни в одном случае даже не придана форма
научных законов. Они — не что иное как предполагаемые ее этапы, и большинство из них
в высшей степени маловероятно.
Попытки предложить исторические законы, повторяю, нетипичны для представителей
профессии историка. Большинство историков чувствуют то же самое, что
чувствовал
Эдуард Мейер, которого Гарри Элмер Барнс еще при жизни назвал «величайшим из ныне
живущих историков» и который утверждал, что «за многие годы исторических
исследований я сам ни разу не открыл какого-нибудь закона истории и не встречал, чтобы
его обнаружил кто-либо другой» (1924: 32). Нас не должно удивить, что историки
столь
безуспешно пытались сформулировать обобщения относительно хода истории,
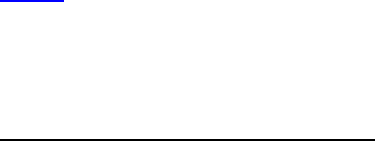
выраженные в форме научных законов, и в то же время эта неудача является неизбежной в
свете той концепции истории, которая преобладает среди историков
6
. Природу этой
концепции и ее связь с проблемой «исторических законов»
==432
Р. Карнейро. Культурный процесс
ясно установлена румынским историком Александру Ксенополом, который писал:
«...история имеет дело только с явлениями, индивидуализированными во времени, так
сказать, с теми, которые происходят лишь однажды в течение веков; ...такая концепция не
могла побудить к формулированию утверждения о законах, но лишь об уникальных и
своеобразных последовательностях» (1902: 292).
Но если нет законов «истории», есть ли законы культурного процесса?
Мы уже заметили, что культурантропологи, как ученыепрактики, полностью сознают
действие причинности в человеческом поведении. И если детерминизм действует в
области природы, то и сама культура должна обнаружить известную законосообразность.
Некоторые антропологи, однако, допуская, что развитие культуры может быть строго
детерминированным, утверждали, что оно содержит в себе так много различных
причинно-следственных цепочек и образует столь широкую и сложную структуру, что
трудно выделить основные его направления, и уж, конечно, в нем нет никаких законов.
Если же законы в самом деле существуют, то они либо «очевидны», либо просто
«трюизмы»
7
.
Тем не менее, полагаю, можно показать не только то, что имеются законы культуры, но и
то, что эти законы — нечто большее, чем тавтологии или тривиальности. Я возразил бы,
далее, что причиной того, что эти законы не являются общепризнанными, служит не
столько сложность культурного процесса, сколько то, что очень немногие антропологи
занимались формулировкой таких законов. Антропологи были столь склонны опровергать
содержательные законы культуры, что среди других представителей общественных наук,
согласно Мёрдоку (1957: 251), они приобрели репутацию «отвратительного сборища
надувателей мыльных пузырей». Прежде чем попытаться дать образцы подлинных
законов культуры, представляется уместным дать определение научного закона вообще.
Научный закон, как я его понимаю, — это просто установление инвариантной связи
между двумя или более классами явлений при определенных условиях. Признав, что это
определение закона соответствует согласному мнению научного сообщества и, таким
образом, не требует специального обоснования, сделаем несколько предположений
относительно культурного процесса, которые можно было бы квалифицировать как
научные законы.
Вероятно, предполагаемый культурный закон, наиболее общий для антропологов, — тот,
что был сформулирован Уайтом (1949; 368--369) относительно энергии и культуры: «При

==433
Динамика культуры
прочих равных условиях, культура развивается по мере того, как возрастает количество
энергии, потребляемой на человека в год, или по мере того, как возрастает эффективность
технических средств использования энергии». Я предположил бы, что законом культуры
является также и следующее утверждение: Как только достигается неолитический уровень
культуры и вооруженные силы набирают мощь
и направляются на завоевание и
порабощение, количество автономных политических образований в мире сокращается, а
их размеры возрастают.
В качестве третьего закона культуры можно предположить следующее: Когда общество
приобретает (а) технические средства для производства прибавочного продукта и (Ь)
класс специалистов, способных организовывать и направлять труд других, большинство
пленников, захваченных во время войны
, перестают убивать в целях каннибализма или
жертвоприношений, но экономически используют в качестве рабов.
Статистическая формулировка культурных законов
Итоги многих последних работ, проведенных в рамках антропологии с целью открыть и
сформулировать регулярность в культуре, были выражены с помощью статистических
корреляций. Полезно исследовать отношение между этими корреляциями (или, говоря
точнее, ассоциациями) и культурными законами. Попытки выявить корреляции между
культурными явлениями, конечно, не представляют собою чего-то нового в антропологии,
ведь именно они привлекали внимание исследователей культурного процесса от Тайлора
до Мёрдока. Однако все традиционные попытки в этом направлении почти неизменно
имели два недостатка, которые в конце концов сводились, в сущности, к одному. Во-
первых, ученые устанавливали корреляции только отдельных факторов, имеющих
отношение к тому явлению, которое подлежало исследованию и объяснению. И, во-
вторых, отыскав положительные корреляции, они скорее склонны были почивать на
лаврах, нежели продолжать преобразовывать и очищать свою гипотезу таким образом,
чтобы поднять коэффициенты до наивысшей степени. Тот факт, что дальнейшее
очищение гипотезы путем спецификации соответствующих дополнительных факторов
дало бы корреляции, приближающиеся к +1.00, был осознан и продемонстрирован
Джорджем П.Мёрдоком в книге «Социальная структура» (1949). Значение этой
демонстрации для науки о культуре столь велико и все же столь мало комменти-
==434
Р. Карнейро. Культурный процесс
ровалось, что я позволю себе детально разобрать соответствующий отрывок.
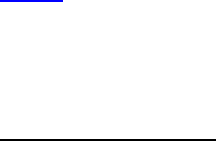
Представив в форме таблицы систему корреляций (все они положительные), полученную
им с помощью статистического тестирования на основе его 30 теорем и предположений,
Мердок пишет следующее: Хотя приведенные выше результаты, вероятно, не имеют
прецедента в общественных науках, они отнюдь не показывают действительных
возможностей Следует помнить, что в каждом случае действуют многочисленные
факторы, а в большинстве наших теорем мы выделили только один фактор анализа. Если
принимать во внимание несколько различных факторов одновременно, величина
коэффициентов заметно возрастает, и обычно вместе с нею возрастает и их достоверность.
Это можно показать на примере социальной системы нашего собственного общества
(1949: 178-179).
Выше (с. 153) Мердок обнаружил корреляцию +.68 между неолокальными расселением и
линейной терминологией родства для тройки родственников: мать, сестра матери и сестра
отца, а также корреляцию +.56 между наличием отдельной нуклеарной семьи и
использованием линейной терминологии родства для того же типа семьи
8
. Мердок
продолжает: «Если мы скомбинируем оба эти фактора (неолокальное расселение и
отдельную нуклеарную семью] и добавим две другие характерные черты нашей
собственной социальной структуры — строгую моногамию и отсутствие 'экзогамных
нелинейных групп родства, — мы получим результаты, представленные в таблице 54»
(1949: 179).
Таблица 54 показывает, что корреляция линейной терминологии родства для матери,
сестры матери и сестры отца в комбинации с моногамией, отдельной нуклеарной семьей,
неолокальным расселением и отсутствием экзогамных прямых линий родства или сибов
(sibs) весьма впечатляющая, +.91. Мердок завершает обсуждение этой темы, говоря:
«Сходные результаты можно получить при увеличении количества сходных
комбинаций...» (1949: 179)
Невозможно a priori сказать, насколько возрастут коэффициенты такого рода при
включении в корреляцию других соответствующих факторов. Даже при многократном и
усердном очищении корреляция +1.00, может быть, никогда и не будет получена.
Неосведомленность относительно некоторых из соответствующих переменных,
сохраняющаяся несмотря на все наши усилия и, в особенности, существование
временного разрыва между причиной и действием могут препятствовать формулированию
таких утверждений об ассоциациях,
==435
Динамика культуры
которые не допускают никаких исключений. Вероятно, многие из гипотез по поводу
культурных явлений, в которых мы добьемся наибольшей достоверности, никогда не
смогут быть проверены в большей степени, нежели та, что выражается коэффициентом
порядка, скажем +.95.
Такие предположения, не будучи законами в смысле установления абсолютно
инвариантных отношений, тем не менее могли бы рассматриваться как статистические
законы. Это вовсе не обязательно понизило бы их статус, ибо, как указал Ганс Рейхенбах,
« статистические законы не являются «менее достойными», нежели законы каузальные —
