Дука О.Г. Эпистемологический анализ теорий и концепций исторического развития с позиций вероятностно-смыслового подхода (на примерах российской историографии)
Подождите немного. Документ загружается.

78
инновационные возможности историков в процессе научного
исследования..
5. Вероятностно-смысловой подход является
методологической основой нового, вероятностного стиля мышления в
исторической науке. На основе вероятностного стиля мышления
становится принципиально возможным взаимопонимание историков и
представителей других, в том числе и естественных, наук и создание
новой, вероятностной по своей природе, постнеклассической теории
исторического процесса.
Структура и логика работы. Диссертационное исследование
состоит из введения, шести глав и заключения и библиографического
списка. Оно построено на основе дедуктивного метода, когда вначале
формулируются теоретические положения, а затем они
иллюстрируются на конкретных примерах. Во Введении
обосновывается актуальность исследования, формулируются его цель,
задачи, научная новизна и пр. В первых двух главах дается
теоретическое обоснование вероятностно-смыслового подхода, в
третьей, четвертой и пятой главах демонстрируются аналитические
возможности подхода в форме анализа классических, неклассических
и постнеклассических теорий и концепций исторического процесса
российских ученых. В шестой главе демонстрируются
конструктивные возможности подхода в форме конструирования
обобщающей версии исторического процесса. В Заключении
подводятся основные итоги исследования.
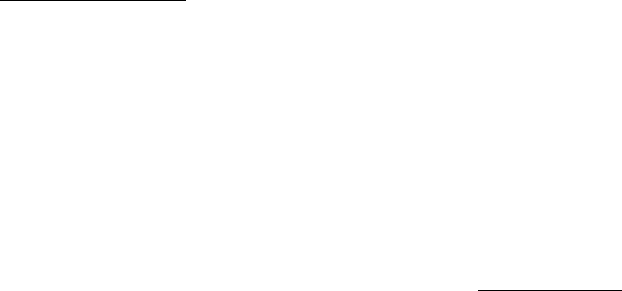
79
Глава I. Теоретические основы вероятностно-смыслового
подхода
В рассматриваются научно-философское содержание теорий,
положения которых послужили методологической основой
вероятностно-смыслового подхода.
1.1. Историческая действительность как историко-
эпистемологический феномен. Теории и концепции
исторического процесса как знаковые смысловые системы
1.1.1. Свойства исторической действительности как
эпистемологического феномена.
Объективная реальность полионтична. Одной из
специфических форм ее бытия является историческая
действительность. Ее специфика заключается в том, что она носит
чисто умозрительный
характер. Как реальность она как бы не
существует и существует одновременно. Не существует в том смысле
что непосредственно, «здесь и теперь» ее наблюдать мы не можем.
Исторический факт объективно нельзя повторить. Каждый
исторический факт в силу его неповторимости уникален. Эксперимент
в исторической науке в принципе невозможен.
Вместе с тем она существует – в отраженной
форме: в
различного рода документах, памятниках прошлого, научных теорий,
концепций, мыслительных образов. Все это – продукты
исторического сознания, вне которого исторической
действительности не существует.
Историческое сознание – это система теоретических и
обыденных знаний, оценок, настроений и чувств, посредством
которых происходит осознание исторического прошлого
80
социальными субъектами (индивидами, группами, классами,
общностями).
Историческое сознание по своему структурному содержанию
неоднородно. В его структуре можно выделить массовый и
индивидуальный, обыденный и научно-теоретический уровни.
Массовое историческое сознание – это реально действующее
историческое сознание той или иной массовой общности людей. Его
состояние выражают общественное мнение и общественное
настроение. Индивидуальное историческое сознание – это система
познавательных, мотивационных и ценностных компонентов,
обеспечивающих познание личностью истории.
Обыденное историческое сознание формируется на базе
жизненного опыта людей. Ему свойственны такие черты, как:
противоречивость, отрывочность, несистематизированность,
повышенная эмоциональность, устойчивость и инерционность.
Научно-теоретическое историческое сознание формируется
профессиональными историками, философами и социологами на
основе целенаправленного изучения исторического процесса. Ему
свойственны такие черты, как целостность и систематизированность.
В своем исследовании мы будем вести речь, естественно, о
научно-теоретическом историческом сознании. Продуктами именно
научно-теоретического сознания являются исторические теории,
концепции, различного рода историописания – объект нашего
исследования. В их совокупности и репрезентируется историческая
действительность.
Феноменологически можно выделить две формы репрезентации
исторической действительности – субъективную (представленную
конкретными, авторскими исследованиями или описаниями) и
объективированную – обобщенный, собирательный образ,
общепризнанная научная картина исторической действительности.

81
Единой, универсальной объективированной формы
репрезентации исторической действительности нет. Исторически
сложились три ее интерпретации – индивидуалистская,
структуралистская и холистическая
2
. Первая из них, наиболее полно
выраженная в трудах Г. Риккерта, состоит в истолковании
объективированной исторической реальности как временной связи
неповторимых событий. Структуралистская интерпретация, наиболее
ярко представленная в марксистских работах, у последователей Э.
Дюркгейма. Точка зрения структуралистов состоит в истолковании
объективированной исторической действительности как слабо
интегрированной структуры факторов, позволяющую вычленить
относительно устойчивые взаимосвязи. При холистической же
интерпретации, наиболее ярко представленной в трудах
представителей французской
″
школы
″
Анналов
″
, объективированная
историческая действительность рассматривается как целостная
взаимосвязь событий и ситуаций [347, с.8, 13]. Этой интерпретации
придерживаемся и мы в своем исследовании.
Субъективная историческая действительность как
умозрительный феномен обладает специфическими свойствами.
Созданная посредством сознания историческая реальность
подчиняется своим «законам природы». Так, исторической
действительности свойственно свое, историческое, время – время, не
знающее модусов настоящего и будущего. Отсюда – свойственная
истории безальтернативность: ведь прошлое – это линия реализации
одной возможности. Специфично и историческое пространство. Как
мир исторических понятий, образов, идей, представлений и смыслов
историческое пространство является разновидностью
интеллектуального пространства.
2
От греческого холос – целый.
82
Субъективное восприятие истории имеет для исторического
познания важные последствия. Во-первых, в сознании каждого
человека существует свой субъективный образ исторического
прошлого. Более или менее точный, но принципиально
нетождественный отображаемой исторической действительности.
Подчеркнем: объективной (т.е. существующей независимо от нашего
сознания) исторической реальности нет, как нет объективных
исторических закономерностей, понятий. Последние являются
абстракциями, символами, позволяющими людям лучше понять
историческое прошлое. Объективно существуют лишь исторические
источники, в которых отражены (опять же подчас в субъективной
форме) те или иные исторические явления или события. Но есть
объективное стремление историков отразить прошлое в своих
исследованиях с максимальной степенью достоверности.
Достоверность же определяется сложным источниковедческим
анализом, который продуктивен только при большой
источниковедческой базе. Чем меньше источников – тем больше
субъективизма в реконструкции исторического прошлого.
Во-вторых, каждый человек обращается к историческому
прошлому, исследуя определенные цели. Следовательно, изучение
исторической действительности носит целенаправленный характер.
Но зачем люди обращаются к историческому прошлому? В самом
общем виде ответ будет такой: для того, чтобы лучше освоить
исторический опыт. Исторический опыт, по мнению В.В. Алексеева,
– «это преемственность знаний и умений поколений,
концентрированное выражение социальной практики прошлого и
функционирования социума в окружающей среде, ориентированное
на выявление закономерностей общественного развития, на получение
знаний, обеспечивающих повышение обоснованности решений
проблем современности» [7, c.6].
83
Извлекая уроки из прошлого, люди стремятся лучше понять
современность, самих себя. Именно этим определяется актуальность
исторических исследований – то, что называется «социальным
«заказом». Отсюда – «мода» на изучение тех или иных проблем на
разных этапах развития исторической науки.
В прошлом нас привлекает то, что приобретает актуальность
сегодня. Поэтому историю и именуют памятью человечества. Ведь
память хранит все, что мы пережили, но воспроизводит то, что имеет
смысл и значение для нас здесь и сейчас. Отсюда – избирательный
характер исторических исследований: подбор, систематизация,
интерпретация исторических фактов определяются целями
исследования. Цели исследований предопределяют их результат: мы
ищем и находим в истории то, что хотим найти. Цели же
исследования определяются не только социальным заказом, но и
личной системой ценностей и приоритетов историка. Отсюда –
разнообразие методологических подходов в исторических
исследованиях.
Таким образом, историческое прошлое – это события,
происходившие в развитии человеческого общества, имеющие
принципиальное значение для понимания смысла, сути, качественного
своеобразия развития в прошлом человеческого общества в целом и
отдельных социальных общностей в целях лучшего познания людьми
настоящего и будущего. Отсюда главное свойство исторической
действительности – его семантичность.
1.1.2. Специфика историко-эпистемологического подхода к
изучению исторической действительности
Предметом нашего исследования является анализ теорий и
концепций исторического развития как продуктов процесса
исторического познания. Следовательно, их анализ мы будем

84
проводить с позиций исторической эпистемологии – теории
исторического познания.
С позиций эпистемологии теории и концепции исторического
процесса являются продуктом научного познания исторической
действительности.
Изучением исторической действительности занимаются три
науки – история, философия истории (историософия)
3
и социология.
Предметное разграничение этих наук состоит в следующем.
Историческая наука представляет собой смешанное
обществоведчески-гуманитарное знание
4
. Она ставит своей
сверхзадачей реставрацию исторической реальности во всей ее
полноте и достоверности. Поэтому историка интересуют все
факты
исторического прошлого – и уникальные и типичные. При этом
историк стремиться привнести в анализ фактического материала как
можно меньше своего, субъективного. Стремясь точнее передать «дух
эпохи», ее своеобразие, историк невольно акцентирует внимание на
индивидуальном
, неповторимом, особенном даже при освещении
типичных фактов.
Социология же акцентирует внимание на типичном, массовом
фактическом материале, т.к. ее задача – выявление структурных и
функциональных зависимостей в исторической действительности.
Эмпирическая социология решает эту задачу на микроуровне
исторической реальности, социологические теории среднего уровня
(социология подсистем общества, отраслей народного хозяйства и
3
Термин «историософия» употребляется нами как синоним термина «философия истории», хотя,
согласно исследованию О.Ф. Русаковой, термин «историософия» может использоваться и в
других, более узких смысловых значениях – для обозначения гегелевской философии истории,
религиозной философии истории, теории объективного исторического процесса [304, с. 21-22, 25].
4
В теории квалификации наук достаточно распространен взгляд, согласно которому
обществоведение изучает социальные институты, отношения, поведение групп и классов,
социальные роли этих явлений. Гуманитарное же знание имеет объектом изучения
индивидуальную деятельность исторических личностей, их мотивы, взгляды, ценностные
установки, произведения, биографии, иными словами, анализ духовной жизни в ее личностном
аспекте [347, c.6].

85
т.п.) – на ее мезоуровне, теоретическая социология – на макро- и
мегауровне
5
.
Философия истории имеет две разновидности – аналитическую
и субстантивную. Аналитическая историософия – это по сути
философия исторического познания и знания. Субстантивная
историософия изучает казуальные и мотивационные структуры
общественного развития, цели и смысл истории, взаимосвязь
личности и общества и т.д. [89, c.22].
Специфику историософского подхода емко охарактеризовал
В.М. Межуев [207, c.74-86]. Он пишет: «Есть принципиальное
различие между историком, изучающим прошлое безотносительно к
нам самим и окружающим нас людям, и философом, для которого
прошлое имеет смысл только по отношению к нашему собственному
бытию. Одно дело знать, чем было прошлое до нас и без нас, и совсем
другое – чем оно является для нас и в связи с нами. Обращаясь к
прошлому, мы попытаемся понять не только как действовали,
чувствовали, мыслили жившие до нас люди, но и как жить нам, кем
мы сами являемся или можем быть в истории. Для историка прошлое
существует как некоторая вне его находящаяся данность – подобно
тому, как природа существует для естествоиспытателя. Изучая его, он
как бы пытается освободить его от себя, от своей собственной
вовлеченности в историю. Свою задачу он видит в выработке
определенного знания о прошлом, стараясь по возможности избежать
какой-либо его модернизации, его истолкования по аналогии с
настоящим.
Для философа прошлое существует лишь в связи с настоящим в
истории, заключающим в себе новые возможности и тенденции, еще
5
Микроуровень исторической реальности – биографии исторических личностей, жизнеописание
типичной личности той или иной исторической эпохи, история малых социальных групп,
историческое краеведение;
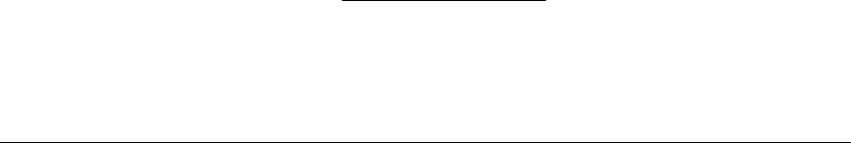
86
не реализованные в истории. Его интерес к прошлому продиктован
потребностью людей не только знать историю, но и жить в ней.
Подобный интерес приобретает в философии форму не столько
научного знания об истории, сколько исторического самосознания
человека, раскрывающего ему смысл (каждый раз новый) его
собственного существования в истории, времени, в котором он живет,
того исторического конкретного мира, к которому он принадлежит. В
отличие от историка, знающего историю, философ предстает скорее
человеком, сознающим свое место свое место в истории, свою
историческую неповторимую уникальность… Если историк смотрит
на историю глазами тех, о ком пишет, то философский взгляд на нее –
это всегда и во всем взгляд современного человека, стремящегося
увидеть в истории свое собственное отражение [207, c.76-77]…
Историк пытается освободить изучаемую им историю от своего
присутствия в ней, для философа такое присутствие и есть история.
Иными словами, историк познает историю, философ как бы мысленно
ее творит, приводит в соответствие с тем, что почитает для себя (и
своего времени) самым важным и нужным» [207, c.85].
Все это говорит о том, философия истории осваивает
историческую действительность на ее метауровне.
Структура теорий и концепций исторического процесса
отражает структуру исторической действительности. Но не в полной
мере. Наиболее полно в них отражены мета-, мега-, и макроуровни,
фрагментарно – мезоуровень и эпизодически – микроуровень
исторической реальности. Это говорит о том, что ведущим, главным в
их содержании является его историософский
компонент.
Как видим, теории и концепции исторического процесса –
«пограничные» эпистемологические феномены, существующие «на
мезоуровень – история подсистем общества, больших социальных групп (классов, наций);
макроуровень – история отдельных цивилизаций, государств, регионов мира; мегауровень –
история мирового сообщества, ноосферы.

87
стыке» истории, философии истории и социологии. Следовательно,
при их проектировании и конструировании используется и
инструментарий этих наук. Отсюда же следует, что и анализировать
содержание концепций следует, руководствуясь логикой всех трех
наук в зависимости от того, идет ли речь о философской,
социологической или конкретно-исторической составляющей их
содержания. В методологии такой подход получил название принципа
полилогизма
6
.
Наряду с уровневой структуризацией теорий и концепций
исторического процесса, отражающей воздействие на их содержание
общенаучных парадигм вполне логична их отраслевая
структуризация – разная для историософской, социологической и
конкретно-исторической составляющих их содержания.
С точки зрения философии истории теории и концепции
исторического процесса логичнее всего классифицировать по моделям
исторического развития, анализ которых является основной целью
нашего исследования.
Вторая классификация исторических теорий и концепций с
позиций историософии – по их методологическим основам. По этому
основанию их можно подразделить на марксистские,
неомарксистские, позитивистские, неопозитивистские и др.
С точки зрения социологии теории и концепции исторического
процесса можно классифицировать по характеру интерпретации
исторических закономерностей. По этому основанию их можно
подразделить на три категории. К первой из них нужно отнести
концепции, в которых исторические закономерности
6
Принцип полилогизма был разработан В.И. Разумовым как принцип в организации и
протекании мыслительных процессов при проведении междисциплинарных исследований. Он
основан на установлении сходного и различного в категориальных структурах различных логик.
Принцип полилогизма не только допускает множество логик, но, во-первых, относит каждую из
логик к определенной системе знания (или уровня, области знания в системе); во-вторых,
позволяет уточнить, где данная логика выполняет определяющую, а где – вспомогательную роль.
[285, c.58-65].
