Страус А.Л. Униполярность. Концентрическая структура нового мирового порядка и позиция России
Подождите немного. Документ загружается.

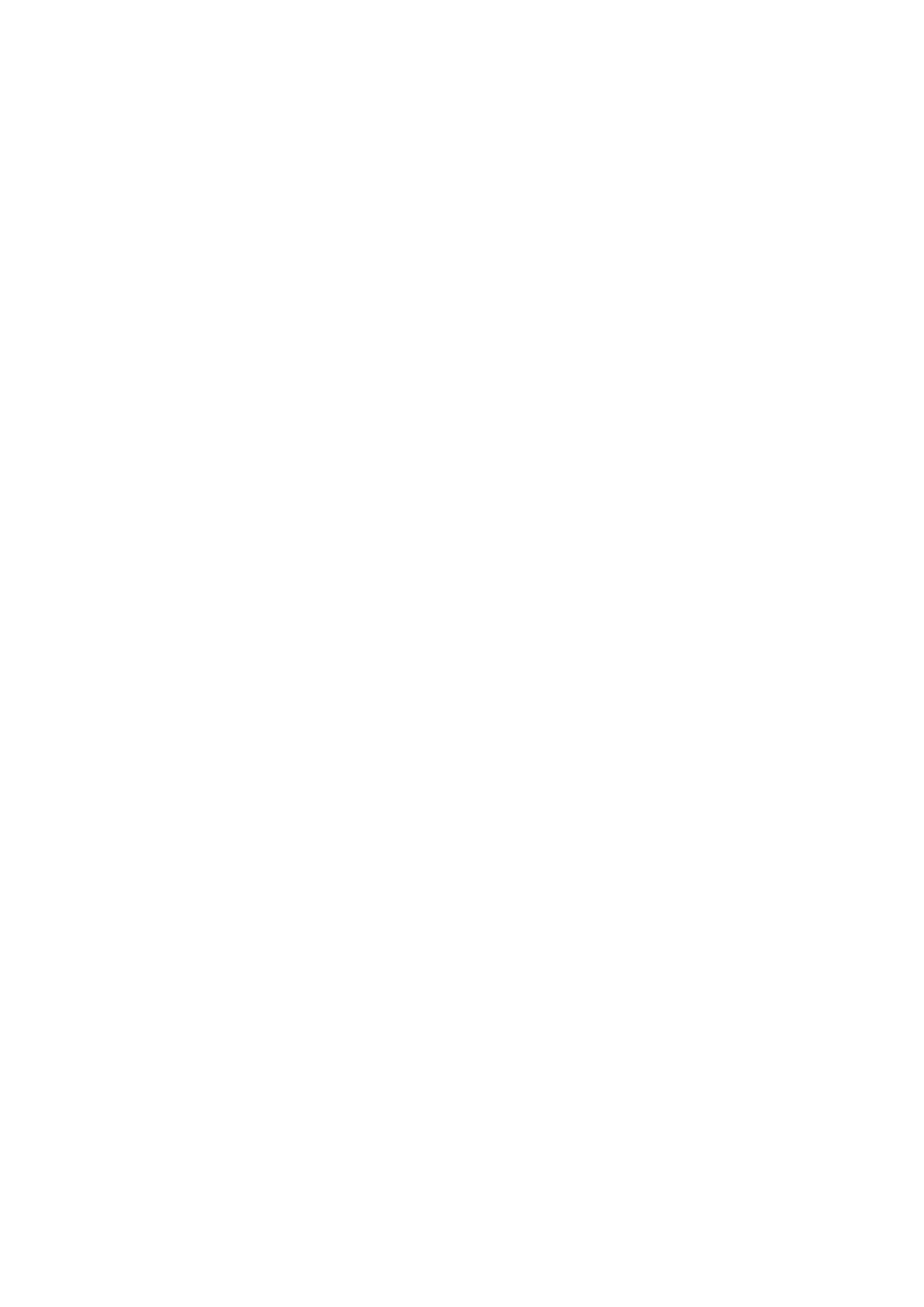
Большинство людей в пределах униполя живут в условиях власти правительств,
которые являются не только демократическими, но стабильными. (Никакое правительство,
не являющееся демократическим, не может быть стабильным в современном мире, с его
постоянно происходящими переменами; однако не все демократические правительства
стабильны.) Страны ОЭСР служат в мире примером правительственной стабильности, а
также и демократии.
Среди стран ОЭСР установился "pax democratica". Хоть и неверно, что демократии
никогда не воюют друг с другом, однако продемонстрирована верность того, что друг с
другом никогда не воевали стабильные демократии.
Сочетание стабильного внутригосударственного управления со стабильным миром
между государствами в пределах униполя делает последний самым стабильным
основанием мирового порядка, какое только сегодня доступно, или даже какое только
потенциально возможно сконструировать. Способность к сплочению в своих пределах и
способность к лидерству вне их являются основой для той связности, какая существует в
самом мировом порядке. Мировой порядок будет прочнее или слабее в зависимости от
того, будут ли упрочены или ослаблены эти способности униполя; более широкие
глобальные институции играют сравнительно второстепенную, дополняющую роль.
Униполь является не только краеугольным камнем (базой, опорой, надежным якорем)
мирового порядка; он был до сих пор также расширяющимся ядром мирового порядка.
Этим компенсируется его самая большая слабость: его статус численного меньшинства в
мире, где стремительно растет население многих стран.
На униполь в настоящее время приходится около одной пятой населения земли. Если
рассматривать его как неизменную группу стран, тогда эта доля подвержена постоянному
сокращению ввиду демографического взрыва в странах периферии. Однако в качестве
расширяющейся группы стран униполь в последние столетия представлял собой
растущую часть мира.
Когда униполь начал вырисовываться в неформальном качестве в XVIII — XIX вв., он
охватывал собою лишь население вдоль атлантических побережий Европы и Северной
Америки. В 1945 г. его состав все еще ограничивался этими странами; основной его рост
происходил просто за счет роста самих Соединенных Штатов. Правда, Соединенные
Штаты за тот период выросли колоссально. После 1945 г. униполь был сознательно
организован как ядро мирового порядка, и тут-то и начался его рост. К середине 50-х годов
это ядро, расширяясь, уже включило Германию, южную Европу и Японию, в результате
чего охватываемое им население удвоилось. Ныне его институциями рассматривается
вопрос о включении Восточной Европы, России, а также "новых индустриальных стран"
Дальнего Востока.
Благодаря этому процессу расширения (expansion), униполь становился все более
крепкой опорой для мирового порядка. Глобальное лидерство осуществляется с все более
расширяющейся базы при все меньшем числе великих держав, остающихся вовне и
выступающих в качестве противников. Открывается возможность того, что в будущем
вновь возникающие великие державы смогут присоединяться к униполю и получать свое
место под солнцем [в системе ] глобального лидерства, для чего им вовсе не понадобится
проходить через фазу конфликта с Западом на началах силовой политики.
Пополнение униполярных структур нестабильными новыми демократиями сопряжено
с определенным риском. Его надо сопоставить с опасностями, какие несет с собой их
невключение. Германия не была интегрирована после 1919г., что привело к
катастрофическим результатам; после 1945 г. были интегрированы и Германия, и Италия,
и Япония, что дало превосходные результаты. Включение или невключение России —
самая жгучая проблема, перед которой сегодня оказывается униполь. Поскольку Россия
имеет стабильное население и обладает десятками тысяч единиц ядерного оружия, ее
невключение, по-видимому, представляет больший риск. "Веймарский" сценарий — не
только кошмарная возможность; он сегодня широко дебатируется в России. "Боннский"
сценарий, в котором бывший противник становится союзником и солидаризируется с
глобальным лидерством униполя, также дебатируется в России; Западу необходимо яснее
осознать его как фундаментальную альтернативу веймарскому сценарию.

Будущее униполя далеко не гарантировано. По какому бы пути он ни пошел, он в
любом случае сталкивается с риском, на который надо идти во имя своих собственных
стабилизации и роли в мире. Но, как можно видеть из этих напоминаний об истории и о
существующих возможностях появления новых участников, его перспективы в конечном
счете внушают вполне радужные надежды. Объективные факторы для него благоприятны.
Чего больше всего недостает, это субъективного фактора — понимания и достойной
оценки униполярности.
НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕОРИИ УНИПОЛЯРНОСТИ
Представление, что нынешний мир "многополярен", широко распространилось,
несмотря на его несостоятельность. Широко распространенное явление — неспособность
осознать униполярность, а также нежелание разрабатывать тему униполярности, даже
когда она сознается. Корень проблемы — этакая политическая неприязнь к
униполярности, проистекающая из ревностной американской приверженности
антиимпериализму.
Американцы, как правило, ошибочно отождествляют свою свободу с отделением
своей страны от Британской империи и, соответственно, органически подозрительны по
отношению ко всякой гегемонии, включая их собственную, или даже ко всякой форме
центральной власти. В XX в., когда великие европейские имперские державы были
оттеснены двумя сверхдержавами, антиимпериализм стал глобальной нормой. Обе
сверхдержавы были идеологически привержены антиимпериализму. Они соревновались в
своем антиимпериализме: каждая выдвигала против другой обвинение в "империализме",
и каждая яростно отрицала обвинение другой. В Америке приверженность отрицанию
империализма осталась и после окончания холодной войны, пережив ее.
Когда кто-либо заводит речь о чем-то таком, что имеет привкус империализма, это
всякий раз моментально воспринимается как плохая реклама для американского
могущества — как внутри страны, так и за рубежом. Разговоров об "униполярности" или
"гегемонии" опасаются по этой причине. В годы холодной войны те, кто хотел оказать
поддержку американской вовлеченности в мировые дела, находили гораздо более
уместным говорить о поддержании "баланса могущества" и о противоборство-вании
опасным противникам, чем о гегемонии, а тем более об империи.
Те, кто все-таки говорил в положительном смысле о "гегемонии", как, например,
сторонники теории международных режимов, говорили о ней не с тем, чтобы поддержать
гегемонию; исходя из жесткого постулата, что американская гегемония в безнадежном
упадке, они открыто ставили задачу найти ей многостороннюю замену. Это не так уж
сильно расходилось с обосновываемой в рамках униполяризма целью создания
многосторонних образований для дополнения гегемонии и замещения ее в конечном
счете; однако совершенно неверно были намечены последовательность событий и
временные рамки. Последствия такого подхода трагическим образом оказались
противоположны интернационалистским намерениям: этот подход обеспечил
теоретическую базу для книги Пола Кеннеди и для соответствующей тезису "Америка в
упадке" теории 80-х годов, которая, в свою очередь, дала импульс к возникновению новою
изоляционизма в Америке.
Когда в 1950 г. потребовалось подготовить для Объединенного комитета начальников
штабов документ с изложением целей Америки в условиях войны/мира в случае победы в
холодной войне, сотрудники Госдепартамента, занимавшиеся вопросами планирования
политики, — могло ли быть иначе? — вышли с обоснованием цели концентрического
униполярного мирового порядка с Америкой и союзом индустриальных демократических
стран в центре. Этому докладу (Совет национальной безопасности 79) Дин Ачесон не дал
хода из опасения, что он окажется слишком спорным*. В результате Америка вела
холодную войну без позитивной цели, имея лишь негативную цель сдерживания
враждебных держав.
* NSC 79; Draft Paper Prepared by Messrs. Jonn Paton Davies, Jr. , and Robert Tufts of the Policy Planning Staff,
Washington, June 26,1951. TOP SECRET. Published in: Fredrick Aandhal, ed., Foreign Relations of the United States,
1951, Volume 1 (Washington, D.C.: US GPO, 1979), pp. 94 — 100. См. также: Foreign Relations of the United States,
1950, Volume 1, pp. 390 — 393, докладная записка от Омара Брэдли, председателя Объединенного комитета
начальников штабов, обращающегося с просьбой о подготовке этой разработки "с целью обеспечить [уверенность],
что наши военные усилия направлены к достижению победы в условиях установления в конечном счете мира, как и
к достижению победы в войне". О документе NSC 79 и о его смысле и значении см. также: Paul H. Nitze, From
Hiroshima to Glasnost: A Memoir (New York: Grove Weidenfeld, 1989), pp. 118 — 120; и, кроме того: Ira Straus,

"Supranational Norms in International Affairs" (Charlottesville, VA: University of Virginia Department of Government and
Foreign Affairs, PhD dissertation, 1992), pp. 87 — 90.
В годы холодной войны — когда экстремисты и слева, и справа обвиняли Америку в
забвении ее либертарных традиций и когда опасно плохой рекламой оказывалось всякое
обсуждение империализма и гегемонии — не только научные побуждения послужили
причиной того, что основной поток исследований в области международ-ных отношений
сосредоточился на балансах могущества, будь то многополярных или биполярных,
игнорируя униполярные аспекты реальности. Эта привычка упорно держится и до сего дня,
несмотря на то, что униполярность стала преобладающей международной реальностью.
Классические модели многополярности прочно обосновались в исследованиях по
международным отношениям. Какая-либо модель униполярности нигде не исследуется.
Некоторая традиция униполяристского направления мысли существует; ее начало
связано с теоретизированием в рамках движения за союз англоязычных стран,
проложившим путь к англо-американскому сближению конца XIX в., а продолжением
послужили теоретические изыскания, которыми сопровождалось как движение за
Атлантический союз, так и фактическое возникновение Атлантическо-^грехсто-ронних
институций, определяющих собою структуру ныне реально существующего униполя. В
этих сочинениях возникающий униполь начинал смутно осознавать самое себя и отдавать
себе отчет в своих главных слабостях: в недостатке институционализации и в
неспособности наладить конкретное "хозяйство" ("home"), к которому другие
вестернизирующиеся страны могли бы присоединиться и с которым они могли бы в
течение процесса вестернизации связать свою идентичность.
Момент наиболее ясного самоосознания наступил в 1939 г. с возникновением
движений за "Федеративный союз". Состояние умов на тот момент в концентрированном
виде отразила книга корреспондента "Нью-Йорк Тайме" в Лиге Наций, содержавшая
призыв к образованию союза Североатлантических демократий в качестве ядра для
будущей всемирной федерации. В книге доказывалось, что эти демократии уже
составляют ядро реально существующего мирового порядка, но что им необходим союз,
чтобы быть в состоянии осуществлять глобальное лидерство последовательно и
ответственно и чтобы иметь возможность подключать к лидерству новые страны по мере
того, как те будут также становиться демократическими. Пристальное внимание в книге
уделялось романтическо-тоталитарному мятежу против Запада как одному из следствий (a
function) того факта, что Запад не наладил хозяйства (a home) достаточно крепкого, чтобы
обеспечить международную стабильность, и достаточно открытого, чтобы к нему могли
присоединяться появляющиеся [на мировой сцене] державы*. Эти движения, а также
мировая война и холодная война дали тот импульс, под действием которого были
основаны НАТО и ЕС.
* ClarenceK. Streit, Union Now: A Proposal fora Fedral Union of'the Leading Democracies (New York: Harper & Row,
1939). Ханс Кон (Hans Kohn) в своих книгах по национализму представил схожий анализ международно—системных
источников немецкого и славянофильского романтизма. Теодор фон Лауэ (Theodore H. von Laue) пришел к
подобным же выводам в своих книгах о дилеммах модернизации в независимых обществах. Александр Янов
продолжил это направление мысли и выявил, каковы его современные импликации в России. Влияние этих ученых
оказалось чрезвычайно велико в германистике и славистике, а также в области сравнительных политических
исследований, однако едва ли соответствующие импликации были замечены западными исследователями проблем
Запада и исследователями международных отношений. Очень мало внимания было обращено на вывод, к
которому приходят упомянутые ученые, — о том, что националистическая реакция на Востоке связана в конечном
счете с отсутствием достаточных институционализации и открытости униполя и, в известном смысле, с отсутствием
достаточной униполяристской устремленности на Западе.
В эпоху застоя, поразившего НАТО и ЕС — как и СССР — с 1965 по 1985 гг., сознание
униполярности сошло на нет. В академическом и публичном дискурсе на Западе вновь
стала полностью господствовать мультиполяристская идеология. Если у тех, кто страдал в
условиях коммунистических диктатур, инстинктивно сохранялось понимание того, что
значат для себя самих западные униполярные институции по изначальному замыслу, то на
благополучном Западе это в основном забылось. Когда Восток вышел из периода застоя и
с яркой наглядностью подтвердил силу униполяристской идеи стремлением
присоединиться к униполю, Запад не сразу понял, что к чему. Вот уже на протяжении ряда
лет именно с Востока идут напоминания Западу о его собственных основополагающих
представлениях о перспективе. Только благодаря этому нажиму Запад начинает вновь
обретать память и перестраиваться.
Процесс восстановления памяти не проник на уровень академической теоретической
работы. Идеи униполяризма и сочинения на тему о нем все еще не изучаются на Западе,

несмотря на их подтверждение практикой. Зато, по неосведомленности о чем-либо
лучшем, что можно изучать, по-прежнему без конца муссируются устаревшие теории
биполярности и многополярности.
Едва ли на Западе хоть что-нибудь предпринимается для теоретического уразумения
униполярности. Эту категорию не делают доступной для использования в качестве
организующего принципа мышления при осмысливании реальностей и альтернатив
глобальной политики. Вместо создания концептуального пространства, какое необходимо,
чтобы продумывать функционирование униполярности и обдумывать пути ее
совершенствования для обеспечения ей жизнеспособности в новую эпоху,
унаследованные категории науки фактически исключают униполярность и разрушают
пространство, в котором она могла бы анализироваться. Реалисты изучают все, что
угодно, кроме центральной реальности в мире. Только противники униполя говорят о нем
и анализируют его.
Ввиду отсутствия конструктивной современной дискуссии, при изложении
[собственного ] видения перспектив для униполя не из чего выбирать. Однако, опираясь на
традицию униполяристской мысли и исходя из действительной истории роста униполя, мы
можем здесь, тем не менее, представить в основных чертах наметку униполяристского
подхода к новой эпохе: (1) Осуществление униполярными институциями концентрического
расширения, с охватом бывшего советского блока, включением Восточной Европы в ЕС, а
России (при сохранении или возобновлении ею западно-демократической ориентации) — в
НАТО, "Большую семерку" и ОЭСР. (2) Рационализирована процедур в этих институциях и
диверсификация их функций с тем, чтобы они были в состоянии иметь дело с проблемами
новой эпохи и могли продолжать эффективно функционировать при большем количестве
участников. (3) Осуществление этого в рамках перспективы создания союза демократий в
качестве ядра, которое, будучи открыто для постепенного подключения других
демократий, тем временем готово своей мощью поддержать тот глобальный порядок,
какой покуда возможен. (4) Формирование широкой (looser) ассоциации всех демократий,
которая могла бы составить внешний круг униполя и ведущую группу в ООН. (5) Более
сильная ООН, с более тесными связями между ООН и НАТО, большее использование
ООН в установлении глобальных норм и большее использование возможностей униполя
для более надежного обеспечения соблюдения этих норм.
В некоторых своих моментах эта перспектива уже в процессе воплощения, поскольку
институции униполярности прилагают усилия, чтобы адаптироваться к условиям новой
эпохи. Реальность движется далее, даже когда ученое сообщество не делает того, что ему
положено делать, помогая ей найти свой путь. Ее продвижение будет происходить гораздо
более гладко, если ученое сообщество станет выполнять свою работу.
Нынешняя организация униполярности, будучи сильна своей концентрической
конфигурацией, нуждается в том, чтобы над ней велась работа в следующих
направлениях: функции и гибкость, соответствующие условиям новой эпохи; зримость
институций и коллективной пользы; распределение бремени и распределение [весомости ]
полномочий (power) и наглядность того и другого (т.е. более зримая, упорядоченная
система для распределения влияния в выработке и принятии решений униполярных
институций и для разделения издержек совместного проведения их в жизнь); а также
интеграция и стабилизация новых демократий. Это колоссальная повестка дня, однако
реалистичная в том основополагающем смысле, что униполярность есть нынешняя
реальность, а ее будущее есть самая важная из реальных проблем международной
политики. Будет выигрышным реализм, концентрирующийся на подлинной реальности.
ХИМЕРА ОБНОВЛЕНИЯ МУЛЬТИПОЛЯРИЗМА
Вопреки сегодняшней реальности, теоретическая мысль большей частью — в
разделах описания, прогнозов, рецептов — концентрируется на идее обновления
мультиполяризма. Утверждается, что многополюсность есть новая реальность, или что
она стремительно возникает, или вот-вот возникнет. Нам предписывается ожидать
многополярности, готовиться к ней и адаптироваться к ней; или даже сознательно
пытаться воссоздать ее, как пытался Генри Киссинджер в 70-е годы.
Практически это работать не будет. Описания неточны. Рецепты нацеливают на
адаптацию к не—реальности. Даже в сценарии наихудшего из возможных вариантов
развития событий — где падение в многополярность все—таки происходит — это падение

было бы медленным. Еще в течение одного поколения униполярность в качестве главной
реальности сохранилась бы.
Европейский союз, если бы он сложился в обычную державу, лишь через многие годы
мог бы сравняться в могуществе с Америкой. Да и тогда он, вероятно, представлял бы
собой главным образом лишь одного из сильнейших партнеров Америки в мировых делах,
а не силу, самостоятельно ведущую соперничество за силовое влияние.
Японии, если бы она повернула против Запада, также потребовались бы годы, чтобы
стать великой военной державой. Тем временем она могла бы разориться от утраты своих
позиций на мировом рынке, и она никогда не смогла бы создать притягательный полюс
глобального лидерства. У всех ее соседей сохранились мрачные воспоминания о ее роли
во второй мировой войне.
Россия или Китай — если бы любая из этих держав стала противником Запада —
заставили бы теснее сплотиться участников Трехстороннего альянса и не смогли бы
создать альтернативного полюса, по убедительности хотя бы приблизительно такого,
какой являла советская/коммунистическая империя в годы холодной войны. Даже если бы
они выступили сообща, они были бы не лидерами конкурирующей системы мирового
порядка, как в старые времена коммунистической веры, а лидерами глобального мятежа
против униполя и против мирового порядка. Они были бы лидерами хаоса, а не
альтернативного порядка.
Хаос мог бы оказаться действительно ужасным. Многие блага униполярности могли
бы быть утрачены. Мир мог бы даже погибнуть от хаоса. Но до самого конца мировая
структура могущества все-таки была бы в основном униполярной.
Униполь не представляет собой окончательного синтеза, самоподдерживающего
согласия факта и ценности (сущего и должного). Он лишь опора — центральная опора в
мировой системе, и удивительно эластичная, — для усилий, направляемых на то, чтобы
приводить в согласие факты с ценностями. Его притягательная сила задает
разнообразным усилиям конвергентную ориентацию и влечет их всякий раз на общую
почву. С ним есть основание верить, что проекты согласования фактов с ценностями
прогрессируют, а не просто движутся в противоположных направлениях; что путь вперед
различим в существенной линии своего начертания, а не теряется безнадежно за завесой
противоречий и диалектических поворотов.
РОССИЯ И УНИПОЛЬ
Россиян отличает большая степень осознания униполярности по сравнению с людьми
на Западе, а также и гораздо лучшее понимание ее. Они воспринимают ее как глобальное
господство Запада, причем роль Америки видят в лидерстве по отношению к западному
униполю, а не в прямом глобальном господстве Америки. Это предохраняет их от
иллюзии, которая широко распространена в Америке, что уни-полярность — учитывая
некоторое снижение относительного экономического веса Америки в рамках униполя —
исчезает.
Во времена Андрея Козырева Россия стремилась присоединиться к униполю и через
него реализовывать российские интересы. Глобальные интересы, которые Россия
разделяла с Западом, рассматривались как первостепенные и должны были
реализовываться через участие в униполярных процессах; второстепенные же
специфические интересы, в связи с которыми Россия выступала обособленно от тех или
иных западных стран, надо было стремиться реализовывать обособленно же — либо
путем спокойной выработки договоренностей в рамках униполя.
Во многих отношениях эта политика оправдывала себя. Подлинно существенные
интересы России продвигались, в отличие от советских времен, когда сила и влияние
России направлялись на разрушение мирового порядка и на взращивание враждебных по
отношению к Западу держав, которые в конце концов становились враждебными и по
отношению к России. Однако включение России в униполярные институции было
болезненно медленным, из-за недостатка униполяристского видения и соответствующей
целеустремленности в подходах Запада. Темп были слишком медленным для реализации
огромных возможностей будь то России или Запада. Он был слишком медленным для
эмоционального удовлетворения России, чтобы ее курс получил подтверждение. Он был

слишком медленным для того, чтобы дать экономические блага и внушить надежды,
достаточные, чтобы скомпенсировать потрясения от реформ или, если на то пошло,
уравновесить в высшей степени зримые и непосредственные издержки в связи с
осуществлявшимися под эгидой Запада санкциями против некоторых из государств —
бывших клиентов России.
Это вызвало в России реакцию против униполярности. Новый российский министр
иностранных дел Евгений Примаков недвусмысленно высказался против униполярности.
Так же высказался и Геннадий Зюганов; он обличал униполярную глобальную "диктатуру"
Запада во главе с Америкой — толкование, которое, несмотря на неприятную риторику,
показывает хорошее понимание концентрических кругов униполярности.
Недавно Россия и Китай соединили свои голоса в выступлении против униполя-
ристского гегемонизма. Китайские лидеры десятилетиями обличали "гегемонизм" и
постепенно заменили в прицеле эпитета Советский Союз на Америку. Когда президент
Ельцин встречался с председателем Цзянь Цзэминем, они совместно выступили против
"гегемонизма" и заявили, что "при этом новом [международном] порядке никакая страна не
должна предпринимать попыток установить монополию на мировые дела" (25 апреля
1996г.).
Хотя противники униполярности часто демагогически выступают в антиамериканском
духе, они понимают, что униполь охватывает далеко не одну лишь Америку. Америка у них
риторически символизирует Запад. Если русские сегодня склоняются к выступлению
против униполярности, то это не потому, что Америка играет большую роль внутри
униполя, а потому, что Россия все еще вне его.
То, что надежду России на присоединение к униполю воплотить не удалось,
непременно должно было вызвать реакцию против западничества в России. Что интересно
здесь для нас: реакция приобрела — на уровне видения мира — форму реакции именно и
недвусмысленно против униполяризма. Кардинальное значение униполя и вопроса о
месте России в нем очевидно для россиян — настолько же очевидно для них, насколько
непонятно представителям Запада, которые сосредоточивали внимание на еле идущих
процессах социальных реформ в самой России. Покуда Россия сознает себя вне униполя,
она будет ощущать структурное давление, теснящее к антизападной реакции,
подрывающей все процессы реформ. Невнимание, какое было проявлено на Западе к
униполяризму, не позволило сконцентрироваться на этом центральном отношении и в
достаточной мере скорректировать его применительно к новой эпохе.
Реакция против униполяризма находится еще на своих первоначальных этапах в
России. Она еще может оказаться обратимой, если умеренным россиянам удастся
открыть Западу глаза на необходимость введения России в униполь. С другой стороны,
отношения могут ухудшиться, и Россия может развернуть в мировом масштабе оппозицию
униполю. Намек на это уже можно усмотреть в совместном с Китаем заявлении и в
некоторых недавних сделках по продаже оружия и ядерного оборудования, заключенных в
обход международных договоренностей. России недостанет мощи утвердить в мире
подлинные интересы ее народа, противостоя униполю, однако ей достанет мощи
ввергнуть мир в хаос и заставить страдать вместе с россиянами народы, живущие в
пределах униполя.
Униполярная интеграция — основная реальность нового мирового порядка. Наиболее
вероятным кандидатом на замещение ее является не классическая многопо-лярность, а
хаотическая националистическая дезинтеграция. В итоге осталась бы разорванная
униполярность; униполь все еще был бы сильнейшей, с большим отрывом, глобальной
силой, но — в мире, который становился бы все более неуправляемым, в котором
проиграли бы все.
Силы, существованием которых задается (that make for) униполярность, значительно
превосходят, по своему могуществу, оценки большинства писавших об этом. Они росли на
протяжении двух столетий. Благодаря их действию униполь после каждой новой
глобальной войны и глобальной трансформации оказывался более сплоченным и в
большей степени преобладающим. Функционирование униполярности может быть сорвано
в нынешнем поколении по причине недостаточного понимания ее значения; но она все же
будет продолжать существовать и задавать курс, которым движется мир. Она может
оказаться полностью утрачена в последующих поколениях, однако нет оснований заранее

предполагать такой исход или отдавать ему в кабалу наше теоретизирование. Есть все
основания начать отдавать наше время и усилия продумыванию других сценариев —
сценариев, в которых униполярность существует, развивается, продолжается; ибо это
более правдоподобные сценарии, и к их постановке можно будет прийти с меньшим
количеством ненужных травм и потрясений — лишь бы не остались с нами навечно
неумение и нежелание предугадывать и анализировать.
