Подождите немного. Документ загружается.

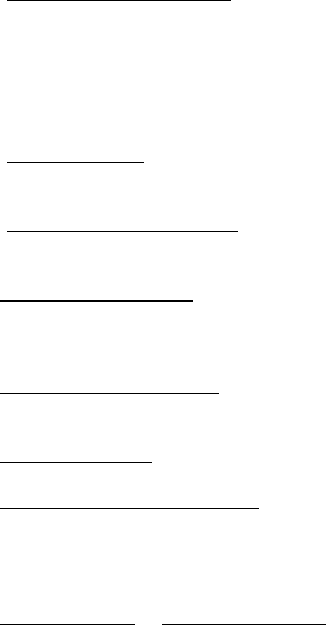
1. Предмет этики
Этика - важнейшая часть философии,
предметом изучения которой
является мораль.
В традиционном обществе человек не
ставит критических задач; он
является частью культурной среды и
он принимает ее культурные
ценности, традиции и стереотипы
почти автоматически или
бессознательно. Выполняя
общепринятый ритуал или следуя
культурной традиции, человек не
задумывается о возможности иных
вариантов поведения. Культурная
традиция выступает способом
объединения людей, демонстрируя
их приверженность к общей единой
для всех системе ценностей.
Слово "Этика" было образовано
Аристотелем от слова "этос", которое
имело несколько значений. Этос -
это привычное место обитания,
жилище, звериное логово. Позже оно
стало обозначать устойчивую
природу какого-либо явления,
обычай, просто привычку, нрав,
характер, темперамент.
Этика - моральная философия, где
этика - это область знания, а мораль -
ее предмет.
Специфика этики состоит в том, что
она проблемам отдельного человека
придает общечеловеческий масштаб,
так что предлагаемые решения могут
быть распространены на любого
другого индивида, сталкивающегося
с такими же проблемами.
Этика - это исследование
фундаментальных ценностей и целей
человеческой жизни (добро и зло,
счастье, любовь и т.д.), но также
анализ понятия морали.
3. Моральное измерение личности
мораль (от греч.) - мера господства
над самим собой, показатель того,
насколько человек ответственен за
себя, за то, что он делает. Мораль
связана с характером,
темпераментом. Если в человеке
выделить тело, душу и разум, то она
является качественной
характеристикой его души. Когда про
человека говорят, что он душевный,
то имеют в виду, что он добрый,
отзывчивый. Когда называют
бездушным, то подразумевают, что
он является жестоким и злым. Взгляд
на мораль как качественную
определённость души обосновал
Аристотель. При этом под душой
понимал такое активное, деятельно-
волевое начало в человеке, который
содержит разумную и неразумную
части и представляет собой их
взаимодействие,
взаимопроникновение, синтез.
Мораль всегда выступает как
умеренность, способность человека
ограничить себя, наложить в случае
необходимости запрет на свои
природные желания. Мораль во все
времена у всех народов
ассоциировалась со сдержанностью в
отношении эффектов, себялюбивых
страстей. Среди моральных качеств
одно из 1ых мест занимали качества,
как умеренность и мужество-
свидетельство того, что человек
умеет противостоять чревоугодию и
страху. Господство человека над
самим собой - господство разума над
страстями.
4. Моральное измерение общества
Мораль как волевое отношение есть
сфера поступков, практически-
деятельных позиций человека. А
поступки объективируют внутренние
мотивы и помыслы индивида, ставят
его в определенное отношение к
другим людям.
Мораль характеризует человека с
точки зрения его способности жить в
человеческом общежитии.
Пространство морали – отношения
между людьми. Когда про человека
говорят, что он сильный и умный, то
это такие свойства, которые
характеризуют индивида самого по
себе, чтобы обнаружить их, он не
нуждается в других людях. Но когда
про человека говорят, что он добрый,
щедрый, любезный, то эти свойства
обнаруживаются при общении с
другими и описывают само качество
этих отношений. Например:
Робинзон, оказавшись на острове,
мог демонстрировать и силу, и ум,
но, пока не появилась Пятница, у
него не было возможности быть
любезным.
Многие моральные качества
личности проявляются только в
отношениях между людьми
(честность, доброта). Мораль
ответственна за человеческое
общежитие - это регулятор
отношений между людьми.
Человеческое общежитие
поддерживается не только морально,
но также и многими другими
институтами: обычаем, правом,
рынком и т.д. Все умения, навыки,
формы деятельности человека, а не
только моральные качества, связаны
с общественным характером его
бытия. Мораль не только
ответственна за человеческие
общежития, она придает ему
изначально самоценный смысл.
Мораль можно назвать общественной
формой, делающей возможные
отношения между людьми во всем их
конкретном многообразии. Она
связывает людей до всех связей,
очерчивает тот универсал, внутри
которого только и может
разворачиваться человеческое бытие.
Человеческие отношения и
человечность отношений – очень
близкие понятия. Мораль и есть та
самая человечность, без которой
отношения людей никогда бы не
приобрели человеческого
характера.Единство свободы воли и
всеобщности составляют
характерную особенность морали.
5 «Золотое правило» в этике
«Золотое правило», одна из
древнейших нравственных заповедей,
содержащихся в народных
пословицах, поговорках и т. п.: не
делай другим того, чего не хочешь,
чтобы причиняли тебе.
Высказывалась древневосточными и
древнегреческими мудрецами, вошла
в Новый Завет. И. Кант видоизменил
её в своём учении о категорическом
императиве.
6 Мораль: определение.
мораль, начиная с греч. античности,
понималась, как мера господства над
самим собой, показатель того,
насколько человек ответственен за
себя, за то, что он делает.
мораль предстаёт в 2-х обличиях:
- как характеристика личности,
совокупность моральных качеств,
добродетелей: правдивость,
честность, доброта
- как характеристика отношений
между людьми, совокупность
моральных норм, т.е. требований,
заповедей, норм.
7.ФУНКЦИИ МОРАЛИ:
-регулятивные (базовые) суть в
привидении поведения личности в
соответствии с выработанными в
обществе моральными нормами,
инструментом является
общественное мнение, обычаи,
авторитет
-воспитательные формируются
образцы поведения, мораль
формирует нравственные качества
-оценочно-императивные поведение
человека определяется системой
ценностей
познавательная связана с
приобретением знаний (как сделать
выбор простых или экстремальных
ситуациях)
коммуникативные обеспечение
понимание друг друга, обмен
ценностями
прогностическая что можно ожидать
от общества
культурно-творческая мораль-
сторона жизни общества, моральные
измерения личности,
руководствуется разумом
(подчинение страсти разуму)
идеологическая, мировоззренческая
моральная оценка
Мораль неразрывно связывают с
нравственностью. Если мораль-это
определенные принципы, идеи,
нормы. кот. направляют, регулируют
поведение людей., то
нравственность-это та часть жизни,
кот. связана с делами, обычаями,
нравами, практическим поведением
людей.
Говоря о моральном измерении
общества большое значение имеет
золотое правило нравственности - это
фундаментальное правило
нравственности, отождествляемое с
самой нравственностью, звучащей
след. образом: «НЕ ДЕЛАЙ
(ЖЕЛАЙ) ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ
ТОГО, ЧТО СЕБЕ НЕ ЖЕЛАЕШЬ»

8.Структура морали
Структура морали складывается из
нескольких элементов.
Со времен Аристотеля в качестве
таковых выделяют моральное
сознание и нравственные поступки.
Современная этика добавляет к ним
еще и нравственные отношения.
Таким образом, в структуру морали
входят:
а) моральное сознание –
регулятивные идеи, побуждающие к
поступкам;
б) нравственная деятельность –
поступки, в той степени, в которой
они порождены моральными
мотивами (структура нравственного
поступка – см. следующую лекцию);
в) нравственные отношения –
любые отношения, в той степени, в
которой они являются реализацией
нравственных требований
(отношения к семье, к труду, к
Родине, к природе; а также
отношения между людьми, если в
этих отношениях воплотились
нравственные нормы).
9. Этика Конфуция.
Родился 551г до н.э., Китай.
Учение Конфуция изложено в книге
«Лунь юй» («Суждения и беседы»),
составленной учениками.
Конфуций открыл человека, постиг
своеобразие его бытия и места в
мире. Центральная категория его
учения - ЖЕНЬ («человечность»).
Это человеческое начало в человеке,
который является одновременно его
долгом. Смысл: «любить людей».
Иероглиф «Жень» состоит из 2
знаков, обозначающих
соответственно человека и цифру
два. «Жень» берет свои истоки и
реализуется в отношениях человека с
другими людьми.
Некоторые высказывания:
«Тот, кто искренен, стремится к
человеколюбию, не совершит зла».
«Вне своего дома относись к людям
так, как принимаешь гостей».
«Не делай другим то, что себе не
желаешь».
Следующая категория его учения –
ЛИ («ритуал»). Это нравственный
принцип поведения человека, это
воплощение человечности в
практику, в жизнь. Под ритуалом
подразумеваются конкретные нормы
и образцы общественно достойного
поведения. Принцип ритуала:
- основа ритуала – «сыновная
почтительность» (почтение сына к
отцу и забота отца о сыне; Почести,
которые оказывает отец к сыну,
возвратятся к сыну через его
собственных детей),
- любовь к предкам,
- соответствие своему назначению.
Каждый должен честно выполнять
свой долг.
воспитанность (ВЕНЬ) – культурный
смысл жизни. «Если в человеке
естественность превосходит
воспитанность, то он подобен
деревенщине». «Если в человеке
превосходит воспитание
естественности, он подобен ученому-
книжнику». Когда воспитанность и
естественность уравновешивают друг
друга, то человек становится
благородным мужем (ЦЗЮНЬ-
ЦЗЫ). Благородный муж –
средоточие всех высоких качеств,
идеальная личность, он стремится
познать правильный путь - ДАО.
Черты благородного мужа:
человеколюбие, следование ритуалу,
искренность, правдивость, честность,
почтительность в поступках,
соответствие слов и дел (сначала
сделать, потом говорить), заимствует
лучшие качества. Благородный муж
судит самого себя - это
самодостаточная, самостоятельная
личность, которая постоянно
совершенствуется. Благородному
мужу противостоит низкий человек :
Если благородный муж следует
долгу, то низкий - выгоде, он
озабочен своей карьерой, о делах
государства не думает.
10. Нравственное учение Будды
Основатель – индийский принц
Гаутама. Он получил имя Будды -
пробужденный, осветленный.
Исходным пунктом жизнеучения
Будды является констатация того, что
ни наслаждение жизнью, ни
умерщвление страстей не ведут к
блаженству. Четыре благородных
истины:
- жизнь полна страданий, - есть
причина этих страданий, - можно
прекратить эти страдания, - есть
путь, ведущий к прекращению
страданий, для этого необходимо
следовать благородному
восьмиричному пути. Это путь
нравственного
совершенствования,где соединяется
сознание, поведение.
1. ступень: правильные взгляды –
свободные от заблуждений,
познание, понимание четырех истин.
2 ступень: правильная решимость –
путь духовного отрешения от
привязанности к миру.
3. ступень: правильная речь –
воздержание от лжи, от фривольных
разговоров.
4 ступень: правильное поведение.
Отказ от уничтожения живого, от
воровства.
5 ступень: правильный образ жизни,
зарабатывать на жизнь честным
путем.
6 ступень: правильные цели,
искоренять дурное.
7 ступень: обретение правильного
направления мысли – знать, что
происходит в жизни.
8 ступень: правильное
сосредоточение. Приобретение
невозмутимости, освобождение от
всех страстей, постигаем
«НИРВАНУ».
Пять требований для мирянина:
1. Воздержание от нанесения зла
2. Воздержание от лжи
3. Воздержание от кражи
4. Воздержание от чувственных
излишеств
5. Воздержание от алкоголя
Буддизм утверждает принцип
свободы, автономии личности.
Человек параллельно живет от
Бога и не зависит от него. Человек
должен любить все живое. Учение
Будды нацелено на прекращение
человеческих раздоров через
внутреннее
самосовершенствование
личности. В его основе лежат
нравственные цели.
11.Этика Моисея.
В Пятикнижии Моисея
формировалась хозяйственная этика
древних евреев (заповеди), в которой
акцент сделан на правах человека.
Дается критика ростовщичества и
долгового рабства соплеменников.
Содержащиеся в Пятикнижии нормы
поведения древних евреев - заповеди
- начертанные Богом на "скрижалях
завета" были даны Моисею на горе
Синай. В числе десяти заповедей
содержатся шесть нравственных
норм поведения: почитание
родителей, запрет убийства, кражи,
прелюбодеяния, лжесвидетельства,
посягательства на чужую
собственность.
Характерной чертой Моисеева закона
является его всеохватность. Все
области человеческой деятельности и
все действия человека, даже самые
далекие от чисто духовных вопросов,
соотносятся с нормами и правилами,
которые считаются полученными с
Неба. Это относится и к той сфере,
которую мы называем областью
хозяйственной деятельности и
экономических отношений.
Два начала лежат в основе Моисеева
закона - справедливость и
праведность. В том и другом человек
обязан подражать Богу.
Справедливость в данном случае
означает признание шести основных
прав человека: на жизнь
собственность, одежду, жилище, труд
и отдых.
Праведность предполагает
выполнение человеком своих
обязанностей в соответствии с
заповедями Бога - по отношению к
ближним родственникам, бедным,
сиротам, наемным работникам и
рабам. По отношению к ближнему
это прежде всего помощь бедным и
больным. Запрещалось использовать
нужду ближнего для собственного
обогащения. Нельзя было требовать
уплаты долга с процентами. Нельзя
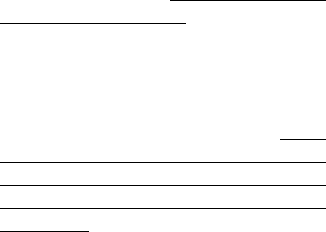
задерживать плату за труд наемного
работника. Нельзя обмеривать и
обвешиватьЧеловек не хозяин своей
земли, скота и прочего имущества, а
управляющий этими земными
благами, которые принадлежат Богу.
Все эти заповеди вытекали из общей:
Люби ближнего своего, как самого
себя. Это правило относилось не
только к свободным, но и к рабам.
Нельзя было возвращать на прежнее
место беглого раба. Суббота была
обязательным днем отдыха для всех,
включая рабов и домашних
животных.
Особые правила для судей
предписывали судить только по
справедливости, не благоволить к
богатому и не делать скидок для
бедняка или сироты. Перед законом
были равны и свободный, и раб.
Требовалось периодически прощать
долги, отпускать на волю рабов,
продавших себя в рабство из - за
нужды, возвращать заложенную в
долг землю. Запрещалось наносить
увечья рабу, притеснять вдов и сирот.
Если при соблюдении всех этих
заповедей человек становится
богатым, то это является воздаянием
за праведность и справедливость.
Такое богатство было знаком
божьего благословения.
Отличие законов Моисея от закона
Хаммурапи акцент на права человека,
а не на охрану собственности, а
трудовая деятельность считалась
занятием низким, уделом рабов.
12. Этика Иисуса Христа
Этику Иисуса Христа кратко можно
определить, как этику любви. О
жизни и учении Иисуса Христа мы
знаем по свидетельствам его
учеников и учеников его учеников.
Евангелие (благая весть) повествует,
что Христос является сыном Бога,
родившемся от непорочного зачатия.
Он
послан на землю, чтобы подготовить
людей к последнему страшному суду.
Иисус смотрит на нашу жизнь (на
наш мир) как бы из зазеркалья – из
вечности. Он говорит о конце
времени, когда добро и зло, свет и
тьма, жизнь и смерть, отделяют друг
друга непреодолимой пропастью. Он
говорит как человек, пришедший
оттуда. Иисус говорит, что Небесное
царство близко (грудущ.царство –
конец света, апокалипсис).
Иисус перевернул сложившийся
порядок ценностей. Иисус называет
себя сыном человеческим.
Добродетель сына состоит в
послушании отцу. Сын не просто
принимает волю отца, он принимает
её как свою. «Отец любит сына» - это
кач-во делает отца отцом. Человек-
сын уподобляется Богу-отцу через
любовь. Этика Христа есть этика
любви. Последнее наставление
Христа – любить друг друга.
Любовь смиренна – любовь
деятельна – любовь бескорыстна.
Любовь к врагу – божеств. высота
чел-ка.
13. Этика Мухаммеда.
Мухаммед – основатель
мусульманской религии и
цивилизации. Основой его этич.
программы явл-ся – идея единого
Бога. По его мнению, предпосылкой
и гарантией индивидуального счастья
и обществ.согласия явл-ся
безусловно вера в Бога в том виде, в
каком сам бог счёл нужным
открыться людям.Суть откровений
Мухаммеда состояла в том, что
миром правит Бог. Бог абсолютен во
всех отношениях, бог истины,
справедливости и милосердия.
Только он может быть покровителем
человека, его опорой и
надеждой.Идея единого Бога
указывает чел-ку его достаточно
скромное место в мире и вместе с тем
обязывает человека определённым
образом, а именно сугубо позитивно,
относиться к миру и прежде всего к
другим людям. ЕДИНСТВО БОГА –
ГАРАНТИЯ ГАРМОНИИ МИРА.
Человеческое существо тоже должно
быть единым. Вера едина, в неё
нельзя разделяться.
14.15 Ценност. Идеал
Ценность – это понятие, которое
выражает значимость, которую нечто
имеет для нас. Все понятия морали
имеют ценностный аспект. Высшие
моральные ценности – смысл
жизни, свобода,
счастье – представляют идеи,
организующие нравственный мир
личности в целом и оказывающие
регулятивное воздействие на ее
поведение. Поэтому каждый индивид
должен определиться в них
самостоятельно, ведь проблемы эти
носят личностный, даже интимный
характер. Здесь невозможно давать
конкретные советы и рецепты,
поэтому мы обрисуем только
возможные способы рассуждений о
природе высших моральных
ценностей.
Моральные ценности —
общественные уcтановки и
императивы, выраженные в форме
нормативных представлений о добре
и зле, справедливом и
несправедливом, о смысле жизни и
назначении человека с точки зрения
их моральной значимости. Служат
нормативной формой моральной
ориентации человека в мире,
предлагая ему конкретные
регулятивы действий. Нравственный
идеал — это целостный образец
нравственного поведения, к которому
люди стремятся, считая его наиболее
разумным, полезным, красивым.
Нравственный идеал позволяет
оценивать поведение людей и
является ориентиром для
самосовершенствования.
16.17. Добро и зло:
В первобытном обществе «добро» -
полезное, ценное вообще.С
появлением цивилизации, классового
общ-ва выделяется и моральное и
материальное понимание добра и
зла.Добро противопоставляется
практической целесообразности.
Существует два подхода: духовный и
материалистический. В дух. подходе:
добро – высшая идея, говорил
Платон, - абсолютная идея, Гегель.
Добро – проявление божественной
воли. Добро – одухотворённая
любовь, а зло – противодуховная
вражда, говорил Ильин. В матер.
подходе: Добро – то, что
способствует счастью чел-ка, что
отвечает потребностям, интересам
людей. Добро даёт наслаждение,
помогает избегать страдания. Добро –
выгода, то, что приносит личное
счастье. Эпикур говорил, что добро –
то, как достигнуто счастье.
В марксизме считали немного иначе.
Добро – проявление
обществ.отношений, в кот.
воплощаются потребности класса,
обществ. групп.
В добре отражается стремление
человека к совершенству и к
устранению препятствующих
вершин. Добро – понятие творческое.
Формы проявления добра – чуткость,
справедливость.
Зло – то, что безнравственно, наносит
вред людям. Зло разделяет,
разрушает людей.
Зло физическое – не зависит от чел-
ка (смерть, стихийное бедствие), зло
моральное – особые кач-ва и деяния
людей, зло социальное – войны,
кризисы, соц. катаклизмы.Кант
говорил, что зло может проявляться в
использовании одними людьми
других. Конфуций говорил, что на
зло нужно отвечать справедливостью.
18. Долг:
Долг представляет собой осознание
личностью безусловной
необходимости исполнения того, что
следует из морального идеала. Долг
человека – следовать по пути
добродетели, делать добро другим
людям по мере возможности, не
допускать в себе порочности,
противостоять злу. Только не
принимающий во внимание это
содержание долга индивид может
усмотреть в долге лишь понуждение.
Психологически долг в самом деле
осознается личностью как
необходимость совершения
определенных действий. Более того,
он осознается как изнутри данная
необходимость, как внутреннее
побуждение.
Долг, трактуемый как любое
упорядочение индивидуальных
проявлений, в форме ли социальных
правил или общих культурных
принципов, представляется как иго,
как подавление личности. Однако не
следует сбрасывать со счета, что то,
что со стороны предстает как
нигилизм, может мотивироваться
протестом против действительной
внешней принудительности
общепринятых норм – обычаев,
нравов, социальной дисциплины.
Нравственный пафос протеста против
внешнего, служебного, лицемерного
подчинения общественным нормам,
несомненно, может быть
привлекательным. Однако
усмотрение в моральном долге
именно вынужденного подчинения
бытующим нравам некорректно по
двум основаниям. Во-первых,
полнота индивидуального,
личностного проявления
основывается на восприятии
личностью возможно большего
опыта других людей. Этот опыт
безлично сохранен и обобщенно
выражен в культуре, в том числе в
нравственных нормах –
универсальных и локальных. С этой
точки зрения, долг может быть понят
как способ расслабиться: не
изобретать велосипед, но исполнять
обоснованно рекомендуемое
общественной средой или
уважаемыми и достойными доверия
людьми как должное.
Требования долга самоценны. Это
выражается не только в том, что
человек исполняет долг бескорыстно
и тем самым демонстрирует свою
независимость от извне данных норм
и правил, но в том, что, исполняя
долг, он утверждает его
приоритетность по отношению к
страху, наслаждению, личной пользе,
желанию славы и т.д. В исполнении
долга проявляется автономия
личности – следуя закону, человек не
нуждается во внешнем принуждении,
и, исполняя моральное требование,
человек относится к нему так, как
если бы оно было установлено им
самим. Все ограничения, которые
человек добровольно накладывает на
себя, и действия, которые он
совершает во исполнение
требования, имеют моральный смысл
при условии, что он действует,
будучи уверенным в своей правоте.
Сознание долга не существует само
по себе. Это всегда осознание
необходимости определенного рода
поступков по выполнению различных
требований. Поэтому, повторим,
неправильно понимать долг как
форму общественного контроля за
индивидуальным поведением, по
крайней мере неправильно понимать
его только так. В долге отражен
определенный механизм
взаимодействия между людьми.
Мораль можно представить как
систему взаимных обязанностей,
которые вменяются людям, которые
люди принимают на себя (или
предполагается, что люди приняли на
себя), которые осознаются ими как
определенные жизненные задачи,
безусловно исполняемые в
конкретных обстоятельствах. Так,
заповедь любви указывает на то, что
долгом человека является
милосердие. Милосердие же
предполагает не столько состояние
души, сколько определенные
действия человека в отношении
других. Заповедь гласит о том, что
человек должен быть готов помочь
каждому, нуждающемуся в помощи,
пожертвовав своим временем и
средствами, а возможно репутацией,
даже представителю враждебного
племени и чужой веры. Таков смысл
безусловности и категоричности
долга вообще – человек ему следует
несмотря ни на что. Но конкретное
действие, которое совершается в
исполнение долга, конечно,
обусловлено: оно именно таково,
какое требуется обстоятельствами.
19. Совесть:
Совесть – самое сокровенное явление
морали. Кант говорил, что совесть
есть сознание внутреннего судилища
в чел-ке. Толстой утверждал, что
берегись всего того, что
неодобряется твоей совестью.
Совесть – понятие, характеризующее
способность человека осуществлять
нравственный самоконтроль,
формулировать нравственные
обязанности, производить
самооценку совершаемых поступков.
Совесть проявляется эмоционально
(совесть в роли переживаний) и
рационально.
Совесть связана со стыдом. Совесть
показывает зависимость общ-ва от
личности, его внутреннего суда.
Совесть может выражать идеалы
личности и общ-ва.
Совесть – зеркало, отражающее
сознание чел-ка. Высший суд – суд
совести. Потеря совести – деградация
личности.
21.Категория этики. Свобода. Воля.
Моральная свобода — ценность, к
достижению которой человек
стремится и обладание которой есть
для него благо. Вместе с тем она
одновременно и условие проявления
его моральности, совершения им
нравственных поступков и действий.
Нравственная свобода — не просто
выбор вариантов поведения, а
превращение моральных требований
во внутренние потребности и
убеждения человека.
Нравственная свобода проявляется в
умении:
1) делать осознанный моральный
выбор действий и поступков;
2) давать им нравственную оценку
3) предвидеть их последствия
4) осуществлять разумный контроль
над своим поведением, чувствами,
страстями, желаниями. Нравственная
свобода – способность приобретения
субъектом власти на своими
поступками.
Выбор является свободным, когда к
нему подключены все
интеллектуальные и волевые
способности личности и когда
мольные требования сливаются с ее
внутренними потребностями,
ограничен и несвободен, когда место
разума занимают чувства страха или
долга, вызванные внешним
принуждением или произволом, а
волеизъявление личности затруднено
противоречиями между хочу, могу и
надо.
Свобода имеет два аспекта:
негативный и позитивный.
Негативная свобода – это «свобода
от», свобода отрицающая,
разрушающая зависимость «от» – от
сил природы. В этих условиях
человек оказывается перед выбором,
либо избавиться от этой свободы с
помощью новой зависимости, нового
подчинения, либо дорасти о
позитивной свободы. Позитивная
свобода – «свобода для», дающая
возможность полной реализации
интеллектуальных и эмоциональных
способностей, требующая от
личности этой реализации, свобода,
основанная на неповторимости и
индивидуальности каждого человека.
Таким образом, перед современным
человеком, обретшим свободу (в
«старом», негативном, смысле),
открываются два пути. Первый –
дальнейшее движение к «новой»,
позитивной, свободе, основными
способами достижения которой
являются любое творчество. Второй
путь – «бегство» от этой подлинной
свобод.
Моральная ответственность – это
способность личности
самостоятельно управлять своей
деятельностью, отвечать за свои
поступки. Быть свободным,
самостоятельным — значит быть
ответственным. Свобода и
ответственность находятся в прямой
зависимости: чем шире свобода, тем
больше ответственность.
Виды ответственности определяются
тем, перед кем/чем и за что человек
несет ответственность. Это может
быть:
-ответственность перед самим собой;
-ответственность за конкретные
действия и поступки перед другими
людьми;
-ответственность перед миром и
человечеством, проявляющаяся и
забота о мире, вызванная тревогой о
нем.
24. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ.
ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ,
ДРУЖБА.
любовь – интимное, глубокое
чувство, устремлённость на другую
личность, человеческую общность,
идею.
Любовь основана на открытии
максимальной ценности другого
конкретного чел-ка.
Любовь хар-ся высшими
положительными эмоциональными
духовными переживаниями. Её нельзя
принудительно вызвать или преодолеть,
она на пересечении биологического и
духовного.
Любовь – наиболее сильное нравственное
чувство, скрепляющее людей.
Различные виды проявления любви:
любовь между близкими людьм между
мужчиной и женщиной, любовь к Богу,
особенное чувство к природе и т. д.
Семья начинается с любви двоих–-
любви, целью которой является не
эгоистическое удовлетворение, а радость,
основанная на радости другого человека,
когда любящий испытывает счастье,
доставляя удовольствие любимому или
уменьшая, прекращая его страдания.
Такая способность любить прямо зависит
от способности к сопереживанию от
умения думать в первую очередь не о
себе, а о любимом человеке, умения
заботиться о нем, знать, что это и есть
твое счастье, и не думать о
вознаграждении.
Когда двое влюбленных решают связать
свою судьбу, они меньше всего думают о
том, насколько подходят друг другу. Но
постепенно выясняется, что в совместной
жизни многое зависит ни только от
взаимности любви, но и от нравственной,
психологической, сексуальной и даже
бытовой культуры партнеров.
Нравственная культура в семейных
отношениях проявляется через
нравственные качества супругов,
свидетельствующие об их любви:
доброту, заботу о близком человеке,
ответственность за него, тактичность,
терпимость. Эти качества так
необходимы в браке, где встречаются и
«обречены» быть вместе люди
совершенно разные – из разных семей, с
разными взглядами, привычками и
интересами.
Дружба признается величайшей
социальной и нравственной ценностью
большинством людей, считающих ее при
этом ценностью очень редкой. Дружба —
это близкие взаимоотношения,
основанные на глубокой личной
привязанности и симпатии, нa единстве
взглядов, интересов и жизненных целей,
которые выражаются в стремлении к
длительному разностороннему общению.
Дружба — это одно из проявлений
любви к человеку, единства между
людьми, душевного резонанса друг с
другом. Утверждение исключительности,
несравненности друга равносильно
признанию его абсолютной ценностью.
Основные критерии и свойства дружбы.
1) Близость и эмоциональность,
связанные с избирательностью и
исключительностью дружбы,
обусловливают такие ее критерии, как
бескорыстие, преданность и верность,
требовательность и принципиальность,
искренность и доверие.
2) Бескорыстие в дружбе предполагает
такие отношения, которые свободны от
соображений выгоды и строятся на
готовности помочь друг другу, порой в
ущерб своим личным интересам.
Преданность и верность друга укрепляют
веру человека в собственные силы.
26.Жизнь и нравственное учение
Сократа
СОКРАТ (около 470/469–399 до н.э.),
афинский философ, удостоившийся
поистине вечного памятника – диалогов
Платона, в которых Сократ выведен
главным действующим лицом.
Родителями Сократа были скульптор (или
каменотес) Софрониск и Фенарета. Отец,
вероятно, был довольно зажиточным
гражданином (судя по тому, что Сократ
воевал как гоплит, т.е.
тяжеловооруженный воин), однако сам
Сократ нисколько не заботился о своем
имуществе и к концу жизни чрезвычайно
обеднел. Свое учение Сократ излагал
только в устной форме. Наши сведения о
нем происходят из нескольких
источников, среди которых изображение
и упоминания Сократа в комедиях
Аристофана – прижизненные и
пародийные, а портреты Сократа у
Платона и Ксенофонта – посмертные и
хвалебные, однако они мало
соответствуют друг другу. Сообщения
Аристотеля, по-видимому, опираются на
Платона. Свой вклад в легенды о Сократе
внесли и многие другие дружественно
или враждебно настроенные авторы.
Сократ сводил добродетель к знанию.
Путь к счастью лежит через познающий
разум. Стремиться к удовольствиям и
избегать страданий. Познающий разум –
высший критерий.
Пытаясь представить себе Сократа как
учителя, мы неизменно получаем
противоречивую фигуру. Смертный
приговор Сократу обычно относят на счет
вырождения демократии, однако
восстановленный в Афинах в 403 режим
был вполне человечным и умеренным и
основывался на принципах политической
амнистии, которые неукоснительно
соблюдались. В данном случае все
указывает на то, что конкретным и
наиболее серьезным было обвинение в
«развращении молодежи», но что именно
стоит за этими словами, можно только
гадать. В диалоге Критон обсуждается
проблема защиты Сократа от обвинения в
«подрыве законов» – возможно, это
указание на то, что его влияние на
молодежь воспринималось как
покушение на самые основы общества.
Сократ настаивал на систематическом
умственном образовании молодежи, но
отказывался брать деньги за свои услуги,
не желая быть причисленным к
профессиональным учителям мудрости,
софистам (такое клеймо пытались
поставить на нем его обвинители). Лучше
любого из современников Сократ
осознавал основное направление, в
котором двигалась эпоха, и обозначил его
в виде двух положений: 1) степень
абстракции, к которой стремится мысль,
должна быть абсолютной и совершенной,
сведенной средствами диалектики к
«идее как таковой»; 2) в человеке кроется
мыслящая сила, способная к
осуществлению этой задачи. Эта сила –
псюхэ. С чего начинается познание?
Псюхэ чувствует притяжение («эрос») к
другой псюхэ и «совокупляется» с ней
посредством «логоса» (слова), порождая
последовательность мыслей, которые
очищаются затем методами
Диалектики. Учение Сократа,
выраженное в терминах любовной
символики, воплощалось в личности
самого Сократа, и, быть может, именно
это обеспечило ему неувядаемую славу.
Этика Сократа может быть сведена к
трём основным тезисам:
1. благо тождественно удовольствиям,
счастью;
2. добродетель тождественна знанию:
3. человек знает только то, что ничего не
знает.
27. Этические взгляды Эпикура.
ЭПИКУР (342–270 до н.э.),
древнегреческий философ,
основатель эпикуреизма, родился на
Самосе в семье афинян. Занимался
философией у платоника Памфила и
у последователя Демокрита
Навсифана. От последнего Эпикур
усвоил атомизм, сделавшийся
основой его собственного учения.
Умеренный вариант гедонизма
был предложен греческим
философом Эпикуром, учившим, что
лишь естественные и необходимые
удовольствия достойны, поскольку
они не разрушают внутреннюю
невозмутимость души. Высшим
благом Эпикур считал состояние
атараксии, т.е. невозмутимости,
«свободы от телесных страданий и
душевных тревог». Однако разница
между гедонизмом и эвдемонизмом
несущественна: оба учения
ориентируют человека не на добро, а
на удовольствие (личное счастье), а
если и на добро, то ради
удовольствия (личного счастья).
28. Этика И. Канта. Понятие
«категорического императива»
В практической философии
Иммануила Канта основные
тенденции новоевропейской этики - к
утверждению автономии человека и
рациональному обоснованию морали
- достигли своей вершины. Кант с
наибольшей полнотой и
последовательностью выразил эти
два принципа: свобода и разум суть
непременные предпосылки
моральности личности. При этом
Кант представил мораль как
своеобразное средство принуждения
к поступкам - через
долженствование, специфическим
выражением которого является
нравственный закон в форме
категорического императива. Этику
Канта обоснованно называют этикой
долга, или этикой категорического
императива.
Практическая философия Канта
получила развитие в трех
фундаментальных произведениях:
"Основание метафизики нравов"
(1785), "Критика практического
разума" (1788) и "Метафизика
нравов" (1797) [1]. Этические
проблемы Кант рассматривает и в
ряде других своих работ.
Всякая наука, по Канту, должна
иметь первый принцип; такой
принцип важен и для науки о морали.
Без него невозможен единый
критерий оценки того, что является
добром или недобром. Обращаясь к
истории философии, Кант показывал,
что возможны два подхода к
установлению принципа морали:
один выводит мораль из
эмпирических начал, другой - из
интеллектуальных. Эмпирические
начала могут быть внутренними
(физическое или моральное чувство)
или внешними (воспитание, обычаи,
политическая власть. Этика
определяется Кантом как наука о
законах свобод. Действия по законам
свободы, т.е. свободные действия
возможны при условии, что они
независимы от каких-либо
принципов, основывающихся на
опыте, или от целей, имеющих
практический результат. Это -
действия, основывающиеся
исключительно на рациональных
основаниях. Поэтому при том, что в
этике есть эмпирическая часть,
которую Кант называет
"практической антропологией" [3],
она должна начинаться с метафизики
- метафизики нравов, или "чистой
моральной философии", совершенно
свободной от какого бы то ни было
эмпирического содержания.
Метафизика нравов вскрывает
первопринцип морали, и на этой
основе строится эмпирическое
изучение нравственности.
Понятие долга. Понятие доброй воли
Кант разъясняет через понятие долга.
Долг - это "практически безусловная
необходимость поступка".
Долг – чистота нравственного мотива
и твердость нравственных
убеждений. Через долг утверждается
и всеобщность морального закона, и
внутреннее достоинство личности.
30. КАТЕГОРИИ ЭТИКИ. СЧАСТЬЕ.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ О НЕМ. СМЫСЛ
ЖИЗНИ.
Смысл жизни, в качестве этической
категории, обозначает высшую,
стратегическую нравственную ценность
(или их целостную совокупность),
которая личностью выбирается,
представляется как социально значимая.
Одной из центральных проблем этики
является определение места человека в
жизни, смысла его бытия. Существовали
различные исторические концепции – от
Древней Греции до наших дней, –
которые предлагали различные модели
смысла жизни исходя из содержания
общечеловеческих ценностей:
-гедонизм (от. греч. наслаждение) –
смысл жизни получить максимум
наслаждений;
-эвдемонизм (от. греч. счастье) – смысл
жизни в том, что бы быть счастливым;
-утилитаризм (от. лат. польза) – смысл
жизни в стремлении к личной выгоде и
пользе;
-рагматизм (от. греч. действие, практика)
– смысл жизни связывается с богатство,
стремление к обладанию вещами,
комфортом, престижем;
-корпоративизм (от. лат. объединение,
сообщество) – смысл жизни связывается с
общностью интересов ограниченной
группы людей, преследующей частные
интересы;
-перфекционизм (от. лат совершенство) –
смысл жизни связывается с личным
самосовершенством; гуманизм (от. лат
человечный) – смысл жизни связывается
со служением другим людям,
проникнуты любовью к ним, с уважением
к человеческому достоинству и с заботой
о благе людей.
Смысл — это объективная
наполненность, содержательный
критерий жизни; осмысленность — это
субъективное отношение к жизни,
осознание ее смысла. Жизнь индивида
может иметь смысл, независимо от
осмысления.
Объективно смысл жизни человека
реализуется в процессе его
жизнедеятельности, протекающей в
разных сферах. Поэтому он может
выступать как спектр смыслов и целей.
Но в любом случае человек должен
состояться, иметь возможность
представить себя миру, выразить свою
сущность. Жизнь наполняется смыслом,
когда она полезна другим, когда человек
с удовлетворением и полной самоотдачей
занимается своим делом, когда
существование его проникнуто
нравственным добром и
справедливостью. Тогда объективная
значимость, смысл его жизни совпадают с
его личными, субъективными
стремлениями и целями. Наилучший
вариант — ситуация, когда смысл и
осмысленность образуют гармоничное
единство. Ведь осознать смысл своей
жизни — значит, найти свое «место под
солнцем».
С категорией «смысл жизни» тесно
связано понятие «счастье». Если смысл
жизни — это как бы объективная оценка
значимости существования человека, то
счастье — это сопровождающееся
чувство глубокой моральной
удовлетворенности личностное
переживание полноты своего бытия,
результатов своей жизнедеятельности.
Поэтому счастье всегда связано с
ощущением необыкновенного подъема
духовных и физических сил, стремлением
к переживанию всей многомерности
бытия, а состояние счастья прямо
противоположно состоянию пассивности,
равнодушия, инертности.
Правда если понимать счастье лишь как
чувство удовлетворения, то придется
признать равноценность любых
переживаний удовлетворенности, а
значит, и счастья: и в случае совершения
добра, и в случае совершения зла.
Поэтому существует множество
«моделей» счастья — общепризнанных и
личных, в рамках которых счастье
соотносится с благом — с обладанием им
или созиданием его. Однако и здесь
«возможны варианты».
В гуманистической этике существует
мнение: для того чтобы человек был
счастлив, он должен не иметь, а быть (Э.
Фромм) — быть нравственно
автономной, самодостаточной
личностью, отличающейся
определенными моральными качествами.
Поэтому счастье — это осуществление
внутренней свободы, процесс реализации
глубочайшего личного «хотения».
Необходимые условия счастья:
Объективные — удовлетворение
основных жизненных потребностей
человека. Поэтому материальное
благополучие и жизненный комфорт —
еще не счастье, а лишь норма
человеческого существования, условие
счастья.
Субъективны — внутренняя готовность и
способность личности к счастью —
своего рода талант, в котором
проявляется глубина и яркость личности,
ее внутренняя энергия. В конечном счете
это — нормальное состояние человека. И
поэтому отказ от счастья есть
предательство личности, подавление в
себе собственной индивидуальности, а
утрата способности к счастью –
показатель деградации личности,
душевного хаоса, неспособности найти
главную линию в жизни.
Итак, для счастья необходимы
следующие условия:
-оптимальное удовлетворение
материальных потребностей;
-самореализация личности через
профессиональную деятельность и
бескорыстное общение. Некоторые
особенности и «законы» счастья
Счастье можно обрести только в процессе
самоосуществления, самореализации
личности. Оно невозможно при
пассивном образе жизни.
Счастье не есть непрерывное состояние
радости. В нем нельзя пребывать, как в
некоей «зоне непрекращающихся
удовольствий». Это миг, «звездный час»
человека, наиболее яркие точки его
жизни.
Предчувствие, предвкушение счастья, его
ожидание часто значительнее, острее и
ярче, чем его осуществление.
Счастье существует только во взаимном
общении, во взаимодействии людей. Им
нельзя владеть, обособившись ото всех.
Для счастья всегда нужны другие: только
тогда, когда другие приобщены к
«моему» счастью, а я к счастью других —
только тогда счастье сохраняет свою
полноценность, наполненность.
Счастье не может быть абсолютным. Оно
— не полное отсутствие несчастий, но
способность преодолевать невзгоды и
неудачи. Счастье временно, преходяще.
Когда мы счастливы, мы всегда
испытываем неосознанный страх: страх
потерять счастье, страх, что оно пройдет,
кончится. Это, с одной стороны, омрачает
счастье, придает ему привкус горечи, а с
другой — ориентируем нас на бережное
отношение к счастью.
Счастье не есть безмятежность и
спокойствие, оно всегда сопряжено с
борьбой — преодолением тех или иных
обстоятельств. Переживание полноты
бытия, достижение глубокой:
внутреннего удовлетворения невозможно
без преодоления собственной инертности,
пассивности, внешних обстоятельств,
наконец, без преодоления «самого себя».
Счастье может базироваться не только на
высоких моральных ценностях, в его
основе могут лежать и антиценности ради
которых человек иногда сознательно идет
на саморазрушение личности, будучи не в
состоянии отказаться от мгновений пусть
призрачного, но счастья.
Мера счастья зависит от степени
нравственности индивида: удовольствие в
жизни может испытать каждый, счастье
— только по-настоящему нравственный
человек.
31.. ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКИ.
ПРОБЛЕМЫ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ.
Прикладная этика – совокупность
принципов, норм и правил,
выполняющих на основе нормативной
этики практическую функцию научения
людей должному поведению в
конкретных ситуациях и в определенных
сферах их жизнедеятельности. Сущность
прикладной этики заключается,
следовательно, в конкретизации
общечеловеческих моральных норм и
принципов применительно к данным
ситуациям, для отдельных групп людей, с
учетом специфики жизнедеятельности.
Прикладная этика (ПЭ) аккумулирует в
себе взаимодействие этической теории,
моральной жизни и нравственного
воспитания личности, разрабатывает
специальные формы и технологии этих
процессов и управления ими. Она не
просто использует теоретические
этические наработки, а превращает их в
специфическую, практически новую
информацию, преобразованную для
новую конкретной деятельности или
ситуации.
Специфичность ПЭ проявляется в ряде ее
особенностей.
По сравнению с общей этикой ПЭ более
специализирована и более прагматична.
ПЭ включает в себя не только собственно
теорию морали, но и комплекс
внеэтических знаний о морали —
социологических, психологических,
педагогических.
ПЭ отличается сильным технологическим
аспектом: она предполагает разработку
способов и методов внедрения
прикладного знания в практику в виде
проектов, программ, эталонов, моделей,
кодексов, представляющих в своей
совокупности ее «опредмеченную силу»;
В процессе «приложения» происходит
доразвитие общечеловеческих норм и
требований этики.
«Практичность» ПЭ проявляется, прежде
всего, в ее структуре, в которую входят:
этика гражданственности;
экологическая этика и биоэтика;
этика межличностного общения;
ситуативная этика;
профессиональные этики;
этика делового общения.
Анализ развития западной этики (мы
имеем в виду прежде всего англоязычные
страны) на протяжении двадцатого века
позволяет выделить несколько главных
этапов. С самого начала века был
поставлен вопрос о необходимости
переосмысления задач этики, нахождения
новых путей и методов, по сравнению с
предыдущей традиционной этикой, ее
развития. Уже первый (хронологически)
теоретик этики XX века — Дж.Э.Мур —
выступил с критикой всех традиционных
направлений этики. Он подробно
проанализировал недостатки и ошибки
метафизической, наиболее ярко
представленной еще Кантом,
натуралистической этики, в самых
различных ее разновидностях,
утилитаристской, эмотивистской этики, и
показал, что ни одно из существовавших
в этике направлений не в состоянии
решить ни один из ее основополагающих
вопросов — что такое добро, идеал,
правильное поведение, счастье. С этого
— критического настроя — началось
развитие западной этики в нашем
столетии.
И этот негативно-критический настрой
оказался весьма конструктивным.
Мур положил начало целому особому
периоду в существовании этики,
длящегося затем без малого шесть
десятилетий и получившему общее, хотя
и не очень точное наименование
метаэтики1. За этот период западной
этикой была проделана огромная
аналитическая работа. В русле метаэтики
были подвергнуты строго логическому
анализу все важнейшие этические
понятия: добро, идеал, долг, правильное и
неправильное и др. И хотя результаты
анализа в целом ряде случаев были
весьма неутешительными для этики —
как, например, логический анализ
понятия добра, предпринятый Муром в
работе “Принципы этики” или анализ
правильного в книге “Этика” (Ethics,
London, 1912) — общий итог этого
периода в развитии этики состоял в том,
что проделанная работа, помимо
множества отдельных ценных находок,
как бы исчерпала до конца все
возможности абстрактного формально-
логического, лингвистического анализа, и
по контрасту, убедительно доказала
необходимость перехода на качественно
новые пути исследования в этической
теории. Критика метаэтики завершилась
почти единодушной решимостью
обратиться от сухой логики к жизненным
фактам моральной, социальной и
психологической эмпирики.
Следующий после метаэтики — второй
период в развитии западной этики —
ознаменовался именно таким поиском
прорыва к реальной жизни — к
социологии и психологии морали. Этот
второй — назовем его дескриптивным
(эмпирическим) — период продолжается
не слишком долго, всего два-три
десятилетия, и, как мы постарались
показать в своих работах, хотя и принес, в
свою очередь, некоторые полезные
результаты, выполнил, главным образом,
подготовительную работу. Пройденные в
этот период английской и американской
этикой пути — анализ эмпирических
фактов из области социологии и
психологии морали — убедительно
показали, что и здесь этика еще не
обретает своего главного предмета:
конкретного человека, на протяжение
всей своей жизни сталкивающегося с
реальными моральными проблемами.
Ведь и социология, и психология морали
все-таки имеют дело все с тем же
усредненным, а значит абстрактным
индивидом, объектом моральных норм и
их транслятором. Но и поиски,
осуществленные в этот период, тоже
подготовили “переход к человеку” в
конкретных сферах его
жизнедеятельности. Именно здесь
человек уже становится главным
предметом изучения, а науку начинают
интересовать все детали, все конкретные
подробности его поведения с моральной
точки зрения, т.е. конкретные ситуации,
где на карту ставятся не только деньги и
благополучие людей, но часто и сама
жизнь.
Третий период — новейший, текущий —
в развитии западной этики, как мы
полагаем, представляет собой период
прикладной этики. И это отнюдь не
случайно. Он является закономерным,
органическим результатом процесса
развития этики в течение всего
двадцатого века, как бы его итогом. На
наших глазах этика в течение текущего
столетия прошла путь от сугубо
теоретического, абстрактно-логического,
методологического анализа в виде
метаэтики — до, может быть, высшего
своего достижения — до решения самых
насущных, острых, больных, прямо и
непосредственно касающихся живого
человека проблем — до биоэтики и
прикладной этики в целом. Такова одна
из весьма правдоподобных гипотез
относительно причин возникновения
прикладной этики: тупик метаэтики был
благополучно преодолен за счет
возникновения сначала дескриптивной, а
затем и прикладной этики. Допустимость
такого предположения проистекает из
того широко известного факта, что
проблема связи этики с жизнью, связи
теоретического и практического для
этики всегда была поистине роковой. Но
и в других науках проблема соотношения
теории и практики именно в нашем веке
вновь стала особенно острой. Она встала
и перед теоретической физикой и перед
математикой, и перед многими другими
научными дисциплинами. Сам термин
“прикладная” наука возник внутри
естествознания, внутри фундаментальной
науки. Из нее он был вскоре перенесен в
гуманитарные науки, в том числе, в
философию и этику. Важно подчеркнуть
лишь, что для такого разграничения
теоретической и прикладной
разновидностей одной и той же науки
необходимо только одно условие: чтобы
теоретическая ее часть достаточно
хорошо развилась и как бы достаточно
далеко ушла от практики. В этике такую
роль сыграла метаэтика, которая стала
достопримечательностью начала века и
которая провозгласила себя
принципиально отличной от нормативной
этики, а значит, от этики, обращенной к
практике, к жизни.
32. проблемы биоэтики
БИОЭТИКА – область
междисциплинарных исследований
этических, философских и
антропологических проблем,
возникающих в связи с прогрессом
биомедицинской науки и
внедрением новейших технологий в
практику здравоохранения.
Содержание биоэтики.
Развитие биоэтики обусловлено тем,
что в современном мире медицина
претерпевает процесс
цивилизационных преобразований.
Она становится качественно иной, не
только более технологически
оснащенной, но и более
чувствительной к правовым и
этическим аспектам врачевания.
Этические принципы для новой
медицины хотя и не отменяют
полностью, но радикально
преобразуют основные положения
«Клятвы Гиппократа», которая была
эталоном врачебного морального
сознания на протяжении веков.
Традиционные ценности милосердия,
благотворительности, ненанесения
вреда пациенту и другие получают в
новой культурной ситуации новое
значение и звучание. Именно это и
определяет содержание биоэтики.
К биоэтическим обычно
относят моральные и философские
проблемы аборта; контрацепции и
новых репродуктивных технологий
(искусственное оплодотворение,
оплодотворение «в пробирке»,
суррогатное материнство);
проведения экспериментов на
человеке и животных; получения
информированного согласия и
обеспечения прав пациентов (в том
числе с ограниченной
компетентностью – например, детей
или психиатрических больных);
выработки дефиниции (определения)
смерти; самоубийства и эвтаназии
(пассивной или активной,
добровольной или насильственной);
проблемы отношения к умирающим
больным (хосписы); вакцинации и
СПИДа; демографической политики
и планирования семьи; генетики
(включая проблемы геномных
исследований, генной инженерии и
генотерапии); трансплантологии;
справедливости в здравоохранении;
клонирования человека,
манипуляций со стволовыми
клетками и ряд других.
33. Мораль и право.
1.Цель регуляции.
М.- двуединая цель: 1.разрешение
универсальных противоречий бытия:
должное/сущее,
социальное/индивидуальное,
добро/зло. 2. поддержка, сохранение
общности.
П. - двуединая цель: 1. защита
собственности и собственника.
2.защита общественного порядка.
2. Способ регуляции. Всего 3
способа: духовный – опора на
добрый разум, чувства, добрую волю;
материально-экономический;
физический, насильственный.
М. – опирается только на один
способ регуляции – духовный.
Мораль самый совершенный вид
регуляции, опирающийся на
человеческое в человеке, но реально
М. Оказывается самым не
действенным, несовершенным видом,
по причине человеческого произвола.
Шарль Фурье «М. – это бессилие в
действии». Ницше «М. – это удел
слабых, это удел рабов.
П. – духовные – правовое
просвещение, правовое воспитание,
правовые санкции; материально-
экономические – налоги, штрафы;
физически-насильственный –
лишение человека свободы,
заключение.
