Хубов Г. Мусоргский
Подождите немного. Документ загружается.


-кД-
^—
ет«с _ пу«
ка,
f ^r f f f_t_
J--] J=i 1=1
(J
про . CIT DO . ща
^ ^^ ^ ^^ Ч r [ r I T I
Мотив смерти, мелькнувший во вступительной час-
ти, звучит в этой жуткой сцене призрака, завершаю-
щей монолог «преступного царя Бориса».
В предварительной редакции монолог трактован
не менее ярко, но — в ином аспекте (соответственно
первоначальному замыслу оперы). В нем нет ариозо,
психологически углубляющего образ преступного ца-
ря. Монолог в основном построен на драматическом
сопоставлении темы царственной власти (с включе-
нием эпизода «семейной отрады») и темы внутренних
борений Бориса (отсутствующей в основном варианте
монолога):
0-» hopnC
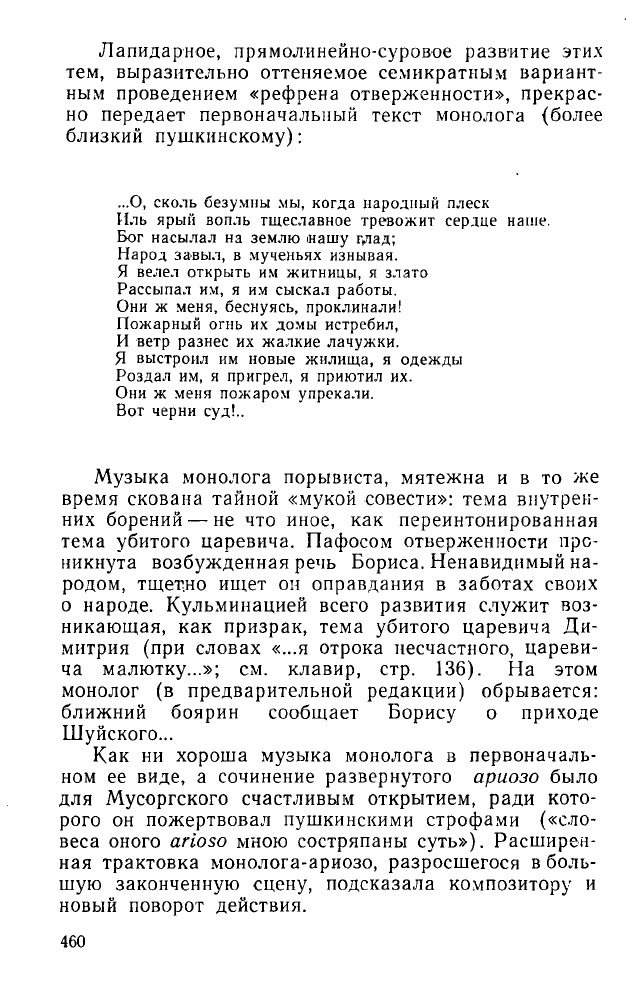
Лапидарное, прямолинейно-суровое развитие этих
тем, выразительно оттеняемое семикратным вариант-
ным проведением «рефрена отверженности», прекрас-
но передает первоначальный текст монолога (более
близкий пушкинскому):
...О, сколь безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тщеславное тревожит сердце Hanie.
Бог насылал на землю яашу Г|Лад;
Народ завыл, в мученьях изнывая.
Я велел открыть им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы.
Они ж меня, беснуясь, проклинали!
Пожарный огнь их домы истребил,
И ветр разнес их жалкие лачужки.
Я выстроил им новые жилища, я одежды
Роздал им, я пригрел, я приютил их.
Они ж меня пожаром упрекали.
Вот черни суд!..
Музыка монолога порывиста, мятежна и в то же
время скована тайной «мукой совести»: тема внутрен-
них борений — не что иное, как переинтонированная
тема убитого царевича. Пафосом отверженности про-
никнута возбужденная речь Бориса. Ненавидимый на-
родом, тщет.но ищет он оправдания в заботах своих
о народе. Кульминацией всего развития служит воз-
никающая, как призрак, тема убитого царевича Ди-
митрия (при словах «...я отрока несчастного, цареви-
ча малютку...»; см. клавир, стр. 136). На этом
монолог (в предварительной редакции) обрывается:
ближний боярин сообщает Борису о приходе
Шуйского...
Как ни хороша музыка монолога в первоначаль-
ном ее виде, а сочинение развернутого ариозо было
для Мусоргского счастливым открытием, ради кото-
рого он пожертвовал пушкинскими строфами («сло-
веса оного arioso мною состряпаны суть»). Расширен-
ная трактовка монолога-ариозо, разросшегося в боль-
шую законченную сцену, подсказала композитору и
новый поворот действия.
.460
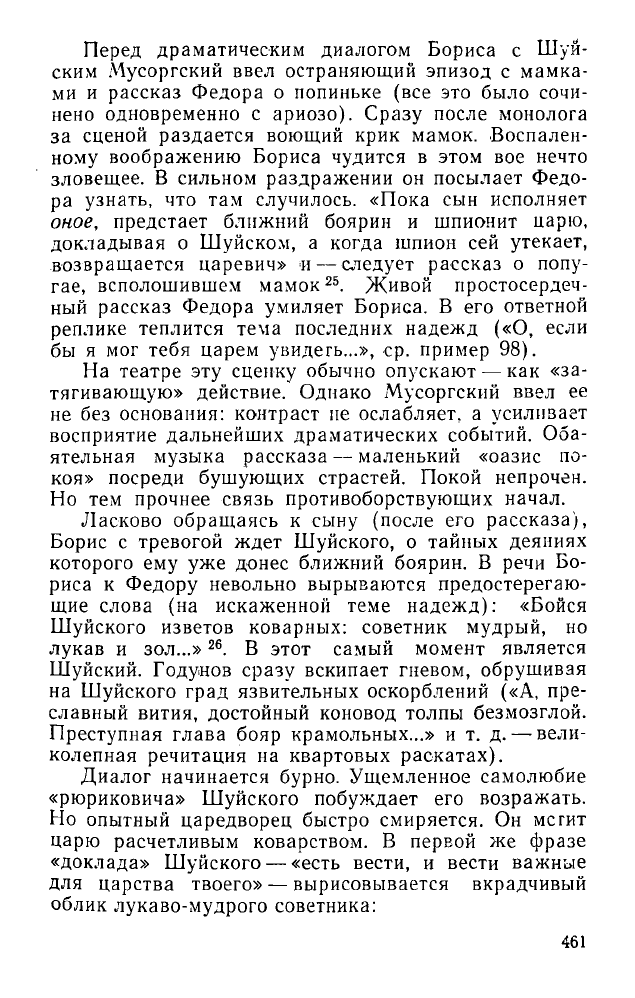
Перед драматическим диалогом Бориса с Шуй-
ским Мусоргский ввел остраняющий эпизод с мамка-
ми и рассказ Федора о попиньке (все это было сочи-
нено одновременно с ариозо). Сразу после монолога
за сценой раздается воющий крик мамок. Воспален-
ному воображению Бориса чудится в этом вое нечто
зловещее. В сильном раздражении он посылает Федо-
ра узнать, что там случилось. «Пока сын исполняет
оное, предстает ближний боярин и шпионит царю,
докладывая о Шуйском, а когда шпион сей утекает,
возвращается царевич» и — следует рассказ о попу-
гае, всполошившем мамок Живой простосердеч-
ный рассказ Федора у.миляет Бориса. В его ответной
реплике теплится тема последних надежд («О, если
бы я мог тебя царем увидегь...», ср. пример 98).
На театре эту сценку обычно опускают — как «за-
тягивающую» действие. Однако Мусоргский ввел ее
не без основания: контраст не ослабляет, а усиливает
восприятие дальнейших драматических событий. Оба-
ятельная музыка рассказа — маленький «оазис по-
коя» посреди бушующих страстей. Покой непрочен.
Но тем прочнее связь противоборствующих начал.
Ласково обращаясь к сыну (после его рассказа),
Борис с тревогой ждет Шуйского, о тайных деяниях
которого ему уже донес ближний боярин. В речи Бо-
риса к Федору невольно вырываются предостерегаю-
щие слова (на искаженной теме надежд): «Бойся
Шуйского изветов коварных: советник мудрый, но
лукав и зол...» В этот самый момент является
Шуйский. Годунов сразу вскипает гневом, обрушивая
на Шуйского град язвительных оскорблений («А, пре-
славный вития, достойный коновод толпы безмозглой.
Преступная глава бояр крамольных...» и т. д. — вели-
колепная речитация на квартовых раскатах).
Диалог начинается бурно. Ущемленное самолюбие
«Рюриковича» Шуйского побуждает его возражать.
Но опытный царедворец быстро смиряется. Он мсгит
царю расчетливым коварством. В первой же фразе
«доклада» Шуйского — «есть вести, и вести важные
для царства твоего» — вырисовывается вкрадчивый
облик лукаво-мудрого советника:
.461
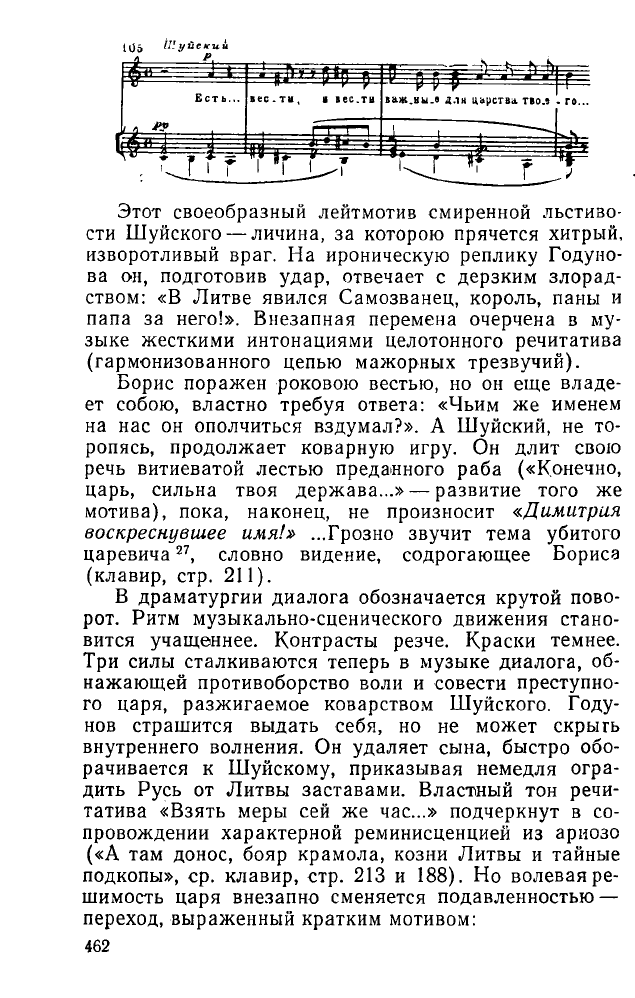
106 и'-уйскии
Р
Есть...
вес.ти, g вес.ТВ
важ.вы.в
дли царства ТВО.9
. го..
Этот своеобразный лейтмотив смиренной льстиво-
сти Шуйского — личина, за которою прячется хитрый,
изворотливый враг. На ироническую реплику Годуно-
ва он, подготовив удар, отвечает с дерзким злорад-
ством: «В Литве явился Самозванец, король, паны и
папа за него!». Внезапная перемена очерчена в му-
зыке жесткими интонациями целотонного речитатива
(гармонизованного цепью мажорных трезвучий).
Борис поражен роковою вестью, но он еще владе-
ет собою, властно требуя ответа: «Чьим же именем
на нас он ополчиться вздумал?». А Шуйский, не то-
ропясь, продолжает коварную игру. Он длит свою
речь витиеватой лестью преданного раба («Конечно,
царь, сильна твоя держава...» — развитие того же
мотива), пока, наконец, не произносит «Димитрия
воскреснувшее имя!» ...Грозно звучит тема убитого
царевичасловно видение, содрогающее Бориса
(клавир, стр. 211).
В драматургии диалога обозначается крутой пово-
рот. Ритм музыкально-сценического движения стано-
вится учащеннее. Контрасты резче. Краски темнее.
Три силы сталкиваются теперь в музыке диалога, об-
нажающей противоборство воли и совести преступно-
го царя, разжигаемое коварством Шуйского. Году-
нов страшится выдать себя, но не может скрыть
внутреннего волнения. Он удаляет сына, быстро обо-
рачивается к Шуйскому, приказывая немедля огра-
дить Русь от Литвы заставами. Властный тон речи-
татива «Взять меры сей же час...» подчеркнут в со-
провождении характерной реминисценцией из ариозо
(«А там донос, бояр крамола, козни Литвы и тайные
подкопы», ср. клавир, стр. 213 и 188). Но волевая ре-
шимость царя внезапно сменяется подавленностью —
переход, выраженный кратким мотивом:
462

lUtt Poco meno mosio
Нет!..
/ ^ ik
JA Ч • " • 1 •
' —
1 1. Р
1
Р Р
По.стой...
по .сто», Шуй.скщ»'
М 1
Г- ^
i •—
Незримые нити тайных предчувствий стягиваются
в этом мотиве страха — страха перед неумолимой ре-
альностью надвигающихся событий. Годунов останав-
ливает Шуйского: «Слыхал ли ты когда-нибудь, чтоб
дети мертвые из гроба выходили... допрашивать ца-
рей...». Прерывистые интонации возбужденной речи
сливаются с музыкой, передающей ощущение запол-
зающего в душу страха. Скрытая связь мотива с жут-
ким образом видения в монологе («Дитя окровавлен-
ное встает...») обнаруживает ясно различимые черты
в таинственном мерцании вновь возникающего при-
зрака (мотив наплывает в хроматических скольже-
ниях на мерном квинтовом покачивании баса Es—B)
:
Мотив страха пронизывает все дальнейшее разви-
тие сцены душевных борений Бориса. Это мотив за-
медленного действия, и тем сильнее его воздействие
в неуклонно нарастающей напряженности музыки.
Борис упорно сопротивляется наплывам страха, уси-
лием воли хочет вырваться из охватывающей его по-
давленности. И Мусоргский с беспощадным реализ-
.463
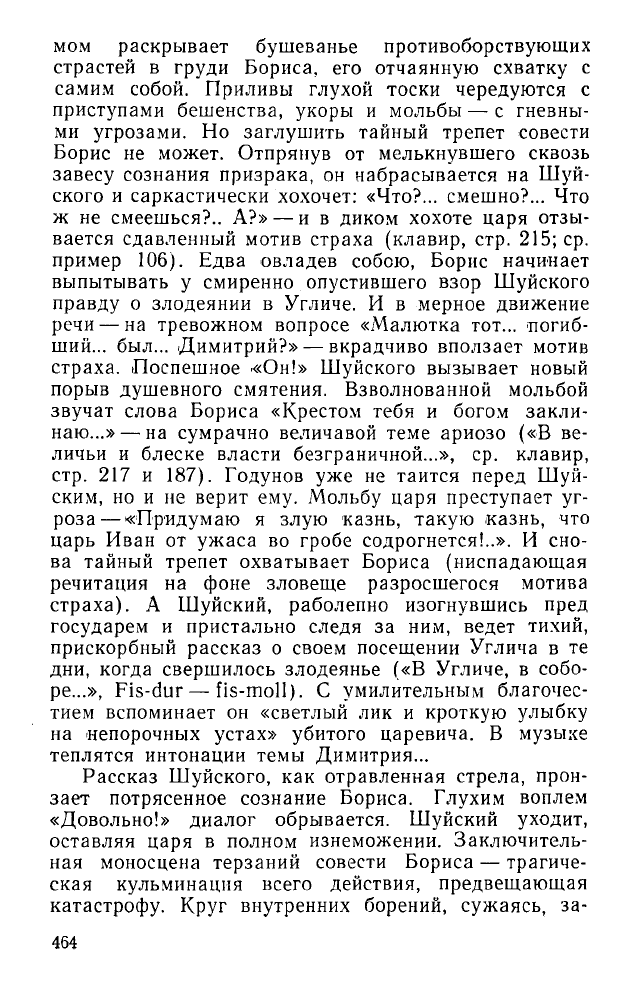
MOM раскрывает бушеванье противоборствующих
страстей в груди Бориса, его отчаянную схватку с
самим собой. Приливы глухой тоски чередуются с
приступами бешенства, укоры и мольбы — с гневны-
ми угрозами. Но заглушить тайный трепет совести
Борис не может. Отпрянув от мелькнувшего сквозь
завесу сознания призрака, он набрасывается на Шуй-
ского и саркастически хохочет: «Что?... смешно?... Что
ж не сд1еешься?.. А?» — ив диком хохоте царя отзы-
вается сдавленный мотив страха (клавир, стр. 215; ср.
пример 106). Едва овладев собою, Борис начинает
выпытывать у смиренно опустившего взор Шуйского
правду о злодеянии в Угличе. И в мерное движение
речи — на тревожном вопросе «Малютка тот... погиб-
ший... был... Димитрий?» — вкрадчиво вползает мотив
страха. Поспешное «Он!» Шуйского вызывает новый
порыв душевного смятения. Взволнованной мольбой
звучат слова Бориса «Крестом тебя и богом закли-
наю...»— на сумрачно величавой теме ариозо («В Бе-
личьи и блеске власти безграничной...», ср. клавир,
стр. 217 и 187). Годунов уже не таится перед Шуй-
ским, но и не верит ему. Мольбу царя преступает уг-
роза— «Придумаю я злую казнь, такую казнь, что
царь Иван от ужаса во гробе содрогнется!..». И сно-
ва тайный трепет охватывает Бориса (ниспадаюшая
речитация на фоне зловеще разросшегося мотива
страха). А Шуйский, раболепно изогнувшись пред
государем и пристально следя за ним, ведет тихий,
прискорбный рассказ о своем посещении Углича в те
дни, когда свершилось злодеянье («В Угличе, в собо-
ре...», Fis-dur — fls-moll). С умилительным благочес-
тием вспоминает он «светлый лик и кроткую улыбку
на «епорочных устах» убитого царевича. В музыке
теплятся интонации темы Димитрия...
Рассказ Шуйского, как отравленная стрела, прон-
зает потрясенное сознание Бориса. Глухим воплем
«Довольно!» диалог обрывается. Шуйский уходит,
оставляя царя в полном изнеможении. Заключитель-
ная моносцена терзаний совести Бориса — трагиче-
ская кульминация всего действия, предвещающая
катастрофу. Круг внутренних борений, сужаясь, за-
.464
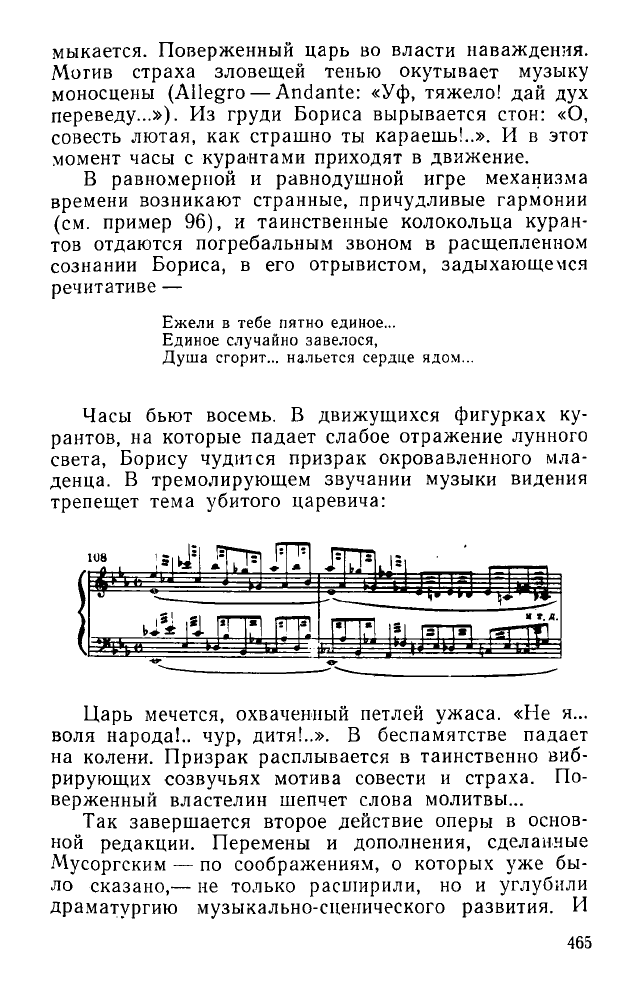
мыкается. Поверженный царь во власти наваждения.
Мотив страха зловещей тенью окутывает музыку
моносцены (Allegro — Andante: «Уф, тяжело! дай дух
переведу...»). Из груди Бориса вырывается стон: «О,
совесть лютая, как страшно ты караешь!..». И в этот
момент часы с курантами приходят в движение.
В равномерной и равнодушной игре механизма
времени возникают странные, причудливые гармонии
(см. пример 96), и таинственные колокольца куран-
тов отдаются погребальным звоном в расщепленном
сознании Бориса, в его отрывистом, задыхающемся
речитативе —
Ежели в тебе пятно единое...
Единое случайно завелося,
Душа сгорит... нальется сердце ядом...
Часы бьют восемь. В движущихся фигурках ку-
рантов, на которые падает слабое отражение лунного
света, Борису чудится призрак окровавленного мла-
денца. В тремолирующем звучании музыки видения
трепещет тема убитого царевича:
fj
А
—1
да
'•'П 1 м 1 ггтП|
Царь мечется, охваченный петлей ужаса. «Не я...
воля народа!., чур, дитя!..». В беспамятстве падает
на колени. Призрак расплывается в таинственно виб-
рирующих созвучьях мотива совести и страха. По-
верженный властелин шепчет слова молитвы...
Так завершается второе действие оперы в основ-
ной редакции. Перемены и дополнения, сделанные
Мусоргским — по соображениям, о которых уже бы-
ло сказано,— не только расширили, но и углубили
драматургию музыкально-сценического развития. И
.465
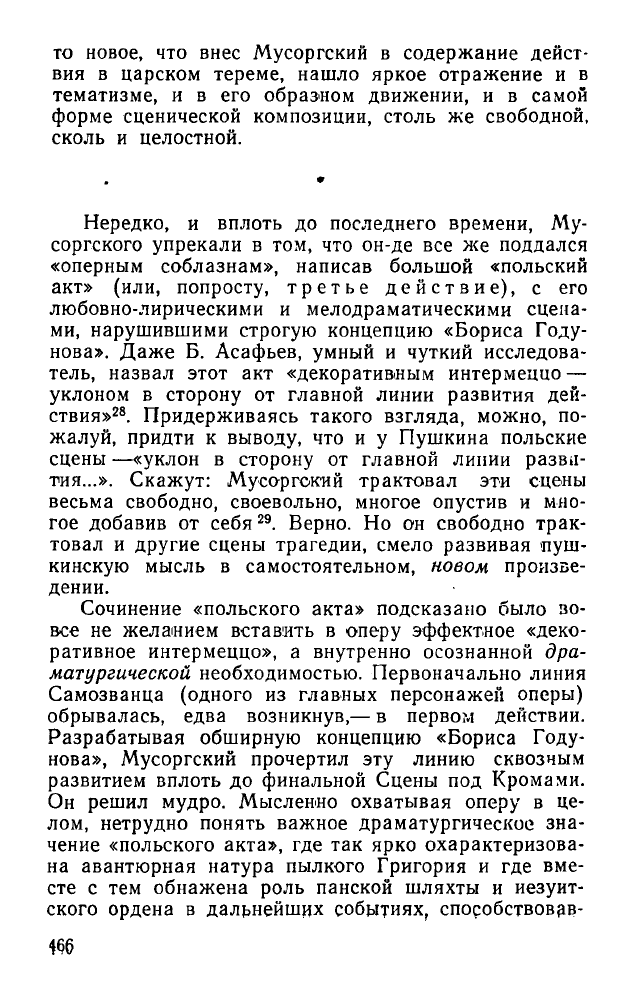
то новое, что внес Мусоргский в содержание дейст-
вия в царском тереме, нашло яркое отражение и в
тематизме, и в его образном движении, и в самой
форме сценической композиции, столь же свободной,
сколь и целостной.
Нередко, и вплоть до последнего времени, Му-
соргского упрекали в том, что он-де все же поддался
«оперным соблазнам», написав большой «польский
акт» (или, попросту, третье действие), с его
любовно-лирическими и мелодраматическими сцена-
ми, нарушившими строгую концепцию «Бориса Году-
нова». Даже Б. Асафьев, умный и чуткий исследова-
тель, назвал этот акт «декоративным интермеццо —
уклоном в сторону от главной линии развития дей-
ствия»2®. Придерживаясь такого взгляда, можно, по-
жалуй, придти к выводу, что и у Пушкина польские
сцены —«уклон в сторону от главной линии развл-
тия...». Скажут: Мусоргский трактовал эти сцены
весьма свободно, своевольно, многое опустив и мно-
гое добавив от себя
2®.
Верно. Но он свободно трак-
товал и другие сцены трагедии, смело развивая пуш-
кинскую мысль в самостоятельном, новом произве-
дении.
Сочинение «польского акта» подсказано было во-
все не желанием вставить в оперу эффектное «деко-
ративное интермеццо», а внутренно осознанной дра-
матургической необходимостью. Первоначально линия
Самозванца (одного из главных персонажей оперы)
обрывалась, едва возникнув,— в первом действии.
Разрабатывая обширную концепцию «Бориса Году-
нова», Мусоргский прочертил эту линию сквозным
развитием вплоть до финальной Сцены под Кромами.
Он решил мудро. Мысленно охватывая оперу в це-
лом, нетрудно понять важное драматургическое зна-
чение «польского акта», где так ярко охарактеризова-
на авантюрная натура пылкого Григория и где вме-
сте с тем обнажена роль панской шляхты и иезуит-
ского ордена в дальнейших событиях, способствовэв-
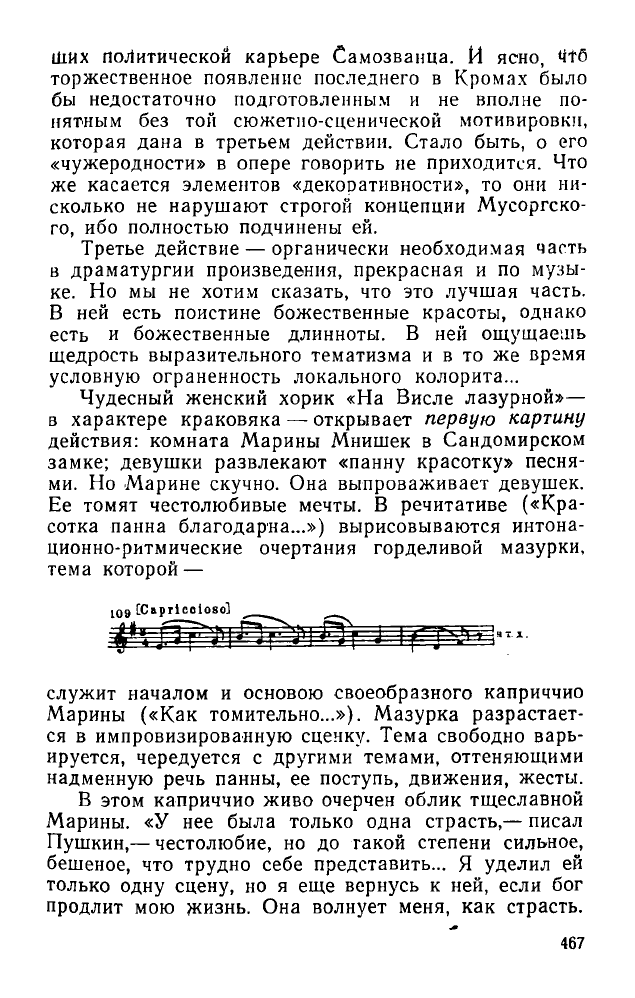
UiHX политической карьере Самозванца. И ясно, 4t6
торжественное появление последнего в Кромах было
бы недостаточно подготовленным и не вполне по-
нятным без той сюжетно-сценической мотивировки,
которая дана в третьем действии. Стало быть, о его
«чужеродности» в опере говорить не приходится. Что
же касается элементов «декоративности», то они ни-
сколько не нарушают строгой концепции Мусоргско-
го, ибо полностью подчинены ей.
Третье действие — органически необходимая часть
в драматургии произведения, прекрасная и по музы-
ке. Но мы не хотим сказать, что это лучшая часть.
В ней есть поистине божественные красоты, однако
есть и божественные длинноты. В ней ощущаешь
щедрость выразительного тематизма и в то же время
условную ограненность локального колорита...
Чудесный женский хорик «На Висле лазурной»—
в характере краковяка — открывает первую картину
действия: комната Марины Мнишек в Сандомирском
замке; девушки развлекают «панну красотку» песня-
ми. Но Марине скучно. Она выпроваживает девушек.
Ее томят честолюбивые мечты. В речитативе («Кра-
сотка панна благодарна...») вырисовываются интона-
ционно-ритмические очертания горделивой мазурки,
тема которой —
109
[Ctprlooloso]
служит началом и основою своеобразного каприччио
Марины («Как томительно...»). Мазурка разрастает-
ся в импровизированную сценку. Тема свободно варь-
ируется, чередуется с другими темами, оттеняющими
надменную речь панны, ее поступь, движения, жесты.
В этом каприччио живо очерчен облик тщеславной
Марины. «У нее была только одна страсть,— писал
Пушкин,—честолюбие, но до такой степени сильное,
бешеное, что трудно себе представить... Я уделил ей
только одну сцену, но я еще вернусь к ней, если бог
продлит мою жизнь. Она волнует меня, как страсть.
.467
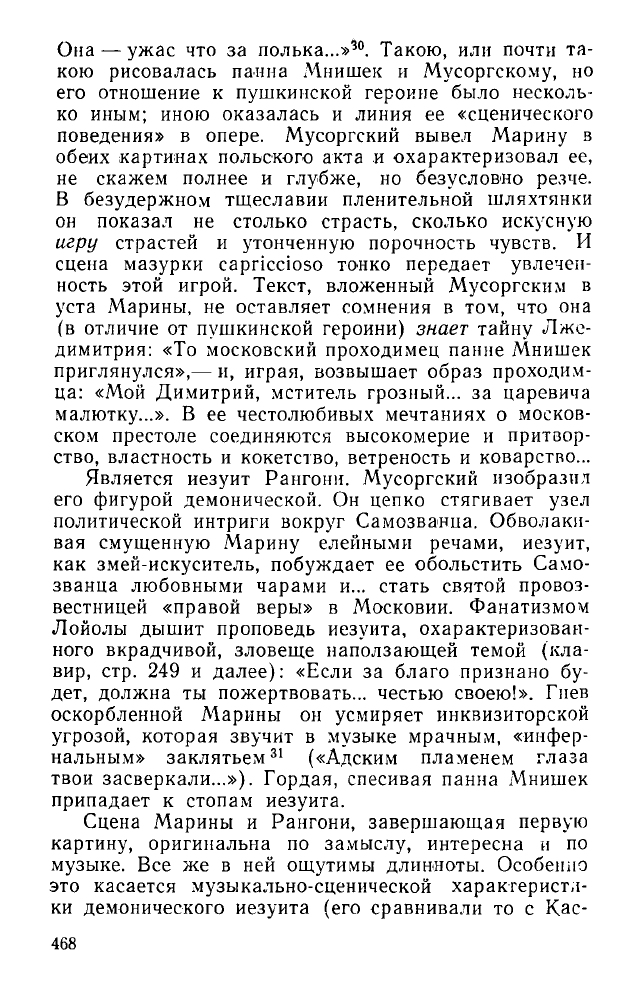
Она — ужас что за полька.Такою, или почти та-
кою рисовалась панна Мнишек и Мусоргскому, но
его отношение к пушкинской героине было несколь-
ко иным; иною оказалась и линия ее «сценического
поведения» в опере. Мусоргский вывел Марину в
обеих картинах польского акта и охарактеризовал ее,
не скажем полнее и глубже, но безусловно резче.
В безудержном тщеславии пленительной шляхтянки
он показал не столько страсть, сколько искусную
игру страстей и утонченную порочность чувств. И
сцена мазурки capriccioso тонко передает увлечен-
ность этой игрой. Текст, вложенный Мусоргским в
уста Марины, не оставляет сомнения в том, что она
(в отличие от пушкинской героини) знает тайну Лже-
димитрия: «То московский проходимец панне Мнишек
приглянулся»,— и, играя, возвышает образ проходим-
ца: «Мой Димитрий, мститель грозный... за царевича
малютку...». В ее честолюбивых мечтаниях о москов-
ском престоле соединяются высокомерие и притвор-
ство, властность и кокетство, ветреность и коварство...
Является иезуит Рангони. Мусоргский изобразил
его фигурой демонической. Он цепко стягивает узел
политической интриги вокруг Самозванца. Обволаки-
вая смущенную Марину елейными речами, иезуит,
как змей-искуситель, побуждает ее обольстить Само-
званца любовными чарами и... стать святой провоз-
вестницей «правой веры» в Московии. Фанатизмом
Лойолы дышит проповедь иезуита, охарактеризован-
ного вкрадчивой, зловеще наползающей темой (кла-
вир, стр. 249 и далее): «Если за благо признано бу-
дет, должна ты пожертвовать... честью своею!». Гнев
оскорбленной Марины он усмиряет инквизиторской
угрозой, которая звучит в музыке мрачным, «инфер-
нальным» заклятьем®' («Адским пламенем глаза
твои засверкали...»). Гордая, спесивая панна Мнишек
припадает к стопам иезуита.
Сцена Марины и Рангони, завершающая первую
картину, оригинальна по замыслу, интересна и по
музыке. Все же в ней ощутимы длинноты. Особенно
это касается музыкально-сценической характеристл-
ки демонического иезуита (его сравнивали то с Кас-
.468
