Гуревич А.Я. Избранные труды. Том 2. Средневековый мир
Подождите немного. Документ загружается.

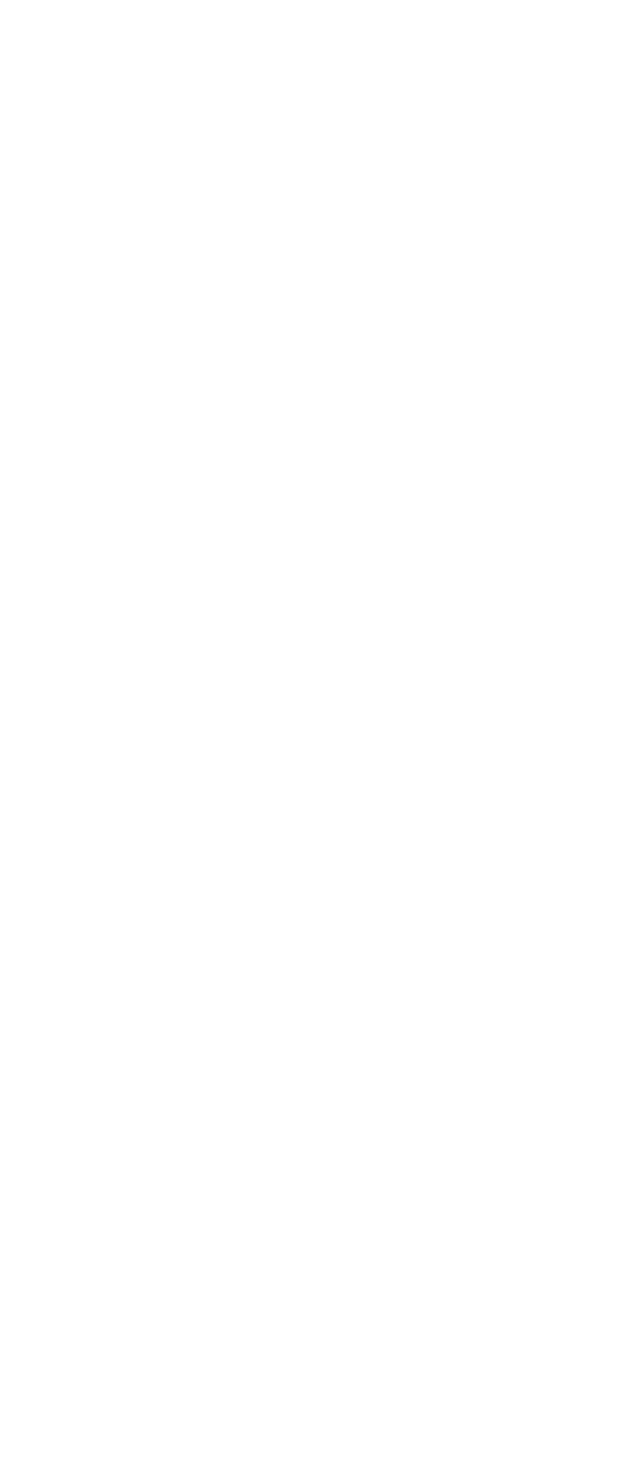
социальной практики его времени. Изучение проповедей
Бертольда погружает историка в коллизии духовной жизни
Германии 50-х—70-х гг. XIII в., нарастает ощущение
непосредственного присутствия в толпе горожан и крестьян,
привлеченных силой слова этого проповедника. Его
поучения охватывают все грани мировоззрения и поведения
верующих, выделяя то, что представлялось самым главным
этому духовному пастырю. Бертольд употребляет систему
понятий и символов, доступных сознанию его слушателей.
Особенно меня поразила проповедь «О пяти талантах» —
дарах Господа, коими наделен каждый христианин.
Содержание этой проповеди подробно
проанализировано в центральном разделе книги
«Средневековый мир: культура безмолвствующего
большинства». Но мне кажется нелишним возвратиться к
этому поучению Бертольда, поскольку он, рассуждая о
«талантах» («фунтах»), кои Творец даровал человеку,
выделяет самые существенные, по его разумению ценности.
Это — социально-правовой статус, профессия, должность
лица («призвание»), его хозяйство и собственность, время
его жизни и любовь к ближнему; все эти дары, за
пользование которыми человек должен будет дать ответ
Богу, суть не что иное, как неотъемлемые признаки его
личности («персоны»). Проповедник, как я заключаю,
наметил в этом перечне даров центральную для его эпохи
антропологическую и социальную проблематику.
Когда, примерно в середине 80-х гг., я впервые
ознакомился с содержанием проповеднических речей
Бертольда и прежде всего с его рассуждениями «О пяти
талантах», меня поразило следующее обстоятельство:
перечень даров, которые он выделил в качестве наиболее
существенных, почти целиком совпадает с теми категориями
средневековой культуры, которые были намечены мною для
ее анализа. И в рассуждении монаха XIII в., и в исследовании
историка конца XX в. в центре внимания находятся время.
Богатство и собственность, право, социальный статус и
личность. Излишне говорить о том, что интерпретация этих
«талантов» в одном случае и категорий культуры в другом
совершенно различна, но то, что я наметил для изучения те
самые темы, которые семью столетиями ранее вычленил для
проповеди немецкий францисканец, на мой взгляд, служит
доказательством правильности сделанного мною выбора,
хотя выбор этот, как уже подчеркнуто выше, в немалой мере
был подсказан состоянием современного общества.
Интуиция не подвела.
Но что в данном случае я разумею под интуицией? Я
считаю нужным решительно отмежеваться от тех историков
и филологов, которые всячески декларируют и
демонстрируют безграничную свободу интерпретации
текстов, — число их умножилось за последнее время.
Постмодернистские критики исторической науки, склонные
стирать границы между нею и художественным вымыслом,
выдают своего рода индульгенцию подобным произвольным

интерпретаторам. Напротив, интуиция историка, которую я
имею в виду, питается, в первую очередь, знанием
источников и именно из них, из упорного и кропотливого
анализа текстов, черпает свои основания. Толкования и
гипотезы, на которые отваживается историк, должны быть
постоянно верифицированы. Далее, интуиция историка
находит опору в знании того, что достигнуто его коллегами,
работающими с тем же или со смежным материалом, что
дает ему возможность сопоставить собственные наблюдения
с более широким кругом интерпретаций, предлагаемых
наукой.
Все, что нам известно об отношении людей периода
высокого средневековья к труду, к Богатству и
собственности, об их оценке времени, о понимании ими
земного призвания, своей принадлежности к сословию,
профессии, корпорации, о религиозно-этической окраске
этих представлений, не противоречит идеям, развиваемым
Бертольдом Регенсбургским в рассматриваемой нами
проповеди. Эта проповедь оригинально высвечивает
присущую людям XIII в. систему ценностей, объединяя их
как в фокусе в рассуждении «О пяти талантах». То новое, что
дает историку этот текст и что не может не привлечь его
сугубого внимания, — это определение человеческой
«персоны», личности, как бы спонтанно возникающее в речи
францисканского монаха. Подобный поворот его дискурса
предоставляет историку возможность для новых прозрений.
Сентябрь 1997г.

Категории средневековой культуры
Предисловие
Первое издание «Категорий средневековой культуры»
увидело свет в 1972 г. Книга была переведена на венгерский,
польский, чешский, немецкий (в ГДР и ФРГ), французский,
итальянский и английский языки и вызвала отклик в виде
многочисленных рецензий в отечественной и зарубежной
печати. Особое удовлетворение доставил мне интерес,
который книга пробудила у читателей-непрофессионалов.
Историк, если только он не занят сугубо специальными и
узкими вопросами, не может не обращаться к широкому
читателю — такова специфика его ремесла. Поднятая в книге
проблема — самосознание человеческой личности эпохи
феодализма, проявляющееся в восприятии времени и
пространства, в отношении к праву, в трактовке труда,
собственности, Богатства и бедности, — это проблема,
волнующая современного человека, которому поэтому
существенно знать ее интерпретацию людьми далеких эпох.
Мы неизбежно задаем истории вопросы, возникающие перед
нами самими. Это вопрошание, попытка вступить в диалог с
людьми иной культуры, нежели наша собственная, есть
неотъемлемая функция современного сознания. Недаром на
протяжении 70-х и в начале 80-х гг. появилось немало работ,
исследующих самые различные стороны культуры
средневековья, которое столь долго и незаслуженно
оставалось белым пятном на исторической карте
человечества. Ознакомление с новыми работами, как
кажется, подтверждает оправданность избранного в книге
направления — анализ мировидения средневекового
человека, той «картины мира», которую он создавал в
процессе своей социально-культурной практики.
К компонентам этой картины мира в книге применен
термин «категория». В какой мере и в каком смысле он здесь
оправдан? Мне кажется, что при построении модели
средневековой культуры (а в книге намечаются
определенные стороны ее модели, но отнюдь не
изображается история культуры и не дается ее общей
характеристики) методологически важно вспомнить
известную мысль Маркса о соотношении общезначимости и
исторической конкретности в категориях политической
экономии. Маркс писал: «... даже самые абстрактные
категории, несмотря на то, что они — именно благодаря
своей абстрактности — имеют силу для всех эпох, в самой
определенности этой абстракции представляют собой в такой
же мере продукт исторических условий и обладают полной
значимостью только для этих условий и внутри их.
Буржуазное общество есть наиболее развитая и
наиболее многосторонняя историческая организация
производства. Поэтому категории, выражающие его
отношения, понимание его организации, дают вместе с тем
возможность проникновения в организацию и

производственные отношения всех отживших общественных
форм, из обломков и элементов которых оно строится,
частью продолжая влачить за собой еще не преодоленные
остатки, частью развивая до полного значения то, что прежде
имелось лишь в виде намека, и т. д. Анатомия человека —
ключ к анатомии обезьяны. Наоборот, намеки более
высокого у низших видов животных могут быть поняты
только в том случае, если само это более высокое уже
известно. Буржуазная экономика дает нам, таким образом,
ключ к античной и т.д., однако вовсе не в том смысле, как
это понимают экономисты, которые смазывают все
исторические различия и во всех общественных формах
видят формы буржуазные» (2, т. 12, 731—732)
4
. «Так
называемое историческое развитие покоится вообще на том,
что последняя по времени форма рассматривает предыдущие
как ступени к самой себе и всегда понимает их
односторонне, ибо лишь весьма редко и только при
совершенно определенных условиях она бывает способна к
самокритике…» (2. т. 46, ч. 1,42-43).
Маркс говорит специально об абстракциях и
категориях политической экономии, но развиваемая им идея,
несомненно, приложима к любой отрасли знания, которая
имеет дело с человеческой историей. Основные понятия,
которыми неизбежно пользуются гуманитарные науки,
сложились в Новое время, и применение этих понятий к
обществам далекого прошлого чревато опасностью
приписать им такие отношения, которых тогда не
существовало, по крайней мере в развитом и сложившемся
виде. И здесь гарантией может служить только строго
исторический подход к подобным категориям и общим
понятиям, сознание того, что сами по себе они — результат
длительного развития. Трудно назвать другую историческую
эпоху, применительно к которой упомянутая
односторонность достигала бы таких же поистине
гомерических размеров, как средневековье. Все же, я
полагаю, наша эпоха способна к самокритике, которую имел
в виду Маркс, а потому нуждается в преодолении
однобокого подхода к прошлому.
Своеобразие современного историко-культурного
исследования я вижу (во всяком случае, для себя) в том, что
оно предполагает включение своего носителя — историка, а
при его посредничестве и читателей в общение с изучаемой
культурой. Мы вступаем в контакт с миром мыслей и чувств
людей, некогда живших, во взаимодействие, условием
которого является бережное соблюдение и четкое осознание
дистанции, нас, собеседников, разделяющей.
Здесь необходимо вспомнить о функции
исторического знания как формы общественного
самосознания. Мы вопрошаем прошлое, людей, некогда
4
Принятый порядок цитирования: первая цифра в скобках отсылает к
библиографии в конце книги, следующая обозначает страницу или, в
поэтических текстах, строку.

живших, и с этой целью пытаемся расшифровать
оставленные ими сообщения. Но вопросы, которые мы им
задаем, определяются в первую очередь не природой
имеющихся в нашем распоряжении источников — остатков
канувших в Лету цивилизаций и обществ. Эти вопросы
диктуются современным сознанием, интересом,
порождаемым нашей цивилизацией, той ситуацией, в
которой мы находимся. Иными словами, разрабатываемые
историками проблемы в конечном итоге суть актуальные
проблемы нашей культуры. Наблюдение жизни людей иных
эпох вместе с тем предполагает в какой-то мере и
самонаблюдение. (Один из проницательных читателей этой
книги спросил автора, осознавались ли изучаемые в ней
сюжеты: восприятие времени и пространства, отношение к
личности, к праву, собственности и труду как проблемы
людьми средневековья или же это вопросы, продиктованные
историку современностью? Вне сомнения, в своеобразной
форме эти темы занимали людей той эпохи, но
настойчивость, с которой современный медиевист задает
средневековым источникам именно эти вопросы,
объясняется прежде всего их теперешней актуальностью.)
Но это соображение должно быть правильно понято.
Разумеется, мы не переносим просто-напросто свои знания о
современной жизни на жизнь людей далекого прошлого —
не может быть ничего более антиисторичного! Речь идет не о
решениях проблем, а об их постановке. Мы задаем людям
иных эпох, обществ и цивилизаций наши вопросы, но
ожидаем получить их ответы, ибо лишь в подобном случае
возможен диалог. Поэтому нужно согласиться с тем, что
историческое познание неизбежно есть диалог культур, что
для него равно необходимы обе сторону — культура
прошлого, являющаяся предметом изучения, и культура
современная, к которой принадлежит исследователь, от
имени которой он ищет возможности этот диалог завязать.
Естественно, мы видим культуру далекой эпохи не
такой, какой она сама себя сознавала, и, хотя ныне очень
трудно восстановить тот ее образ, который рисовали себе
люди — носители этой культуры, у современного
исследователя имеется определенное преимущество перед
ними: он видит то, чего они были не в состоянии увидеть. Их
позиция самонаблюдения была внутри данной культурной
сферы — наша позиция есть позиция заинтересованных
сторонних наблюдателей. Вот эта «вненаходимость»
историка (Бахтин) дает ему возможность иного, нового
видения, недоступного не только тем, кто принадлежал к
изучаемой им культуре (ибо собственные «мыслительные
структуры» людей того времени могли ими не осознаваться и
не вербализоваться), но и тем, кто изучал ее в период,
отделяющий жизнь этой культуры от наших дней.
Каждая историческая эпоха, каждое поколение
историков, писал Люсьен Февр, реконструирует свои Афины,
свой Рим, свой Ренессанс. Верно, но не нужно впадать в
абсолютный релятивизм и полагать, что любая картина

прошлого субъективна и неистинна. Ведь в распоряжении
последующих поколений историков те реконструкции
прошлого, которые были созданы их предшественниками.
Прежние реконструкции не отбрасываются полностью, но в
той или иной степени включаются в новые реконструкции.
Постановка новых проблем, вопрошание источников о том, о
чем ранее их не вопрошали, т. е. рассмотрение их
содержания под иным углом зрения, продиктованным
современностью, обогащает картину прошлого. При этом
существенно иметь в виду, что ситуация, в которой
находится современный историк и которую можно
определить как ситуацию всемирной истории, сложилась
лишь в Новое время: историки минувших эпох
принадлежали к локальным цивилизациям, в той или иной
степени изолированным одна от другой и в
пространственном и во временном отношениях, слабо
знавшим друг друга и сосредоточенным на самих себе. Ныне
историк поставлен перед всемирно-исторической
перспективой, в которой его умственному взору предстоят
все культуры минувших эпох. Эта перспектива открывает
новые возможности для исторического познания и для
оценки своеобразия и неповторимости каждой из эпох
истории. Среди этих новых возможностей проникновения в
тайну культур прошлого — расшифровка картины мира,
которую выработали люди той или иной эпохи и которой они
руководствовались в своей жизни, субъективная сторона их
культуры, их самосознание.
Итак, способ изучения средневековой культуры,
применяемый в данной работе, состоит в анализе отдельных
ее категорий и в раскрытии их смысла как элементов единой
социально-культурной системы.
Реконструкция духовного универсума людей иных
эпох и культур — характерная черта современного
гуманитарного исследования в отличие от традиционного.
Историей идей, как и историей художественных творений,
занимаются очень давно. Однако читатель «Категорий
средневековой культуры» не может не заметить, что в книге
нет ни истории идей, ни истории художественных творений,
будь то литература или искусство. Внимание направлено на
изучение не сформулированных явно, не высказанных
эксплицитно, не вполне осознанных в культуре умственных
установок, общих ориентации и привычек сознания,
«психического инструментария», «духовной оснастки»
людей средних веков — того уровня интеллектуальной
жизни общества, который современные историки обозначают
расплывчатым термином «ментальность».
Переход исследования духовной жизни на этот
уровень сопровождается немаловажными последствиями.
Во-первых, в центре внимания уже не обязательно
оказываются наивысшие творения литературы и искусства —
в качестве носителей расхожих психологии и
миропонимания с таким же, если не с большим успехом
могли выступать и заурядные авторы. Вообще говоря, если

история идей или художественных достижений эпохи имеет
дело с сознанием культурной элиты, то история
ментальностей претендует на установление способов
мировосприятия, присущих самым различным членам
общества. Она отказывает выдающимся деятелям культуры в
праве быть монопольными и единственно
репрезентативными представителями общественной
психологии. Таким образом, подход к отбору источников
существенно меняется.
Во-вторых, и это особенно существенно, историк при
такой постановке вопроса гораздо менее зависит от того,
насколько истинны или ложны и тенденциозны сообщения
источников: ценность последних определяется не только тем,
в какой мере правдивы свидетельства, оставленные нам
древними. Исследователь ментальности не верит им на слово
и стремится вскрыть в оставленных ими текстах то, что
средневековые авторы вовсе и не намеревались высказывать
или не были в состоянии высказать прямо.
Скажем, подложная хартия, отвергаемая
дипломатикой, оказывается ценнейшим свидетельством того,
что в средние века понималось под достоверностью, как
тогда интерпретировали историческую истину. Или: данные
о размерах земельных владений, содержащиеся в
средневековых документах, вызывают разочарование и
досаду экономического историка, который лишен
возможности с уверенностью определить реальную площадь
упоминаемых в этих источниках поместий, но эти данные
могут пролить свет на понятие точности в ту эпоху, равно
как и на специфику земельных мер и тем самым на трактовку
пространства.
Иначе говоря, историк ментальностей стремится за
прямыми сообщениями текстов обнаружить те аспекты
миропонимания их создателей, о которых последние могли
только невольно «проговориться». За «планом выражения»
он ищет «план содержания». Он хочет узнать об этих людях
и об их сознании то, о чем сами они, возможно, и не
догадывались, проникнуть в механизм этого сознания,
понять, как оно функционировало и какие пласты в нем были
наиболее активны.
Так работает целый ряд современных ученых. Их
труды указаны в библиографии, и в плодотворности этого
направления убеждают уже полученные неоспоримые и
ценные результаты. В своей книге я пытался подойти к
проблеме ментальности с несколько иной точки зрения, я бы
сказал, более систематично. Во-первых, выдвигается
гипотеза, что мир культуры образует в данном обществе в
данную историческую эпоху некую глобальность, — это как
бы тот воздух, которым дышат все члены общества, та
невидимая всеобъемлющая среда, в которую они погружены.
Поэтому любой поступок, ими совершаемый, любое
побуждение и мысль, возникавшие в их головах, неизбежно
получали свою окраску в этой всепроникающей среде.
Следовательно, чтобы правильно понять поведение этих

людей, экономическое, религиозное, политическое, их
творчество, их семейную жизнь, быт, нужно знать основные
свойства этого «эфира» культуры. Рассматриваемое в отрыве
от культурного контекста, их поведение едва ли может быть
истолковано правильно — ему порой дают ложные
объяснения, и дело оборачивается модернизацией истории.
Во-вторых, стремясь несколько уточнить понятие
«ментальности», я предложил вычленить некоторый набор
категорий, образующих картину мира, — время-
пространство, право, труд, Богатство... (см. Введение). Этот
набор не может быть полным, он в принципе открыт и в
зависимости от наших знаний и от интересов тех или иных
исследователей пополняется новыми категориями.
Например, уже после выхода в свет первого издания книги в
состав компонентов картины мира людей средневековья
историографией была включена такая важная категория, как
«смерть», точнее, восприятие и переживание ими смерти и
соответственно трактовка потустороннего мира —
своеобразное отражение их установок и отношения к жизни.
Дальнейшие исследования, несомненно, приведут к
включению в эту картину мира новых категорий и аспектов.
Существенно то, что все эти компоненты теснейшим образом
между собой связаны, находятся во взаимодействии и их
нелегко отделить один от другого.
Разумеется, категории культуры — далеко еще не
сама культура во плоти и крови, это — некоторая сетка
координат, наложенная на живую, пульсирующую и
изменяющуюся действительность. Анализ категорий
средневековой культуры не может заменить изучения ее
реального функционирования и движения. На это книга и не
претендует. Ее задача — построение модели средневековой
культуры в категориальной ее расчлененности. Таков лишь
один из возможных подходов, абсолютизация которого столь
же неправомерна, как и игнорирование.
Предложенный в книге метод рассмотрения материала
влечет за собой определенные ограничения. В частности, он
усиливает аспект синхронии за счет диахронии. Хотя
структура каждого из разделов книги предполагает
последовательное рассмотрение двух стадий,
дохристианской (варварской) и собственно средневековой, и
в тексте многократно отмечаются сдвиги в значении тех или
иных категорий культуры, вызванные в конечном счете
развитием общества, тем не менее не в раскрытии хода
движения средневекового общества и его культуры
заключалась задача автора. Феодальное общество
переживало и эволюцию, и резкие мутации и катаклизмы, и
результатом всех этих процессов явилось то, что начальный
и финальный моменты средневековой истории столь
разительно несхожи, — с этой мыслью, дорогой некоторым
из моих критиков, так же невозможно не согласиться, как и с
замечанием о том, что в разных областях и регионах Европы
интерпретация тех или иных категорий культуры не была
одинакова.

Более существенным представляется возражение о
том, что в книге не раскрыто внутреннее «мучение»
культуры, не показана ее диалектика, столь характерная как
раз для европейской культуры и позволившая ей вырываться
из плена неподвижности, в котором пребывали другие
докапиталистические цивилизации. Все это совершенно
справедливо, и автор вполне сознательно шел на эти
ограничения. Построение модели, естественно, налагает на
изложение отпечаток некоторой статичности. Не вижу в том
большой беды, поскольку это лишь один из возможных
подходов, один из способов описания материала.
Зато определенное преимущество подобного способа
подачи материала я вижу в том, что он дает, как мне кажется,
возможность поставить проблему соотношения культуры и
социального строя. Это одна из труднейших проблем,
стоящих перед историками, так же как и перед философами.
Я не считал возможным обойти ее стороной, тем более что к
изучению культуры был подведен исследованием
социальной и экономической истории средневековья.
Понимание отношений собственности и форм зависимости
оказалось, в свете моего исследовательского опыта,
невозможным без включения в поле зрения также и способов
мировосприятия средневековых людей, осознания ими места
человека в природе, их религиозных представлений и
магической практики
5
. Культура рассматривается в книге
прежде всего со стороны социальной, как неотъемлемый
аспект поведения человека в группе, в обществе, и
намечаемая здесь модель, строго говоря, не культурная, а
социокультурная. Об этом свидетельствует самый выбор
категорий картины мира: право, собственность, Богатство и
бедность занимают в ней не менее видное место, чем
пространство-время, отношение к природе, связь макро- и
микрокосмоса.
Тем самым предполагается более емкий контекст, в
рамках которого надлежит рассматривать социальные
отношения: культура и социум выступают в качестве двух
ипостасей единой функционирующей, саморегулирующейся
и самоизменяющейся системы. Пока историк
сосредоточивает свое внимание на закономерностях
движения общественного строя и его экономики, проблемы
культуры могут оставаться вне его поля зрения. Но как
только он задастся вопросом о поведении людей —
субъектов исторического процесса, ему волей-неволей
придется вплотную заняться их социальной психологией,
доминирующими умственными установками, их
интеллектуальным багажом, тем образом мира, который
возникал в их сознании в процессе социальной практики и
налагал неизгладимый отпечаток на последнюю;
5
Профессор Ж.. Дюби совершенно прав, начиная свое предисловие к
французскому изданию моей книги с утверждения, что на явилась
непосредственным развитием идей, изложенных в книге «Проблемы
генезиса феодализма в Западной Европе» М., 1970).

исследователь увидит, что среди механизмов, управлявших
изучаемым им социумом, определенную роль играли
предрассудки, религиозные убеждения, верования и
магические ритуалы этих людей; их «ложное сознание»
являлось неотъемлемым компонентом жизни человеческих
коллективов. В результате культура и социальные отношения
выступают в сфере рассмотрения ученого в неразрывной
связи, в том естественном противоречивом единстве, которое
представляла собой реальная история этих людей.
Социокультурное исследование есть попытка преодолеть
искусственные ограниченность и однобокость исследований
историко-экономических, историко-культурных, историко-
религиозных, — однобокость, являющуюся результатом
разделения труда внутри исторического ремесла, ныне более
нетерпимую, ибо она приводит к утрате целого —
действительной жизни людей, которые трудились, боролись
за свободу и любили, создавали государства и творили
искусство.
В своем исследовании я стремился обобщить опыт
предшественников и коллег и пополнить его собственными
наблюдениями. Эта работа продолжалась и после выхода
книги в свет. Конечно же, теперь я немало изменил бы в ней
— это касается прежде всего отбора материала и его
истолкования. В последние годы меня особенно занимал тот
неизведанный пласт сознания, навыков мышления и
способов поведения средневекового человека, который
располагался «ниже» культуры образованной элиты и был
скрыт официальным ее фасадом. Ныне проблема «народной
культуры» стала актуальной в науке, которая пытается
расслышать голос поколений людей, не имевших доступа к
письменности и тем самым как бы исключенных из истории.
Плодом новых изысканий явилась книга «Проблемы
средневековой народной культуры» (М.: Искусство, 1981).
Обе книги, при всех различиях в характере
источников и в подходе к ним, тесно между собой связаны —
они образуют своего рода диптих. Но если первая из них
рисует определенные элементы средневекового
мировидения, то во второй внимание сосредоточено на
взаимном отношении Разных «слоев» культуры — устной
народной традиции и культурной традиции образованной
элиты, причем на первый план была выдвинута внутренняя
противоречивость средневековой культуры, взятой в целом.
Иными словами, один и то же предмет рассмотрен в обеих
книгах с разных точек зрения и на разных уровнях. Подход к
анализу источников в «Проблемах средневековой народной
культуры» не отменяет, по моему Убеждению, метода,
примененного в «Категориях средневековой культуры», —
один дополняет другой. Вообще, только при смене угла
зрения, под которым рассматривается материал, и возможно
достигнуть более объемного представления о предмете, тем
более таком сложном и малоизведанном, каким остается
сознание людей средних веков, их «образ мира» и связанное
с ним поведение.
