Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук
Подождите немного. Документ загружается.

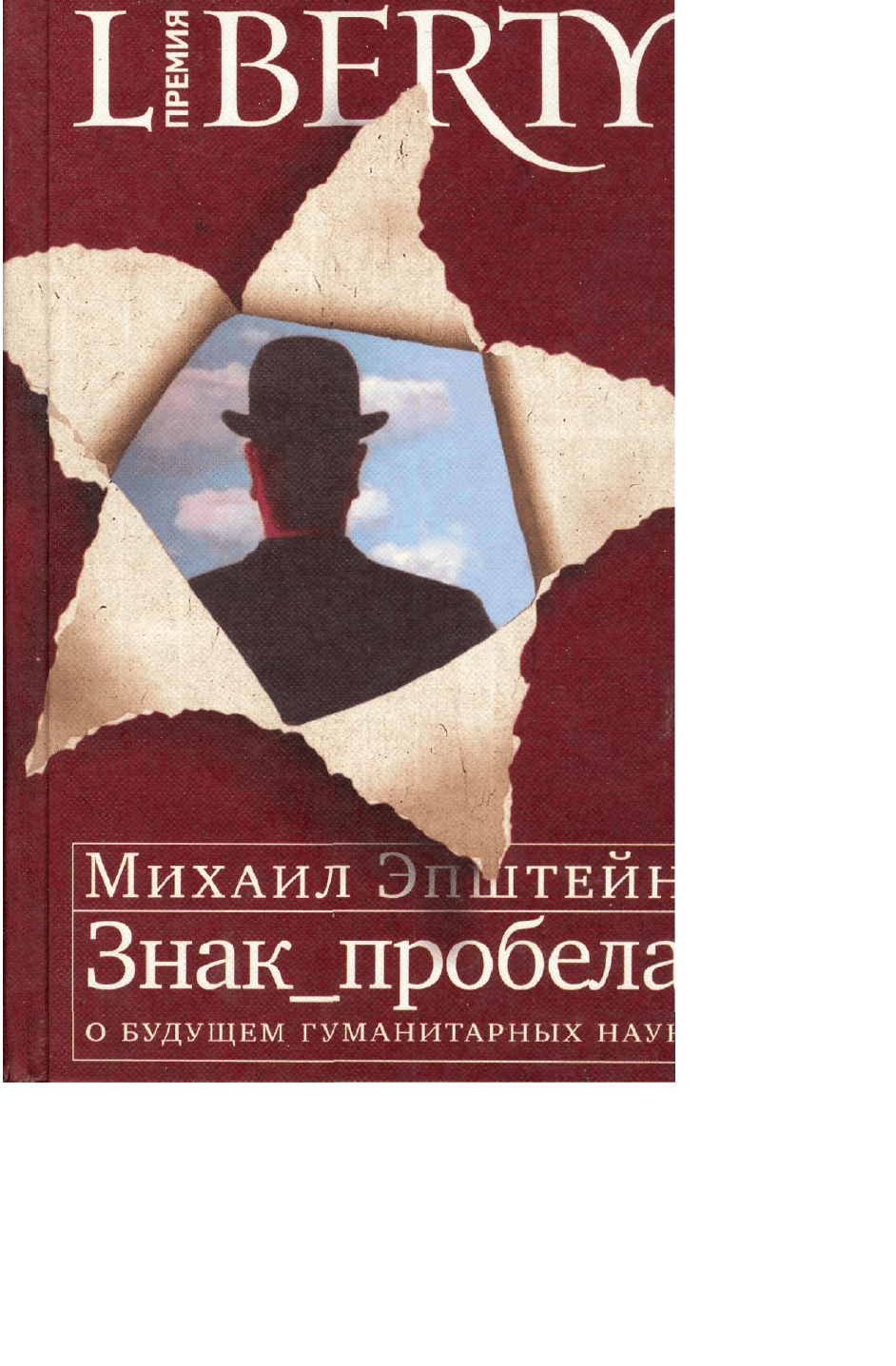
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЛИБЕРТИ
художники ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВ
ВАГРИЧ БАХЧАНЯН
поэты ЛЕВ ЛОСЕВ
ЛЕВ РУБИНШТЕЙН
прозаик ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ
культуролог МИХАИЛ ЭПШТЕЙН
коллекционер русского НОРТОН Додж нонконформистского искусства
директор Национальной ДЖЕЙМС Биллингтон
Библиотеки Конгресса
директор нью-йоркского ТОМАС КРЕНС
Музея С. Гуггенхайма
балетмейстер и хореограф МИХАИЛ БАРЫШНИКОВ

журналист Дэвид РЕМНИК
издатель ИРИНА ПРОХОРОВА
переводчик ВИКТОР ГОЛЫШЕВ
МИХАИЛ ЭПШТЕЙН
Знаклробела
О БУДУЩЕМ
ГУМАНИТАРНЫХ
НАУК
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ МОСКВА 2004
УДК 008+82.09(47) ББК 71.0+83.3(2Рос) Э 73
Эпштейн Михаил Э 73 Знак пробела: О будущем гуманитарных наук — М.:
Новое литературное обозрение, 2004. — 864 с
Книга известного культуролога вводит в философскую и филологическую проблематику XXI века и очерчивает новые
стратегии мышления и письма, идущие на смену постмодернизму и постструктурализму. Рассматривается новый образ
человека в электронно-виртуальной вселенной, а также меняющийся контекст и смысл таких традиционных понятий
гуманистики, как «слово» и «текст», «время» и «возможность», «тело» и «желание», «жуткое» и «интересное», «чистота» и
«безумие»..
Исследуется природа культурных пробелов, языковых зияний, заполнение которых знаменует рождение новых
художественных и теоретических практик. От эротологии до теории судьбы, от экологии текста до хоррорологии и технософии
— таков диапазон тех теорий и гипотез, которые впервые вводятся в обиход интеллектуального сообщества Каждая глава —
манифест или экспериментальный набросок новой дисциплины или концепции, радикально меняющих наши представления о
перспективах гуманитарных наук.
УДК 008+82.09(47) ББК 71.0+83.3(2Рос)
ISBN 5-86793-302-4
© М. Эпштейн, 2004
О «Новое литературное обозрение», 2004
Посвящается моим детям Ольге, Дмитрию, Петру и Евгению
Предисловие
Эта книга — о путях гуманитарного сознания в XXI веке. О том, как в электронно-информационно-
виртуальных полях меняется образ человека, сливаясь очертаниями то со всемогущим богом, то с
умной машиной («теоантропос», «техноантропос»). И о том, как меняются сами гуманитарные
дисциплины, отчасти отражая, отчасти производя «постчеловеческую» реальность XXI века.
Проектируемый ныне человек— генетически видоизмененный, объединенный с машиной, киборг,
андроид, техноангел — будет ли он больше или меньше себя как человека? Как сложится судьба гума-
нитарных дисциплин в XXI веке: будут ли они поглощены техническими и социальными
дисциплинами или, напротив, расширят сферу своего влияния вслед за очеловечиванием и поумнением
самой техники? Какой смысл получают в новом контексте такие традиционные гуманитарные понятия,
как время, судьба, слово, знак, текст, тело, желание, творчество, мудрость? И какими новыми
понятиями предстоит обогатить гума-нистику (комплекс гуманитарных дисциплин, the humanities),
чтобы она достойно ответила на вызов времени, на метаморфозы самого человека?
Книга охватывает разные дисциплинарные составляющие: от философии до лингвистики, от экологии
до
5
Михаил Эпштейн. Знак пробела
эротологии. Но при этом ни одна из этих дисциплин не представлена настолько специально,
самодостаточно, чтобы упускать из виду общую перспективу движения гуманитарных наук. Нас
интересуют не столько внутренние области этих наук, сколько их края и границы, а еще больше —
те пустоты, которые предстоит заполнить следующему поколению гуманитариев. Нас интересуют
теоретические нехватки — и механизмы их восполнения.
Белые дыры. Это выражение используется в физике для обозначения чего-то мнимого, в отличие
от черных дыр, предполагаемых вполне реальными. Белая дыра — это черная дыра, бегущая
обратно во времени. Если черная дыра безвозвратно глотает вещи, то белая их выплевывает. По
утверждению физики, белых дыр не существует в природе, ибо они нарушали бы второй закон
термодинамики. Но, с точки зрения гуманитария, белые дыры все-таки существуют— не в
природе, а в культуре. Белые дыры — это такие пробелы в системе знаков, из которых рождаются
новые знаки. Поиск белых дыр, которые «выплевывают» из себя ранее неизвестные, небывалые
знаки, идеи, концепты, и составляет задачу гуманитария.

Тем более, что сам человек, как ни странно, являет собой главный пробел во всем комплексе
гуманитарных наук. Именно с человеком, единственным говорящим из всех существ, в бытие
приходит нечто несказуемое — сам человек. Гуманитарные науки строятся вокруг этого
парадокса: они изучают самого изучающего, они именуют именующего, и именно поэтому в их
центре находится разрыв самого дискурса, слепое пятно, в которое попадает обращенный на себя
взгляд. По словам Мишеля Фуко, «это и тень, отбра-
6
Предисловие
сываемая человеком, вступающим в область познания, это и слепое пятно, вокруг которого только
и можно строить познание.. Человек построил свой образ в промежутках между фрагментами
языка»
1
.
Непостижимость человека для себя, несводимость к себе образует трещину в основании
гуманитарных наук, которые как раз и заняты самоисследованием человечества. Этот парадокс
философской антропологии выражен, в частности, М. М. Бахтиным: «Совпадает ли сознающий с
сознаваемым? Другими словами, остается ли человек только с самим собою, т.е. одиноким? Не
меняется ли здесь в корне все событие бытия человека?. Здесь появляется нечто абсолютно новое:
над-человек, над-я, т.е. свидетель и судья всего человека (всего я), следовательно, уже не человек,
не я, а другой»
2
.
Человек становится другим для себя, как только превращается в предмет науки, тем самым
определяясь и как ее немыслимый субъект, надчеловек. Взаимообратимость субъекта и объекта
придает всему проекту гуманитарных наук шаткость, колебательность, подрывает их объективно
научные основания. В представлении М. Фуко, с самого начала гуманитарные науки полагали
внутрь своего предмета радикальный пробел, нечто немыслимое, ибо таково свойство
гуманитарности как саморефлексии, учреждающей рядом с человеком его темного,
непостижимого двойника, иное-во-мне, благодаря чему я только и могу мыслить себя, тем самым
становясь не-собой. «На археологическом уровне чело-
1
Фуко Мишели. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук СПб: A-cad, 1994. С 348, 404.
2
Бахтин М.М. Рабочие записи 60-х — начала 70-х гг. // Собр. соч. М,- Русские словари. Языки славянской культуры. М, 2002. Т. 6. С
396.
7
век и немыслимое — современники. Человек вообще не мог бы обрисоваться как конфигурация в
эпистеме, если бы одновременно мысль не нащупала в себе и вне себя, на своих границах, но
также и в переплетениях собственной ткани нечто ночное, некую немыслимость, которая ее и
переполняет и замыкает. <_> _По отношению к человеку немыслимое есть Иное: братское и близ-
нецовское Иное, порожденное не им и не в нем, но рядом и одновременно, в равной новизне, в
необратимой двойственности»
1
.
На знаменитой картине Рене Магритта «Перенос» (1966) дважды представлена фигура человека.
Слева — в виде плотного силуэта, спиной закрывающего панораму трех стихий: земли, моря и
неба Справа — в виде выреза на складчатом красном занавесе, через голубой просвет которого
открывается все та же панорама. Конечно, Р. Магритг был далек от намерения представить в этих
двух силуэтах эмблему гуманитарного знания, но ничто не мешает нам так их истолковать.
Человек — пробел в своем знании о себе. Он предстает нам только со спины, как персонаж
гуманитарных исследований, как «он» — историческая фигура, деятель культуры,
1
Фуко М. Цит. соч. С 347. Задолго до Фуко один из основателей философской антропологии Макс Шелер подчеркивал, что то духовное
начало, которое позволяет человеку опредмечивать весь окружающий мир и себя в нем, само остается вне предметности. «Только
человек, поскольку он личность, способен выйти за пределы себя как организма и, исходя из иентра вне пространственно-временного
мира, превратить все (включая себя) в объект знания. <_> Однако центр, из которого человек осуществляет акты объективации тела,
души и мира в их пространственной и временной полноте, сам не может быть частью этого мира. <_> Дух есть единственное существо,
неспособное становиться объектом» (ScbeJer Max. Man's Place in Nature (1928} Boston: Beacon Place, 1961. P. 46, 47}
8
писатель, мыслитель, воин, любовник, царь или дитя природы, собеседник или соперник Бога... Но
мы не можем заглянуть в лицо человеку смотрящему, т. е. самим себе: вместо этого открывается
пустой силуэт. В наше время через этот вырезанный по человеческой мерке проем сквозит уже не
прибрежный ландшафт, а технопейзаж — фигурки умных машин, вытесняющих своих
биологически несовершенных человеко-предков. Раньше человек, ища себя в себе, находил Бога,
потом — природу, теперь — машину. Человек видит все, кроме себя; себя он видит только со
спины, как другого. Задача гуманитарных наук — повернуть человека лицом к самому себе —

невыполнима
1
.
Именно эта проблематичность гуманитарного знания как самопознания отозвалась во всей
системе научного знания XX века, потрясая основания и самых методологически устойчивых
дисциплин, от математики и логики до кибернетики и информатики. Вот что пишет по этому
поводу американский философ, математик, первопроходец когнитивных наук Даглас
1
Разумеется, картина Магритга (см. иллюстрацию на с, 22) заслуживает и более детального истолкования. В левой части — образ
двойной закрытости; мир заслонен человеком, который сам повернут к нам спиной. В правой части — образ двойного открытия.
Красный занавес — познавательная завеса между человекам и миром, которая прорывается наложением их очертаний. Мир являет себя
только в силуэте человека. Но и сам этот силуэт составлен из элементов мира' песка, воды, облаков — и лишен собственно
человеческого наполнения. Мир существует только во взгляде человека, но и сам человек явлен лишь как проем, просвет на окружаю*
Щий мир. Вот почему любое естественно-научное знание о мире включает гуманитарную составляющую, точку зрения самого
наблюдателя. И по этой же причине любое гуманитарное знание содержит в себе пробел — лицо, личность познающего субъекта.
О логико-грамматической фигуре взаимовключенности сознания и «ира см. в главе «Предлог "В" как понятие».
9
штадтер:
«Как ограничительные Теории метаматематики, так и теория вычислений говорят, что как только
возможность представлять собственную структуру достигает некоей критической точки, то пиши
пропало — это гарантия того, что вы никогда не сможете представить себя полностью. Теорема
Гёделя о неполноте, Теорема Черча о неразрешимости, Теорема остановки Тюринга, Теорема
Тарского об истине — все они чем-то напоминают старинные сказки, предупреждающие читателя
о том, что "поиск самопознания — это путешествие, которое... обречено быть неполным, не может
быть изображено ни на каких картах, никогда не остановится и не сможет быть описано"»
1
-
Именно на сцене гуманистики разыгрывается трагикомедия homo sapiens, который с античных
времен был призван к главной цели — «познай самого себя», а в XX веке уперся в
методологический тупик невозможности самопознания. Не противоречит ли гумани-тарность
самому представлению о научности как объективном познании, коль скоро познающему не дано
полностью объективировать себя самого? Не оксюморон ли само выражение «гуманитарные
науки», чей объект гротескно совпадает и не может совпасть с их субъектом? Нет исхода из этих
«странных петель» саморефлексии, нет решения вопросам о самой возможности гуманитарных
наук. Но «сама возможность их постановки есть уже ворота мысли будущего»
2
. Так заканчивает
М. Фуко свою «археологию гуманитарных
1
Хофштадтер Даглас Р. Педель, Эшер, Бах эта бесконечная гирлянда. Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2001. С 655.
1
Фуко М.
Цит. соч. С 404.
10
наук», и с этих же обнадеживающих сомнений может начаться их футурология, наброском
которой и является данная книга.
* * *
Неспособность гуманистики настичь свой ускользающий субъект-объект — обратная сторона ее
конструктивной задачи: строить новые знаки, понятия, образы человека Человековедение
неотделимо от чело-векотворчества. Субъект человековедения потому и не может быть полностью
объективирован, что находится в процессе становления, и каждый акт самоописания есть и
событие его самопостроения. Когда общество, или университетское начальство, или коллеги-
естественники просят гуманитариев предъявить продукты их деятельности, поневоле
напрашивается указательный жест вы, я, мы.. И, конечно, студенты — мыслящее человечество в
следующем поколении. О чем бы ни писались гуманитарные сочинения: об эстетике итальянского
Возрождения или об эпических сказаниях древней Индии, о взаимовлиянии романских и
германских языков или о кантовской философии времени и пространства, — всюду перед нами
предстает образ иного человека, иного разума. Мы сопоставляем его и себя, различаем и находим
общее, а значит, становимся более самими собой и одновременно — более человечными.
Гуманитарные дисциплины являются таковыми не потому, что они вообще изучают человека и его
разнообразные проявления. Физиология, анатомия, медицина, экономика, социология,
политология, социально-экономическая история тоже изучают человека, устройство его тела,
продукты его деятельности, способы его общественной организации. Но эти науки
11
являются не гуманитарными, а естественными или общественными. Гуманитарность свойственна
именно таким дисциплинам, где человек менее всего может опредметить себя как эмпирическую
данность, как индивидуальное или социальное тело. Гуманитарность — в тех процессах
мышления, творчества, говорения, письма, межличностных отношений, где человек менее всего
определим и завершим. Поле гуманитарности состоит из размывов и зияний ускользающей от себя

рефлексивности, распадающихся фрагментов языка и разрастающихся знаковых лакун.
Критическая сторона гу-манитарности — денатурализация и деполитизация человека,
разоблачение того, что естественным и общественным наукам представляется твердым,
позитивным основанием объективности. Гуманитарные науки заняты демистификацией не только
собственной научности, но и тех форм научности, на которые претендует физическое,
физиологическое, экономическое знание о человеке. Конструктивная сторона гуманитарности —
это построение новых знаков, означаемым которых становится сам гуманитарный субъект,
человек, не столько открывающий нечто в мире объектов, сколько производящий собственную
субъективность методами самоназначения и самообозначения.
Эта конструктивная сторона гуманистики сегодня все больше затребована точными и
естественными науками. На протяжении всего XX века гуманистика испытывала комплекс
неполноценности перед математикой, физикой, биологией. Но по мере того, как новейшие
технологии, исходя из естественно-научных и математических данных, пытаются приблизиться к
созданию искусственной жизни и разума, они все более вступают на гуманитарную территорию.
Как теперь
12
выясняется, именно то, что делает гуманистику не вполне научной— обратимость ее субъекта-
объекта, семантическая размытость и даже метафоричность ее языка, — составляет высший
интерес точных дисциплин, ту вершину самосознающей и самоорганизующейся жизни, к которой
они стремятся.
Не случайно с 1970—1980-х годов все больше ведущих ученых-естественников обращаются к
гуманис-тике, прежде всего к проблемам сознания, творчества, интуиции, свободной воли, к
лингвистическим, этическим и даже теологическим проблемам. Причем именно в качестве
ученых, ищущих объяснения тем проблемам мироустройства, с которыми они профессионально
сталкиваются в своих дисциплинах (в основном физико-математических). Дэвид Бом, Джон
Бэрроу, Фримэн Дайсон, Пол Дэвис, Роджер Пенроуз, Фрэнк Типлер, Джон Уилер... По мере того
как физика пытается соединить все известные ей аспекты мироздания, в частности теорию
относительности и квантовую механику, в теорию всего, выясняется, что главным недостающим
звеном в этой «великой цепи бытия» может оказаться именно человеческое сознание, в котором
преломляются все грани микро- и макровселенной. Физическую картину мира невозможно
достроить изнутри самой физики, в этой головоломке не хватает именно гуманитарного кусочка.
Так, Джон Уилер, Фрэнк Типлер и Джон Бэрроу разработали известный «антропный принцип»,
согласно которому физические параметры вселенной таковы, чтобы сделать возможным
присутствие в ней сознающего ее человека. Джон Экклс (нобелевский лауреат 1963 года по
физиологии и медицине) и Роджер Пенроуз (один из крупнейших современных физиков)
выступили, независимо друг от
13
друга, с квантовой теорией сознания, которая находит место для свободы воли и творческих
задатков мысли в странном поведении квантов на уровне мозговых клеток, нейронов и
межнейронных синапсов.
Обращение к гуманистической проблематике обусловлено еще и тем, что некоторые естественные
науки отчасти исчерпали свой ресурс экспериментальных исследований и не имеют эмпирических
данных, чтобы подтвердить или опровергнуть интереснейшие гипотезы, возникающие на кончике
пера Наука упирается в предел человеческой способности мыслить и описывать вселенную — или
измышлять и воображать ее. Симптоматично название нашумевшей книги Джона Хоргана «Конец
науки: Перед лицом пределов знания в сумерках века науки». Книга вобрала в себя интервью с
крупнейшими учеными в десяти дисциплинах, от физики и космологии до теории хаоса и
эволюционной биологии, и отражает их в основном пессимистический взгляд на возможность
объективной, позитивной науки. Хорган называет современную науку, пережившую свой конец,
«иронической» и сравнивает ее с литературной критикой, где высказываются и оспариваются
разные интересные мнения, которые никак не ведут в направлении объективной истины
1
. Зато они
ведут в направлении человеческого субъекта и прокладывают новые пути его саморефлексии.
Росту научного престижа и влияния гуманистики способствовала и антипозитивистская
философия науки, манифестом которой стала книга Томаса Куна «Структура научных
революций» (1962). Хотя Т. Кун рассмат-
1
Morgan John. The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age. NY: Broadway Books, 1997. P. 7.

14
ривал парадигмальные сдвиги только в естественных науках, сам механизм таких сдвигов
получает у него, в сущности, гуманитарное объяснение— как изменение взгляда научного
сообщества на изучаемые явления. На множестве примеров Т. Кун показывает, что к научным
революциям ведет не открытие новых фактов и даже не новая интерпретация имеющихся фактов,
а внезапное изменение взгляда на мир, которое он сравнивает с эффектом переключения
зрительного гештальта
1
. Взгляд ученого, если проследить его до конца, ведет опять-таки от
видимого к видящему. Еще более радикальные выводы из куновской концепции были сделаны
методологией науки конца XX века, где начинает преобладать конструктивизм, т. е. представление
о научных теориях и понятиях как о культурных конструктах, содержание которых задается
человеческим субъектом. Поворот к гуманитарной проблематике, таким образом, определяется
всем ходом развития науки XX века в ее отталкивании от позитивизма.
«Теорема Гёделя о неполноте, Теорема Черча о
1
Томас Кун рассматривает парадигмальные сдвиги в контексте опытов с визуальным восприятием и различением фигур в гештальт-
психологии, но было бы поучительно провести также параллель с теорией остранения в русском формализме Представление
привычного как странного, «вывод вещи из автоматизма восприятия» (Виктор Шкловский) может объяснить и смену стилей в
искусстве, и смену парадигм в науке. Научная революция описана у Т. Куна почти в искусствоведческих терминах, как обретение
нового видения: «Это выглядит так, как если бы профессиональное сообщество было перенесено в один момент на другую планету, где
многие объекты им незнакомы, да и знакомые объекты видны в ином свете. <_> После этого события ученые часто говорят о "пелене,
спавшей с глаз" или об "озарении", которое освещает ранее запутанную головоломку, тем самым приспосабливая ее компоненты к
тому, чтобы увидеть их в новом ракурсе.» (Кун Томас. Структура научных революций (1962} Гл. 10. М: ACT, 2001 С. 151, 164)
15
неразрешимости, Теорема остановки Тюринга, Теорема Тарского об истине..» (Д. Хофштадтер).
По сути, все дисциплины, от которых зависит будущее цивилизации, включая математику,
кибернетику, информатику, ког-нитивистику, семиотику, нейропсихологию, теорию и практику
построения искусственного интеллекта, — все они оказываются заложниками специфически
гуманитарной проблемы. Именно туманитарность является средоточием не только человеческой
саморефлексии, но и вообще саморефлексивной способности разума, кому бы он ни
принадлежал— богу, человеку или машине. Гуманитариям нечего жаловаться на периферийность
своих занятий в технизированном укладе XXI века. Высшая техника, способная вычислять и
мыслить, не может состояться без саморефлексии, без обучения ремеслу «быть самим собой»,
«познавать себя», «говорить о себе». В этом смысле гуманистика находится на переднем плане
всех прорывов кибер-, нейро- и биотехнологий в будущее.
* * *
Итак, выражение «знак пробела», вынесенное в заголовок этой книги, относится прежде всего к
самому человеку. При этом оно несет в себе намеренную двусмысленность. Пробел— это
отсутствие, нехватка знака. Но попытка обозначить эту нехватку ведет к построению знаков
нового уровня. Собственно, именно глубина пробела и позволяет множить заполняющие его
знаки. Выражаясь словами Романа Якобсона, задача книги — «исследовать сложные и
причудливые соотношения между двумя переплетающимися поняти-
1
Якобсон Роман. Нулевой знак // Избранные работы. М: Прогресс, 1985. С. 230.
16
ями — знаком и нулем»*. Эта задача ведет от анализа значимых пробелов в современной культуре
к синтезу новых знаков — терминов, концептов, дискурсов нового поколения. От аналитического
уклона, который приобрела философия и филология в XX веке, мы пытаемся проложить путь к
синтетической и генеративной теории XXI века. Эта теория не просто исследует то, что уже
сформировалось в гуманитарном поле, но сама порождает «семейства» новых концепций, жанров
и дисциплин.
Каждая из глав представляет собой попытку артикуляции какого-то системного пробела в одной
из существующих или нарождающихся дисциплин, попытку найти место для нового знака,
мыслительного конструкта, Который дополнял бы общую систему гуманитарных понятий и
вместе с тем очерчивал бы возможность дальнейших движений мысли. Например, глава с
непроизносимым названием « » обращается собственно к текстуальным пробелам, белому фону
письма, означивание которого может придать новый импульс философии языка и внести в
филологию такое направление, как экология текста. Дальнейшее расширение философского языка
путем включения служебных слов, в частности предлога «в», в число его основных категорий
составляет содержание главы о частотном словаре и картине мира. В отдельной главе

рассматривается понятие интересного, которое обычно используется нерефлективно в оценке
самых разных культурных явлений, но заслуживает самостоятельной концептуализации, как один
из ключевых критериев современного критического мышления. Еще одна глава освещает
становление гуманологии как нового дисциплинарного поля, включающего человека и те фор-
17
мы искусственного разума, которые потенциально могут с ним соперничать или его превзойти.
Одна из центральных глав «Debut de siecle Манифест протеизма» охватывает принципы нового
гуманитарного мировоззрения, которое утверждается у истоков XXI века по контрасту как с
постмодерном, так и с авангардом предыдущего века. Несколько глав посвящены проблемам
знакотворчества и словотворчества (семиургии), в которых наиболее целенаправленно выражена
конструктивная задача гуманистки — синтез нового языка и новых понятий, раздвижение границ
мыслимого и говоримого.
Эта книга— развитие тех стратегий исследования, которые складывались в моих предыдущих
книгах «Постмодерн в России: литература и теория» (М., 2000) и «Философия возможного:
модальности в мышлении и культуре» (СПб, 2001). Если в первой рассматриваются итоги
большой культурной эпохи постмодернизма, завершившейся в 1990-е годы, то вторая— это
введение в модальность новой эпохи, обоснование философии в сослагательном наклонении.
Теперь пришла пора более конкретно очертить те возможности гуманитарного мышления,
которые в общем виде определились в «Философии возможного». Исторический взгляд назад —
теоретический взгляд вверх — теоретико-исторический взгляд вперед: так схематически можно
обозначить соотношение трех книг. Разумеется, каждая часть этой трилогии существует на
собственных правах и может быть прочитана независимо от других.
Задача возможностного мышления вовсе не в том, чтобы свести концы с концами и предложить
законченную теорию предмета. Напротив, «концы» должны
18
расходиться как можно дальше, очерчивая тающие границы теоретического поля, не сводимые в
один план или концепцию. Такой расходящийся дискурс занимает все более видное место в
современной гуманис-тике. Если сходящийся дискурс пытается объединить разные идеи в одну
логическую конструкцию, связать все со всем, то расходящийся дискурс, напротив, развязывает
узлы понятий, оставляя свободно болтающиеся концы,— разбегается в неизвестность, как сама
обозримая вселенная
1
.
Такой подход точнее было бы назвать не футурологией, а футуроскопией. Футурология,
популярная дисциплина 1960—1970-х годов, пыталась предсказать будущее, выстроить его в
линейной перспективе растущих тенденций, тогда как футуроскопия обозревает разные варианты
и горизонты будущего без попытки подчинить их единой логике развития. Это своего рода
1
Что дискурсу свойственно «разбегаться», свидетельствует сама этимология этого термина (от латинского dis + currere, буквально
«разбегаться»). Различие сходящегося и расходящегося дискурсов пересекает границы философских школ и направлений.
«Философские исследования» А Витгенштейна— пример расходящегося дискурса, тогда как почти все его сомышленники и
продолжатели по аналитической философии работали в стратегии сходящегося. В постструктурализме труды М, Фуко по археологии
знания и генеалогии власти — это сходящийся дискурс, а «Тысячи Плато» Ж. Делеза и Ф. Гваттари — расходящийся. Приведем
характерное признание А Витгенштейна из его предисловия к «Философским исследованиям»: «„Как только я пытался принудить мои
мысли идти в одном направлении вопреки их естественной склонности, они вскоре оскудевали. И это было, безусловно, связано с
природой самого исследования. Именно оно принуждает нас странствовать по обширному полю мысли, пересекая его вдоль и поперек
в самых различных направлениях Философские заметки в этой книге— это как бы множество пейзажных набросков, созданных в ходе
этих долгих и запутанных странствий» (Витгенштейн А. Философские работы. М: Гнозис, 1994. Ч. 2. С 77).
19
ландшафтное видение будущего как множества веерообразно расходящихся и не заслоняющих
друг друга будущностей.
* * *
Я благодарен Центру гуманитарных исследований университета Эмори (Center for Humanistic
Inquiry, Emory University) в Атланте, США, за возможность посвятить академический год 2002/03
работе над проектом «Будущее гуманитарных наук». Некоторые темы и аспекты этой работы
отразились в данной книге. Я глубоко признателен издательству «НЛО», Ирине Прохоровой за то,
что они поддержали замысел книги и чутко и терпеливо отнеслись к метаморфозам ее созревания.
Журнальные варианты отдельных глав печатались в периодических изданиях «Вопросы
философии», «Иностранная литература», «Звезда», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь»,
«Комментарии», «Lettre International», «Common Knowledge», «Rhizomes: Cultural Studies in
Emerging Knowledge» и др. Для данного издания многие из них существенно переработаны.
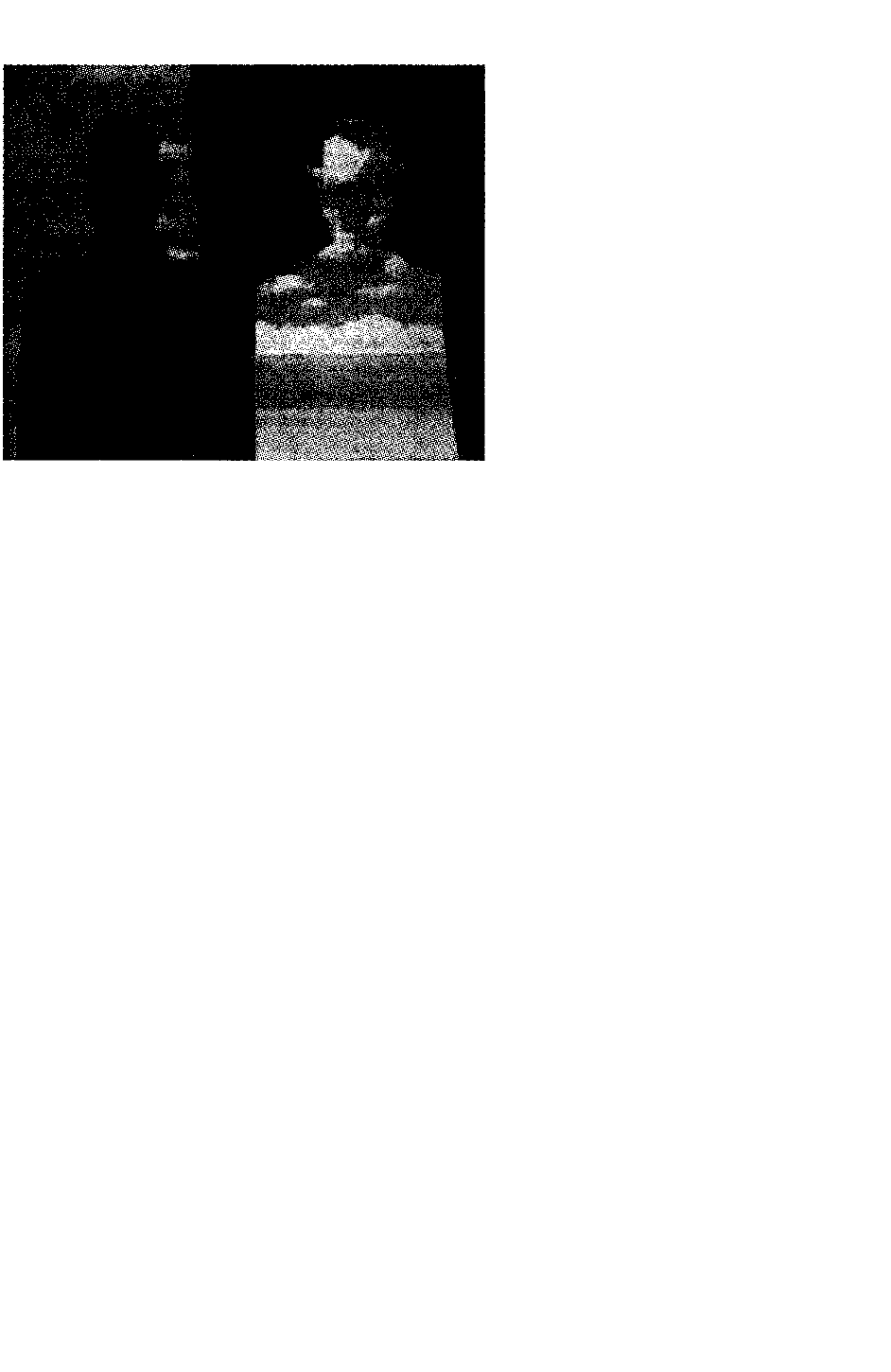
ВВЕДЕНИЯ
Рене Магритт «Перенос» (1966)
О ситуации
От «пост-» к «прото-»
Среди понятий и терминов, определивших самосознание культуры и движение гуманитарных наук
конца XX века, первое место занимают не существительные или прилагательные, а приставка
«пост-». Постмодернизм, постструктурализм, постисторизм, постутопизм, постколониализм,
посткоммунизм и множество других «постов» приклеивались ко всевозможным явлениям, чтобы
поскорее сдать их в архив. Магия приставки «пост» позволяла отметить знаком прощания и
отодвинуть в прошлое все, что еще вчера представлялось современным и актуальным. Можно
было легко расквитаться с урбанизмом или лиризмом, христианством или либерализмом, наклеив
на них ярлычок «пост» и представив свою передовую позицию/ идентичность как постурбанизм,
постлиризм, постхристианство, постлиберализм».
Такой способ обновления, однако, чреват собственным поражением. «Пост»-мышление страдает
зависимостью от тех самых понятий, которые пытается оставить в прошлом, — тянет за собой их
концептуальный послед. Например, понятие «постструктурализм» намертво приковано к тому
самому структурализму, от которого стремится уйти подальше. Эта зависимость от прошлого
становится еще более очевид-
23
ной в случае модного ныне умножения самих «постов», когда, например, постмодернизм в свою
очередь отбрасывается в прошлое смелым добавлением к нему еще одного «пост»: пост-
постмодернизм. На одном академическом философском сайте можно найти такие примеры «пост»
и «пост-пост» дискурса:
«Недавние споры в гуманитарных науках сосредоточились на периоде постистории, пост-
постмодернос-ти, постискусства, посткапитализма, постфилософии, пост-постструктурализма,
постгендера, пострасы, пост-метанарративов: перечень столь же нескончаемый, как и сами
споры»
1
.
Такое механическое добавление приставки: пост-постмодерностъ, пост-постструктурализм —
освобождает от необходимости качественного определения новизны и, как в принципе
бесконечный самоповтор, приближается к самопародии.
Однако на рубеже XX—XXI веков наблюдается радикальный сдвиг в самосознании культуры. Мы
живем не после (модернизма, структурализма, утопизма, коммунизма».), но в самом начале
нового периода, который лучше всего характеризуется приставкой «прото-»: про-тоглобальный,
протоинформационный, протовирту-альный... Например, наша цивилизация может быть названа
протоглобальной, потому что собственно гло-
1
http://www.um.edu.mt/news/philosophysoc.html
Известный политолог и историк современности Сэмюэл Хантингтон назвал такое мировоззрение, которое объявляет конец
всему, «эн-дизмом» («endism», «концевизм»)- В качестве примера он приводил известную концепцию Фрэнсиса Фукуямы о

«конце истории», обнародованную в конце 1980-х. Но если последующая история чему-то учит, то неминуемому концу самого
эндиэма. CMJ Huntington Samuel P. No Exit: The Errors of Endism // The National Interest. 1989. September.
24
бальность предполагает, согласно общепринятому научному определению, впервые выдвинутому
советским астрофизиком Н.С. Карадашевым, овладение всеми источниками энергии на данной
планете и способность регулировать и изменять ее климат (цивилизация первого типа —
«планетарная»). По оценкам специалистов, нашей цивилизации потребуется еще три-четыре века,
чтобы стать подлинно глобальной.
Сошлемся на суждения выдающихся современных ученых, физика Стивена Хокинга и биолога
Эдварда Уилсона, которые склонны определять наше время в терминах «прото», а не «пост».
Стивен Хокинг пишет в книге «Вселенная в сжатом изложении»: «..теперь мы стоим в начале
новой эры, когда мы будем способны усложнять наш внутренний код, ДНК, не дожидаясь
медленных результатов биологической эволюции»
1
. Тем самым нынешнее состояние человечества
можно охарактеризовать как протобиотехническое.
Эдвард УИЛСОН отмечает в своей книге «Соударение: Единство знания»: «Предсказуемые синтезы
[между различными ветвями знания], конечная цель науки, все еще находятся на ранней стадии,
особенно в биологии»
2
. Отсюда следует, что нынешняя стадия междисциплинарного
сотрудничества может быть названа про-тосинтетической.
Такие «прото» вездесущи на рубеже веков. Растущие мощности компьютеров — свидетельство
становления искусственного протоинтеллекта; генетические эксперименты, в частности
клонирование,— намек на
1
Hawlmg Stephen. The Universe in a Nutshell, New York et al: A Bantam Bookp. 2001. P. 165.
г
Wuson Edward 0. Consilience: The Unity of Knowledge. New York: Vintage Books, 1999. P. 136.
25
возможность искусственной протожизци; всемирная электронная сеть — зародыш
протоглобального сотрудничества умов и коллективного, проторазума.
Интересно, что термин «пост» часто по привычке применяется к тем явлениям, которые более
уместно обозначить как «прото». Н. Кэтрин Хэйлес в своей известной и влиятельной книге «Как
мы стали постчеловеками» определяет наше время в терминах «пост»:
«Прежде всего, постчеловеческое ставит информационную модель выше ее материального
воплощения, так что наше воплощение в биологическом субстрате рассматривается скорее как
историческая случайность, а не неизбежность жизни»
1
.
Однако, если следовать логике этого объяснения, нынешнее состояние цивилизации следует
охарактеризовать скорее как протоинформационное, а не постчеловеческое. Человеческое тело
все чаще рассматривается как знаковое устройство, совокупность информационных процессов,
происходящих на всех уровнях организма. Норберт Винер в свое время предположил, что
впоследствии человека можно будет передавать, как сообщение, по телеграфу
2
. Другой
выдающийся теоретик робототехники и информационного века Ханс Моравец полагает
возможным загрузить содержание человеческого сознания в память компьютера
3
. Все это говорит
не о конце человека, но о начале превращения его материальных составляющих в
информационные.
1
Hayks N. Katberine. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago; London: The
University of Chicago Press, 1999. P. 2.
1
Wiener Nobert. The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society, 2d ed. Garden City, N.Y: Doubleday, 1954. P. 103—104.
3
Moravec Hans. Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence. Cambridge: Harvard University Press, 1988. P. 109—
110.
26
Хотя вся книга Н. Кэтрин Хэйлес, начиная с заглавия, пронизана «пост»-концептами,
знаменательно, что в заключении «Что это значит — быть постчеловеком?» автор, в сущности,
ставит под вопрос уместность этой терминологии:
«Но постчеловеческое на самом деле не означает конца человеческого. Оно означает только конец
определенной концепции человека, как автономного существа, осуществляющего свою волю через
индивидуальное действие и выбор»
1
.
Как ни относиться к такому радикальному заявлению, очевидно, что речь идет по существу не о
«постчеловеке», но о «проточеловеке», о начале экспансии человека за пределы собственного
тела, о перспективе превращения тела в цифровой луч, информационный поток.
«...В этой постчеловеческой модели... функции человека расширяются, потому что расширяются
параметры обитаемой им когнитивной системы. Речь не о том, чтобы отказаться от тела, оставить

его позади, но о том, чтобы распространять воплощенное сознание самыми разными
специфическими, локальными, материальными путями, чего невозможно достичь без электронных
протезов»
2
.
В понимании Хэйлес, «постчеловеческое», таким образом, предполагает не устранение, но скорее
расширение человеческого, которое начинает выходить за рамки телесности через систему
электронных преобразователей, усилителей, удлинителей, превращающих тело в информационное
поле, не замкнутое границами пространства и времени. Очевидно, что такая перс-
1
Hayles N. Katharine. Op. tit P. 286.
1
Ibid P. 290—291.
27
пектива относится к мировоззрению «прото», которое предполагает открытость будущего, а не
завершенность прошлого.
Представление о симметричности «начала» и «конца», об их обязательной соотносительности
искажает асимметричную природу времени. Время — это свойство незавершимости,
преобладание начал над концами. Возьмем, к примеру, литературные жанры. Трагедия, комедия,
роман, эссе — все они имеют более или менее определенные исторические начала, но конца этим
жанровым образованиям не видно, они скрываются за горизонт. Все, что мы знаем об этих жанрах,
есть лишь прообразы их возможного будущего, «про-тожанры». Так понятое начало, которое
ведет в открытое будущее, являя возможность продолжений и He-представимость концов, можно
обозначить как «прото».
М.М. Бахтин, утвердивший категорию незавершимости в сознании наших современников, отмечал
с сожалением: «На первом плане у нас готовое и завершенное. Мы и в античности выделяем
готовое и завершенное, а не зародышевое, развивающееся. Мы не изучаем долитературные
зародыши литературы (в языке и обряде)»
1
. В другой записи Бахтин противопоставляет два
подхода к проблеме жанра
1
«завершающий» — и «зачинающий», или, в современных терминах,
«пост» и «прото»: «Жанр, как композиционно определенное (в сущности — застывшее) целое, и
жанровые зародыши (тематические и языковые) с еще не развившимся твердым композиционным
костяком, так сказать, "пер-вофеномены" жанров»
2
.
1
Бахтин М.М. Рабочие записи 60-х — начала 70-х гг. // Собр. соч: В 6 т. М; Русские словари. Языки славянской культуры. М,
200Z Т. 6. С 398.
2
Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М; Худож. лит., 1986. С. 513.
Суть не только в том, чтобы изучать первофеноме-ны уже известных, сложившихся жанров, но и в
том, чтобы изучать прафеноменальность как таковую, на стадии ее сложения, когда судьба жанра
еще принадлежит будущему, точнее, одной из возможностей будущего.
Приставка «прото», которой я предлагаю обозначить очередной и назревший сдвиг в «пост-пост-
постмодернистской» культуре, есть радикальный переход от конечности к начальности как к
модусу мышления.
Томас Кун уподобляет смену научных парадигм мгновенному сдвигу видения в опытах
гештальтпсихо-логии, когда один и тот же рисунок вдруг начинает восприниматься совершенно
иначе. «То, что казалось ученому уткой до революции, после революции оказывалось кроликом»
1
.
Таким же образом меняется концептуальный узор и в современных гуманитарных науках: там, где
еще недавно виделось завершение, «пост», вдруг открывается новое начало, «прото». Все, что пре-
дыдущее поколение воспринимало под знаком «пост», новое поколение видит как «прото», 'как
подступ к новой эпохе, набросок новой культурной формации.
Конец реальности, о котором так много говорили «пост»-мыслители, особенно Ж. Бодрийяр... Для
поколения середины 1990-х, возлелеянного в пеленках электронных сетей, так называемый «конец
реальности» — это только начало новой виртуальной эры.
Конец субъекта, смерть автора, стирание подписи, о которых возвещали Луи Альтюссер, Ролан
Барт, Мишель Фуко... На самом деле этим возвещается не
Кун Томас. Структура научных революций (гл. 10). М: ACT, 2002. С 151.
29
конец, но скорее начало новой эпохи умножения авторских личностей и концептуальных персон
1
.
Смерть утопии, провозглашенная Ж.-Ф. Лиотаром и Ж Бодрийяром..
В 1990-е утопия воскресает рке не как социальный проект, направленный на переделку мира, но
как новая интенсивность опыта, более масштабный горизонт сознания, которое не хочет
замыкаться в игре с прошлым или «вечным настоящим», но ищет радикально иного будущего.
