Бибихин В.В. Другое начало
Подождите немного. Документ загружается.

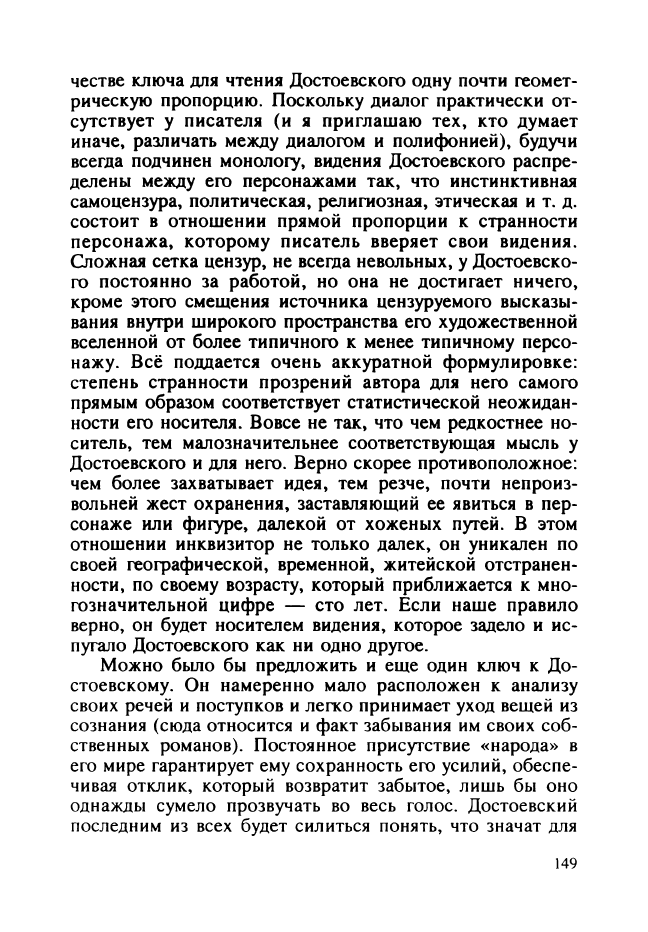
честве ключа для чтения Достоевского одну почти геомет-
рическую пропорцию. Поскольку диалог практически от-
сутствует у писателя (и я приглашаю тех, кто думает
иначе, различать между диалогом и полифонией), будучи
всегда подчинен монологу, видения Достоевского распре-
делены между его персонажами так, что инстинктивная
самоцензура, политическая, религиозная, этическая и т. д.
состоит в отношении прямой пропорции к странности
персонажа, которому писатель вверяет свои видения.
Сложная сетка цензур, не всегда невольных, у Достоевско-
го постоянно за работой, но она не достигает ничего,
кроме этого смещения источника цензуруемого высказы-
вания внутри широкого пространства его художественной
вселенной от более типичного к менее типичному персо-
нажу. Всё поддается очень аккуратной формулировке:
степень странности прозрений автора для него самого
прямым образом соответствует статистической неожидан-
ности его носителя. Вовсе не так, что чем редкостнее но-
ситель, тем малозначительнее соответствующая мысль у
Достоевского и для него. Верно скорее противоположное:
чем более захватывает идея, тем резче, почти непроиз-
вольней жест охранения, заставляющий ее явиться в пер-
сонаже или фигуре, далекой от хоженых путей. В этом
отношении инквизитор не только далек, он уникален по
своей географической, временной, житейской отстранен-
ности, по своему возрасту, который приближается к мно-
гозначительной цифре — сто лет. Если наше правило
верно, он будет носителем видения, которое задело и ис-
пугало Достоевского как ни одно другое.
Можно было бы предложить и еще один ключ к До-
стоевскому. Он намеренно мало расположен к анализу
своих речей и поступков и легко принимает уход вещей из
сознания (сюда относится и факт забывания им своих соб-
ственных романов). Постоянное присутствие «народа» в
его мире гарантирует ему сохранность его усилий, обеспе-
чивая отклик, который возвратит забытое, лишь бы оно
однажды сумело прозвучать во весь голос. Достоевский
последним из всех будет силиться понять, что значат для
149
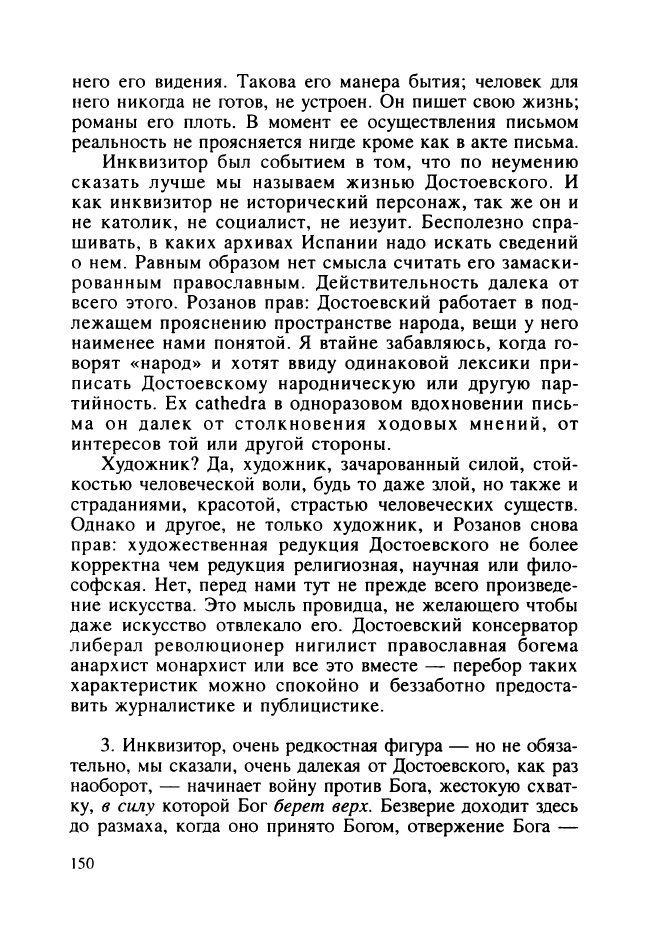
него его видения. Такова его манера бытия; человек для
него никогда не готов, не устроен. Он пишет свою жизнь;
романы его плоть. В момент ее осуществления письмом
реальность не проясняется нигде кроме как в акте письма.
Инквизитор был событием в том, что по неумению
сказать лучше мы называем жизнью Достоевского. И
как инквизитор не исторический персонаж, так же он и
не католик, не социалист, не иезуит. Бесполезно спра-
шивать, в каких архивах Испании надо искать сведений
о нем. Равным образом нет смысла считать его замаски-
рованным православным. Действительность далека от
всего этого. Розанов прав: Достоевский работает в под-
лежащем прояснению пространстве народа, вещи у него
наименее нами понятой. Я втайне забавляюсь, когда го-
ворят «народ» и хотят ввиду одинаковой лексики при-
писать Достоевскому народническую или другую пар-
тийность. Ex cathedra в одноразовом вдохновении пись-
ма он далек от столкновения ходовых мнений, от
интересов той или другой стороны.
Художник? Да, художник, зачарованный силой, стой-
костью человеческой воли, будь то даже злой, но также и
страданиями, красотой, страстью человеческих существ.
Однако и другое, не только художник, и Розанов снова
прав: художественная редукция Достоевского не более
корректна чем редукция религиозная, научная или фило-
софская. Нет, перед нами тут не прежде всего произведе-
ние искусства. Это мысль провидца, не желающего чтобы
даже искусство отвлекало его. Достоевский консерватор
либерал революционер нигилист православная богема
анархист монархист или все это вместе — перебор таких
характеристик можно спокойно и беззаботно предоста-
вить журналистике и публицистике.
3. Инквизитор, очень редкостная фигура — но не обяза-
тельно, мы сказали, очень далекая от Достоевского, как раз
наоборот, — начинает войну против Бога, жестокую схват-
ку, в силу которой Бог берет верх. Безверие доходит здесь
до размаха, когда оно принято Богом, отвержение Бога —
150
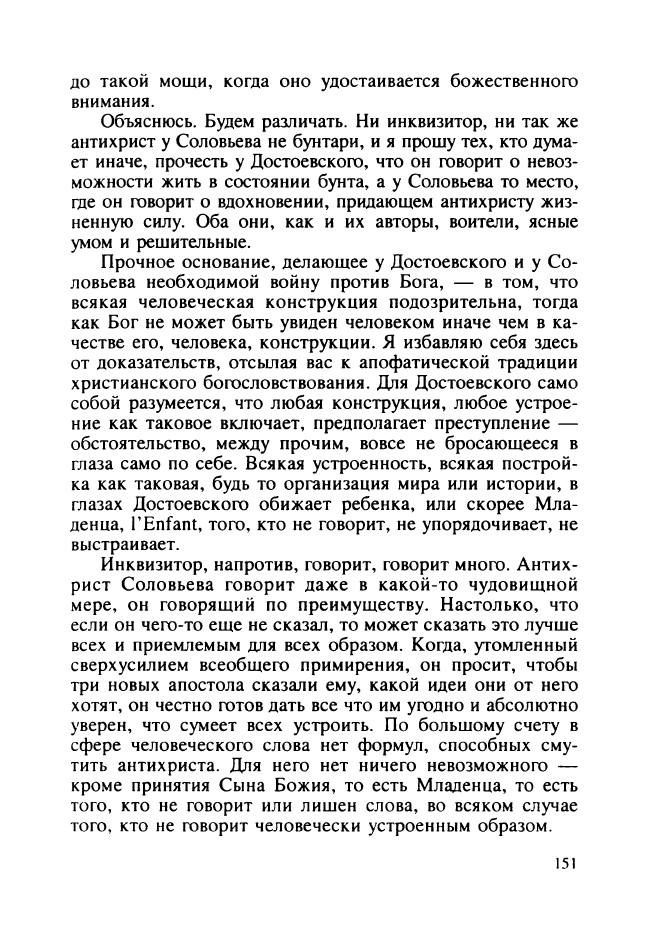
до такой мощи, когда оно удостаивается божественного
внимания.
Объяснюсь. Будем различать. Ни инквизитор, ни так же
антихрист у Соловьева не бунтари, и я прошу тех, кто дума-
ет иначе, прочесть у Достоевского, что он говорит о невоз-
можности жить в состоянии бунта, а у Соловьева то место,
где он говорит о вдохновении, придающем антихристу жиз-
ненную силу. Оба они, как и их авторы, воители, ясные
умом и решительные.
Прочное основание, делающее у Достоевского и у Со-
ловьева необходимой войну против Бога, — в том, что
всякая человеческая конструкция подозрительна, тогда
как Бог не может быть увиден человеком иначе чем в ка-
честве его, человека, конструкции. Я избавляю себя здесь
от доказательств, отсылая вас к апофатической традиции
христианского богословствования. Для Достоевского само
собой разумеется, что любая конструкция, любое устрое-
ние как таковое включает, предполагает преступление —
обстоятельство, между прочим, вовсе не бросающееся в
глаза само по себе. Всякая устроенность, всякая построй-
ка как таковая, будь то организация мира или истории, в
глазах Достоевского обижает ребенка, или скорее Мла-
денца, Г Enfant, того, кто не говорит, не упорядочивает, не
выстраивает.
Инквизитор, напротив, говорит, говорит много. Антих-
рист Соловьева говорит даже в какой-то чудовищной
мере, он говорящий по преимуществу. Настолько, что
если он чего-то еще не сказал, то может сказать это лучше
всех и приемлемым для всех образом. Когда, утомленный
сверхусилием всеобщего примирения, он просит, чтобы
три новых апостола сказали ему, какой идеи они от него
хотят, он честно готов дать все что им угодно и абсолютно
уверен, что сумеет всех устроить. По большому счету в
сфере человеческого слова нет формул, способных сму-
тить антихриста. Для него нет ничего невозможного —
кроме принятия Сына Божия, то есть Младенца, то есть
того, кто не говорит или лишен слова, во всяком случае
того, кто не говорит человечески устроенным образом.
151
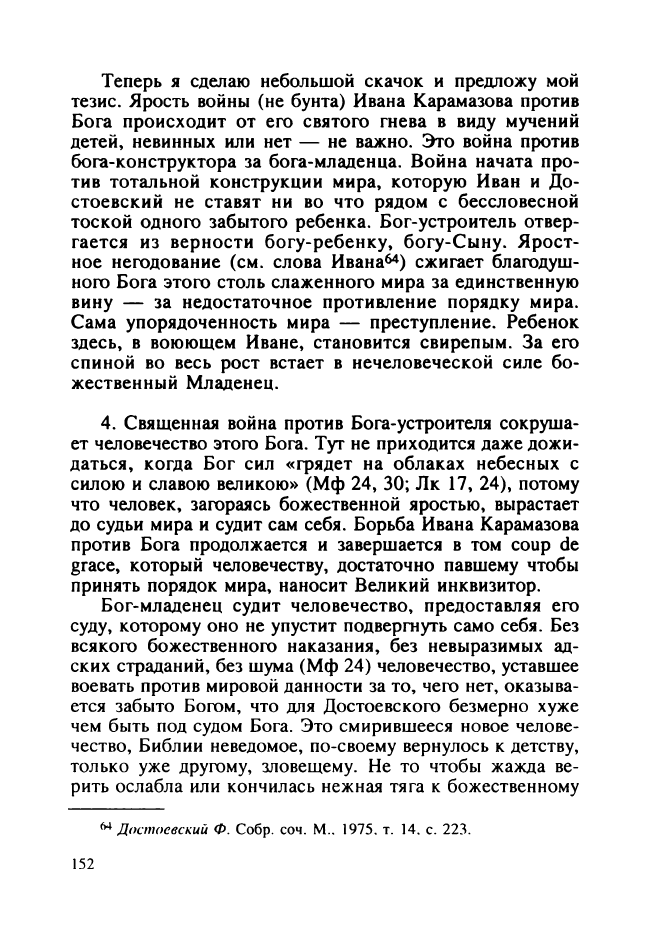
Теперь я сделаю небольшой скачок и предложу мой
тезис. Ярость войны (не бунта) Ивана Карамазова против
Бога происходит от его святого гнева в виду мучений
детей, невинных или нет — не важно. Это война против
бога-конструктора за бога-младенца. Война начата про-
тив тотальной конструкции мира, которую Иван и До-
стоевский не ставят ни во что рядом с бессловесной
тоской одного забытого ребенка. Бог-устроитель отвер-
гается из верности богу-ребенку, богу-Сыну. Ярост-
ное негодование (см. слова Ивана
64
) сжигает благодуш-
ною Бога этого столь слаженного мира за единственную
вину — за недостаточное противление порядку мира.
Сама упорядоченность мира — преступление. Ребенок
здесь, в воюющем Иване, становится свирепым. За его
спиной во весь рост встает в нечеловеческой силе бо-
жественный Младенец.
4. Священная война против Бога-устроителя сокруша-
ет человечество этого Бога. Тут не приходится даже дожи-
даться, когда Бог сил «грядет на облаках небесных с
силою и славою великою» (Мф 24, 30; Лк 17, 24), потому
что человек, загораясь божественной яростью, вырастает
до судьи мира и судит сам себя. Борьба Ивана Карамазова
против Бога продолжается и завершается в том coup de
grace, который человечеству, достаточно павшему чтобы
принять порядок мира, наносит Великий инквизитор.
Бог-младенец судит человечество, предоставляя его
суду, которому оно не упустит подвергнуть само себя. Без
всякого божественного наказания, без невыразимых ад-
ских страданий, без шума (Мф 24) человечество, уставшее
воевать против мировой данности за то, чего нет, оказыва-
ется забыто Богом, что для Достоевского безмерно хуже
чем быть под судом Бога. Это смирившееся новое челове-
чество, Библии неведомое, по-своему вернулось к детству,
только уже другому, зловещему. Не то чтобы жажда ве-
рить ослабла или кончилась нежная тяга к божественному
64
Достоевский Ф. Собр. соч. М.. 1975, т. 14. с. 223.
152
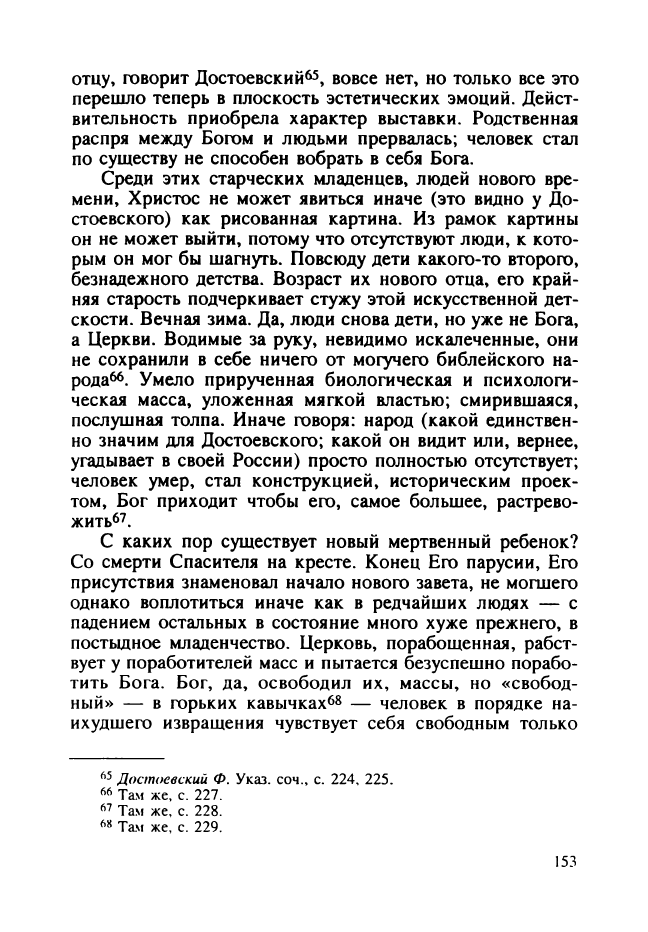
отцу, говорит Достоевский
65
, вовсе нет, но только все это
перешло теперь в плоскость эстетических эмоций. Дейст-
вительность приобрела характер выставки. Родственная
распря между Богом и людьми прервалась; человек стал
по существу не способен вобрать в себя Бога.
Среди этих старческих младенцев, людей нового вре-
мени, Христос не может явиться иначе (это видно у До-
стоевского) как рисованная картина. Из рамок картины
он не может выйти, потому что отсутствуют люди, к кото-
рым он мог бы шагнуть. Повсюду дети какого-то второго,
безнадежного детства. Возраст их нового отца, его край-
няя старость подчеркивает стужу этой искусственной дет-
скости. Вечная зима. Да, люди снова дети, но уже не Бога,
а Церкви. Водимые за руку, невидимо искалеченные, они
не сохранили в себе ничего от могучего библейского на-
рода
66
. Умело прирученная биологическая и психологи-
ческая масса, уложенная мягкой властью; смирившаяся,
послушная толпа. Иначе говоря: народ (какой единствен-
но значим для Достоевского; какой он видит или, вернее,
угадывает в своей России) просто полностью отсутствует;
человек умер, стал конструкцией, историческим проек-
том, Бог приходит чтобы его, самое большее, растрево-
жить
67
.
С каких пор существует новый мертвенный ребенок?
Со смерти Спасителя на кресте. Конец Его парусии, Его
присутствия знаменовал начало нового завета, не могшего
однако воплотиться иначе как в редчайших людях — с
падением остальных в состояние много хуже прежнего, в
постыдное младенчество. Церковь, порабощенная, рабст-
вует у поработителей масс и пытается безуспешно порабо-
тить Бога. Бог, да, освободил их, массы, но «свобод-
ный» — в горьких кавычках
68
— человек в порядке на-
ихудшего извращения чувствует себя свободным только
65
Достоевский Ф. Указ. соч., с. 224, 225.
66
Там же, с. 227.
67
Там же, с. 228.
68
Там же, с. 229.
153
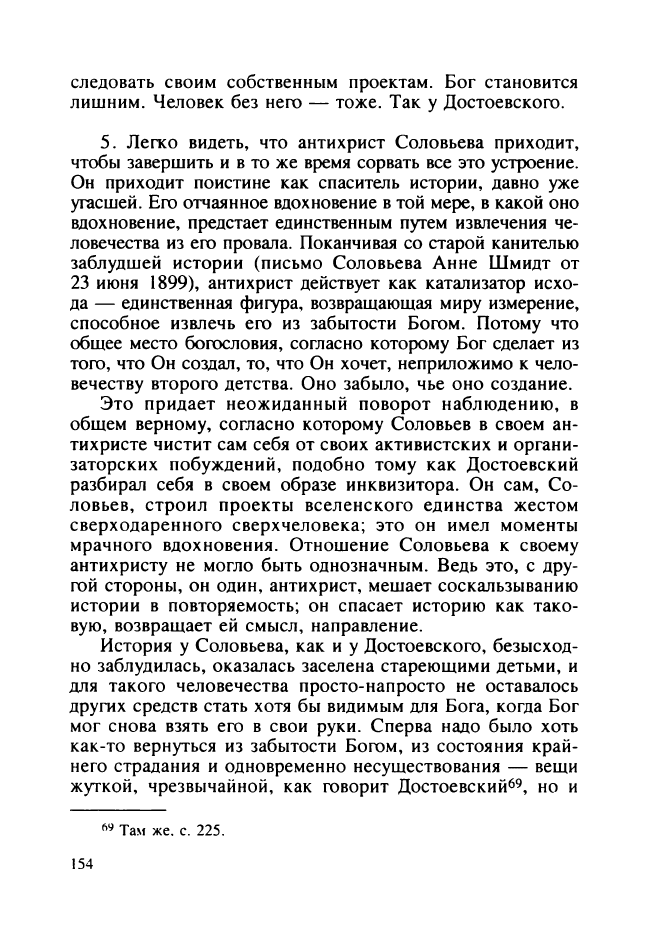
следовать своим собственным проектам. Бог становится
лишним. Человек без него — тоже. Так у Достоевского.
5. Легко видеть, что антихрист Соловьева приходит,
чтобы завершить и в то же время сорвать все это устроение.
Он приходит поистине как спаситель истории, давно уже
угасшей. Его отчаянное вдохновение в той мере, в какой оно
вдохновение, предстает единственным путем извлечения че-
ловечества из его провала. Поканчивая со старой канителью
заблудшей истории (письмо Соловьева Анне Шмидт от
23 июня 1899), антихрист действует как катализатор исхо-
да — единственная фигура, возвращающая миру измерение,
способное извлечь его из забытости Богом. Потому что
общее место богословия, согласно которому Бог сделает из
того, что Он создал, то, что Он хочет, неприложимо к чело-
вечеству второго детства. Оно забыло, чье оно создание.
Это придает неожиданный поворот наблюдению, в
общем верному, согласно которому Соловьев в своем ан-
тихристе чистит сам себя от своих активистских и органи-
заторских побуждений, подобно тому как Достоевский
разбирал себя в своем образе инквизитора. Он сам, Со-
ловьев, строил проекты вселенского единства жестом
сверходаренного сверхчеловека; это он имел моменты
мрачного вдохновения. Отношение Соловьева к своему
антихристу не могло быть однозначным. Ведь это, с дру-
гой стороны, он один, антихрист, мешает соскальзыванию
истории в повторяемость; он спасает историю как тако-
вую, возвращает ей смысл, направление.
История у Соловьева, как и у Достоевского, безысход-
но заблудилась, оказалась заселена стареющими детьми, и
для такого человечества просто-напросто не оставалось
других средств стать хотя бы видимым для Бога, когда Бог
мог снова взять его в свои руки. Сперва надо было хоть
как-то вернуться из забытости Богом, из состояния край-
него страдания и одновременно несуществования — вещи
жуткой, чрезвычайной, как говорит Достоевский
69
, но и
69
Там же, с. 225.
154
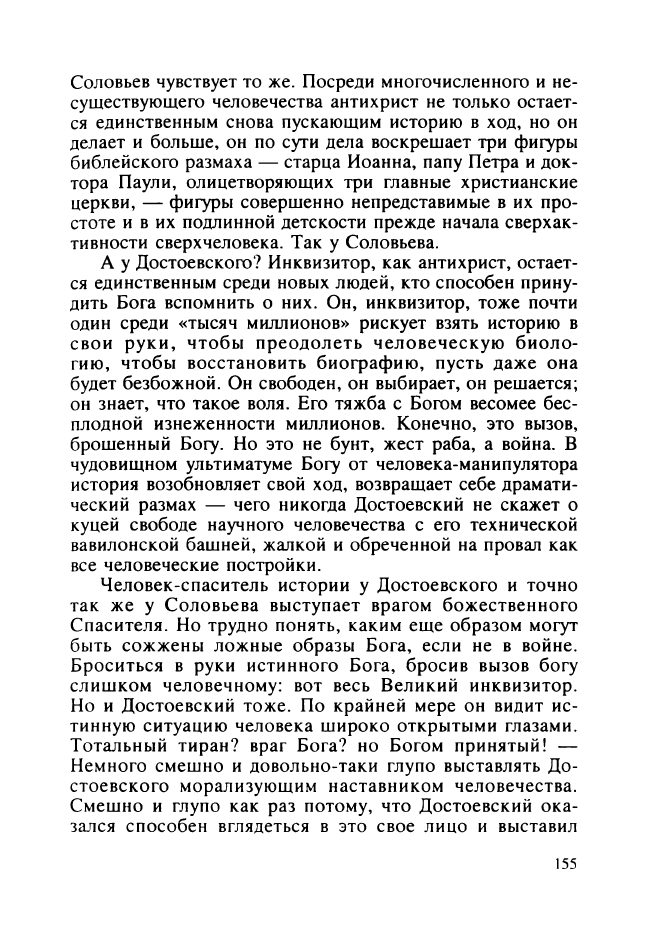
Соловьев чувствует то же. Посреди многочисленного и не-
существующего человечества антихрист не только остает-
ся единственным снова пускающим историю в ход, но он
делает и больше, он по сути дела воскрешает три фигуры
библейского размаха — старца Иоанна, папу Петра и док-
тора Паули, олицетворяющих три главные христианские
церкви, — фигуры совершенно непредставимые в их про-
стоте и в их подлинной детскости прежде начала сверхак-
тивности сверхчеловека. Так у Соловьева.
А у Достоевского? Инквизитор, как антихрист, остает-
ся единственным среди новых людей, кто способен прину-
дить Бога вспомнить о них. Он, инквизитор, тоже почти
один среди «тысяч миллионов» рискует взять историю в
свои руки, чтобы преодолеть человеческую биоло-
гию, чтобы восстановить биографию, пусть даже она
будет безбожной. Он свободен, он выбирает, он решается;
он знает, что такое воля. Его тяжба с Богом весомее бес-
плодной изнеженности миллионов. Конечно, это вызов,
брошенный Богу. Но это не бунт, жест раба, а война. В
чудовищном ультиматуме Богу от человека-манипулятора
история возобновляет свой ход, возвращает себе драмати-
ческий размах — чего никогда Достоевский не скажет о
куцей свободе научного человечества с его технической
вавилонской башней, жалкой и обреченной на провал как
все человеческие постройки.
Человек-спаситель истории у Достоевского и точно
так же у Соловьева выступает врагом божественного
Спасителя. Но трудно понять, каким еще образом могут
быть сожжены ложные образы Бога, если не в войне.
Броситься в руки истинного Бога, бросив вызов богу
слишком человечному: вот весь Великий инквизитор.
Но и Достоевский тоже. По крайней мере он видит ис-
тинную ситуацию человека широко открытыми глазами.
Тотальный тиран? враг Бога? но Богом принятый! —
Немного смешно и довольно-таки глупо выставлять До-
стоевского морализующим наставником человечества.
Смешно и глупо как раз потому, что Достоевский ока-
зался способен вглядеться в это свое лицо и выставил
155
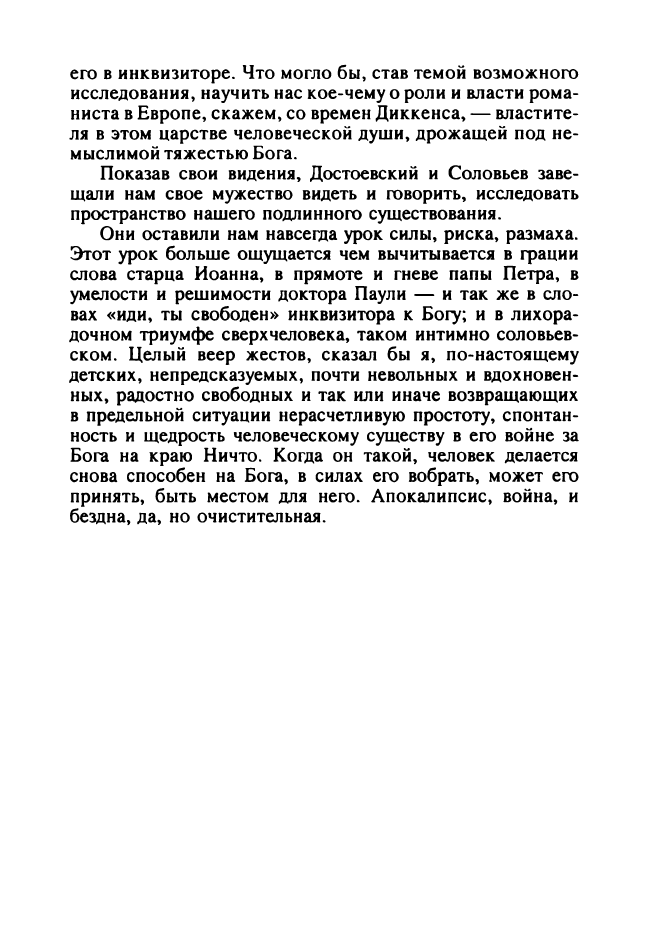
его в инквизиторе. Что могло бы, став темой возможного
исследования, научить нас кое-чему о роли и власти рома-
ниста в Европе, скажем, со времен Диккенса, — властите-
ля в этом царстве человеческой души, дрожащей под не-
мыслимой тяжестью Бога.
Показав свои видения, Достоевский и Соловьев заве-
щали нам свое мужество видеть и говорить, исследовать
пространство нашего подлинного существования.
Они оставили нам навсегда урок силы, риска, размаха.
Этот урок больше ощущается чем вычитывается в фации
слова старца Иоанна, в прямоте и гневе папы Петра, в
умелости и решимости доктора Паули — и так же в сло-
вах «иди, ты свободен» инквизитора к Богу; и в лихора-
дочном триумфе сверхчеловека, таком интимно соловьев-
ском. Целый веер жестов, сказал бы я, по-настоящему
детских, непредсказуемых, почти невольных и вдохновен-
ных, радостно свободных и так или иначе возвращающих
в предельной ситуации нерасчетливую простоту, спонтан-
ность и щедрость человеческому существу в его войне за
Бога на краю Ничто. Когда он такой, человек делается
снова способен на Бога, в силах его вобрать, может его
принять, быть местом для него. Апокалипсис, война, и
бездна, да, но очистительная.
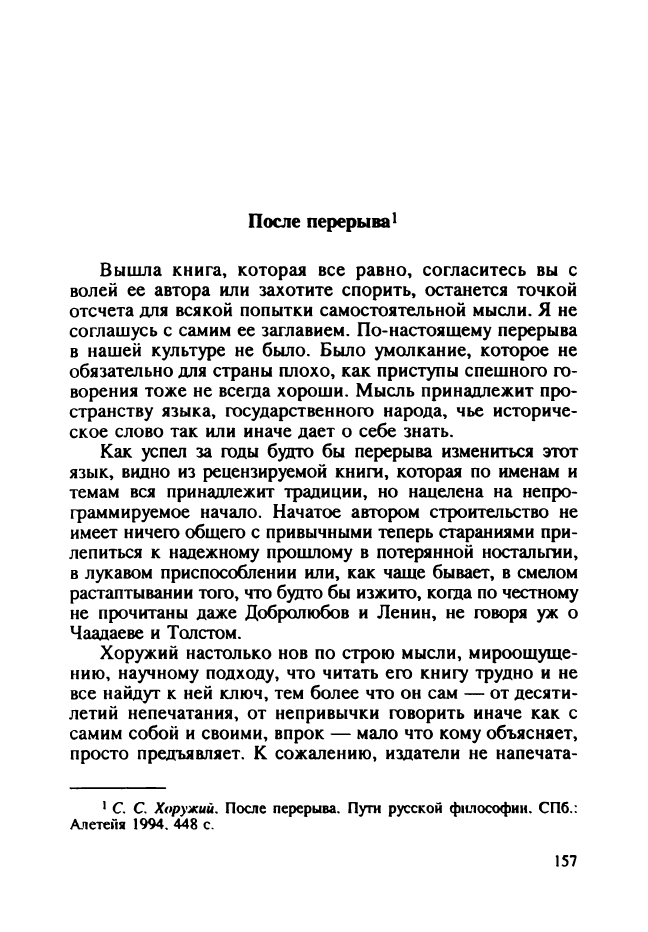
После перерыва
1
Вышла книга, которая все равно, согласитесь вы с
волей ее автора или захотите спорить, останется точкой
отсчета для всякой попытки самостоятельной мысли. Я не
соглашусь с самим ее заглавием. По-настоящему перерыва
в нашей культуре не было. Было умолкание, которое не
обязательно для страны плохо, как приступы спешного го-
ворения тоже не всегда хороши. Мысль принадлежит про-
странству языка, государственного народа, чье историче-
ское слово так или иначе дает о себе знать.
Как успел за годы будто бы перерыва измениться этот
язык, видно из рецензируемой книги, которая по именам и
темам вся принадлежит традиции, но нацелена на непро-
граммируемое начало. Начатое автором строительство не
имеет ничего общего с привычными теперь стараниями при-
лепиться к надежному прошлому в потерянной ностальгии,
в лукавом приспособлении или, как чаще бывает, в смелом
растаптывании того, что будто бы изжито, когда по честному
не прочитаны даже Добролюбов и Ленин, не говоря уж о
Чаадаеве и Толстом.
Хоружий настолько нов по строю мысли, мироощуще-
нию, научному подходу, что читать его книгу трудно и не
все найдут к ней ключ, тем более что он сам — от десяти-
летий непечатания, от непривычки говорить иначе как с
самим собой и своими, впрок — мало что кому объясняет,
просто предъявляет. К сожалению, издатели не напечата-
1
С С
Хоружий.
После перерыва. Пути русской философии. СПб.:
Алетейя 1994, 448 с.
157
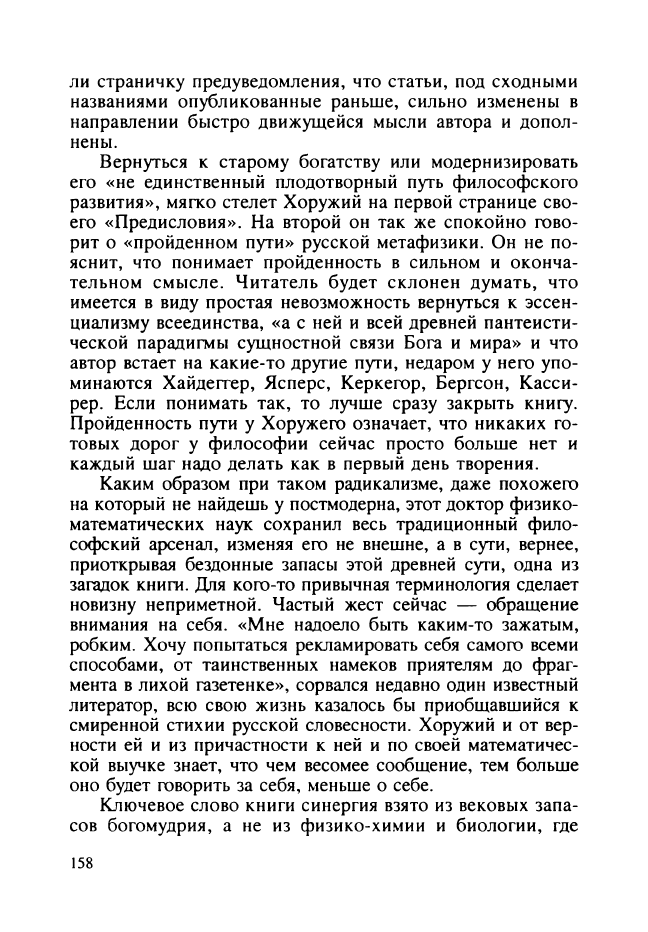
ли страничку предуведомления, что статьи, под сходными
названиями опубликованные раньше, сильно изменены в
направлении быстро движущейся мысли автора и допол-
нены.
Вернуться к старому богатству или модернизировать
его «не единственный плодотворный путь философского
развития», мягко стелет Хоружий на первой странице сво-
его «Предисловия». На второй он так же спокойно гово-
рит о «пройденном пути» русской метафизики. Он не по-
яснит, что понимает пройденность в сильном и оконча-
тельном смысле. Читатель будет склонен думать, что
имеется в виду простая невозможность вернуться к эссен-
циализму всеединства, «а с ней и всей древней пантеисти-
ческой парадигмы сущностной связи Бога и мира» и что
автор встает на какие-то другие пути, недаром у него упо-
минаются Хайдеггер, Ясперс, Керкегор, Бергсон, Касси-
рер. Если понимать так, то лучше сразу закрыть книгу.
Пройденность пути у Хоружего означает, что никаких го-
товых дорог у философии сейчас просто больше нет и
каждый шаг надо делать как в первый день творения.
Каким образом при таком радикализме, даже похожего
на который не найдешь у постмодерна, этот доктор физико-
математических наук сохранил весь традиционный фило-
софский арсенал, изменяя его не внешне, а в сути, вернее,
приоткрывая бездонные запасы этой древней сути, одна из
загадок книги. Для кого-то привычная терминология сделает
новизну неприметной. Частый жест сейчас — обращение
внимания на себя. «Мне надоело быть каким-то зажатым,
робким. Хочу попытаться рекламировать себя самого всеми
способами, от таинственных намеков приятелям до фраг-
мента в лихой газетенке», сорвался недавно один известный
литератор, всю свою жизнь казалось бы приобщавшийся к
смиренной стихии русской словесности. Хоружий и от вер-
ности ей и из причастности к ней и по своей математичес-
кой выучке знает, что чем весомее сообщение, тем больше
оно будет говорить за себя, меньше о себе.
Ключевое слово книги синергия взято из вековых запа-
сов богомудрия, а не из физико-химии и биологии, где
158
